Вас. Ив. Немирович-Данченко
Соколиные гнезда
Повесть из быта кавказских горцев
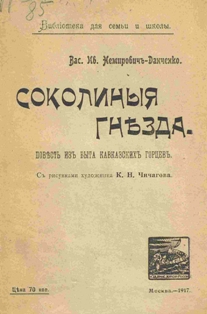
9-е издание редакции журнала "Юная Россия"
Москва – 1917
112 с.
Скачать книгу "Соколиные гнезда" в формате PDF (53,1 Мб)
HTML-версия:
Вас. Ив. Немирович-Данченко
Соколиные гнезда
Повесть из быта кавказских горцев
Старый грузин Нико медленно тащился домой...
Он не то, чтобы устал, слава Богу, — силен был и не такие концы делал! Но сегодня ему удалось подстрелить большого джейрана, который поневоле согнул ему спину.
Охотник перекинул добычу назад и держал ее за тонкие ноги, так что, издали казалось, будто джейран сидит у него на плечах, скрестив ноги на груди
у Нико. Только голова горной серны бессильно болталась: последнее дыхание жизни давно оставило несчастное животное.
Едва ли, впрочем, и человек был счастливее.
Нико, от нечего делать, на ходу прикидывал, сколько уже времени, как он переселился сюда из родной Имеретии. И там было не сладко. Слишком дорого обходилась земля, — своей у него не оказывалось; надо было нанимать; работы не попадалось тоже... Голодал, голодал, да со всей семьей и решился перебраться поближе к Пицунде, где правительство раздавало оставшиеся свободными участки, с которых в Турцию ушли абхазцы, не мирившиеся с новыми порядками, заведенными русскою властью.
Должно быть, впрочем, ему уж на роду было написано — ничего нигде не добиться. Несколько лет прошло, а ему все не легче. Дети растут. Мальчики, как и птицы, научившиеся летать сами, оставляют гнезда, а голодных ртов оттого не меньше! Один у него в Поти служит: едва сам кормится; другой — в Новороссийске: ничего не шлет домой, тоже, верно, горько приходится на чужой стороне; теперь третий, Михако, подрос и тоже задумываться стал... Пора и ему уже попробовать, насколько сильны молодые крылья. Этот смелее братьев, — в Тифлис просится. Легкое дело! В воображении Нико Тифлис разрастался до фантастических размеров и казался страшным, громадным, даже чудовищным; затеряется мальчик там, поди, — ищи его потом!
В Тифлисе живет брат Нико. Давным-давно туда уехал. Сначала мушою-носильщиком был, потом ему повезло, — свою лавку открыл.
Может быть, он поможет? Хотя на родных надежда плоха, все-таки на первых порах не так тяжело будет Михако бороться за каждый кусок хлеба...
Кругом была глушь и дичь.
Несколько часов Нико шел безлюдьем, отдыхал и снова пускался в дорогу. Далеко пришлось ему уйти сегодня на охоту. Хорошо еще, что не с пустыми руками домой придет.
Вот показались изгороди, опушенные розовыми лепестками нарциссов, ярких анемонов... Около росли какие-то дикие пахучие цветы; они издали слали ему благоухание, будто молчаливый привет. Какой-то сад чуть виднелся вдали со стриженными деревьями, похожими на шапки. Деревья эти были увешаны гирляндами винограда. На одну минуту мелькнули в траве скабиозы.
Нико было не до них. Он без церемонии мял их прелестные голубые цветы. Вот, наконец, и его сакля. Весь лужок перед нею устлан ими. Какой-то мальчонок с глазами больше его самого, с вьющимися локонами черных, как сажа, волос, безжалостно топчет цветы и борется с маленьким белым козлом. По-видимому, это доставляет величайшее удовольствие его сестренке, еще меньшей, с глазами еще крупнее, и кудрями, вьющимися еще прихотливее. Она хлопает крошечными ладошками, выкрикивает что-то, видимо, ободряя несколько струсившего козленка, и в восторге, неведомо к кому обращаясь, воспевает, вероятно, похвальный спич братишке пухлыми, точно пчелой ужаленными губками. Нико остановился вдали, невидимый ими. У него сладко, сладко забилось сердце, и он радовался тому, что ветви старого дерева защищают его от детей. Он долго любовался ими, вволю посмеялся над солидною важностью козленка, который точно дело делал, подставляя упрямый лоб маленькому шалуну и уморительно притоптывая о землю копытцами.
Плетневая сакля была здесь же, но жалкая-жалкая. Лучшей до сих пор не удалось еще поставить. Оказывалось, что и тут ему было дорого. Славны бубны за горами... Когда он сюда переселился, ему завидовали. — «Большой дом себе выстроишь, сладко есть будешь», — уверяли его. Вот и выстроил большой дом, — нечего сказать! Еще, слава Богу, что хоть есть защита от непогоды. Все лучше, чем под открытым небом...
Бедность сквозила отовсюду.
Зверолов зырянин в северной тундре устраивается богаче. Домашний обиход его житья — шире, обильнее. Хоть, разумеется, для того же зырянина, запирающегося на всю зиму, долгую и скучную, в свою избу, невозможны ни благоуханная чистота воздуха, которым дышат в этом горном жилье, ни то изящество обращения с гостями, которое свойственно всем южным народам. Неуклюж и грязен только раб или сын раба, не успевший стряхнуть с себя жалкого наследия мрачной старины. Человек свободный не бывает неповоротлив или груб. Любой крестьянин в Грузии и Абхазии, в горах Дагестана красив и ловок. Всюду и при всякой обстановке он сумеет отстоять свое достоинство, не растеряется, не ударит в грязь лицом. И в этой бедной семье переселенцев в Абхазском поморье можно было бы встретить столь же радушный и величавый прием, как и в других местах горного Кавказа.
Обитатели шалаша, Нико и его истощенная упорным трудом и преждевременно постаревшая жена, нисколько не стыдились бедности, и владетельный принц едва ли принял бы вас с таким же достоинством и радушием, как они. Разве только, заметив удивление посетителя, Нико с благородной гордостью сам бы объявил вам:
— Мы живем скудно, убого, да не стоить строиться: теперь здесь и так уютно.
Плетеные стены, свободно пропускающие благоуханный горный воздух, разумеется, гораздо лучше каменной темничной кладки. В Абхазии, впрочем, если что и прочно, — так это жилище мертвых. Они тщательно огорожены, лучше отстроены; их окружают старательно поддерживаемыми цветами. Могилы здесь не предмет суеверного страха, а, напротив, — род храма, святыни, к которой все относятся с религиозным благоговением.
Шалаш, куда вошел вскоре Нико, встреченный шумной радостью детей, был только началом абхазского поселка. За полверсты стояла другая лачуга, от нее, саженях в трехстах — третья. Четвертая в сторону забилась, пятая на вершину холма забралась и закуталась там от постороннего взгляда зелёною чащею дубов. Всего хижин двадцать разбросалось верст на десять. Здесь выбирают жилье по душе, мало думая о необходимости скучиваться.
В середине поселка — оглоданные временем развалины большой круглой башни. Основание ее было когда-то больше верхушки. Узкие бойницы начинаются сажен за пять от земли. Здесь вся эта абхазская деревушка во времена оны спасалась, когда ей грозило нашествие джигитов с севера или сванетов с востока. Разбойникам оставалось только сжечь хижины, истребить сады, угнать скот, который еще не успели спрятать хозяева, и поджигитовать, помолодечествовать перед башнею... в почтительном расстоянии от ее бойниц, откуда сыпались на грабителей мелкие пульки, или, еще ранее, — стрелы защитников. Про башню поселка, где жил Нико, рассказывали даже легенду из этого смутного времени.
Давно дело было.
Напали как-то джигиты, сожгли все, истребили сады.
Народ думал: уйдут враги; нет, стоят около башни, измором донять хотят. Кровь, видите ли, на этом селе была: обитатели его, в свою очередь, лет десять назад напали на джигитов и перебили их не мало.
Надоело абхазцам на башне отсиживаться.
Собрались молодцы, кто посмелее, и темною ночью ударили на врагов. Много было убито, но и отважная дружина легла до последнего человека. Остались на башне старики, женщины и дети.
Что было делать?
Еще неделю сидели, — весь хлеб прикончили, всю воду выпили, а дождя — нет как нет. Голод начался. Еще два дня прошло, — до отчаяния осада довела население башни. На третий день, зная, что от врага пощады не будет, матери решили с самой верхушки башни побросать детей, а потом и самим — вниз головою, хотя бы на подставленные копья и шашки. Только что вышли для этого наверх, грянул гром, и видимо-невидимо стало ангелов вокруг башни. Бросят ребенка, а ангелы его подхватывают и невредимо через стан врагов переносят за лес, в темное ущелье, о котором и не знали враги джигиты. Обрадовались взрослые, — всех детей побросали — и сами вслед за ними. Ангелы и их подхватывали на распущенные крылья. В ущелье они нашли детей. Те окружили толпой женщину чудной красоты, которая кормила их хлебом, молоком, плодами и вином поила. Только что показались взрослые, женщина эта исчезла, окруженная ангелами.
Это сама Мариам-Богородица была, и благодарные абхазцы, тогда еще не бывшие магометанами, возвели ей храм, величаво и одиноко стоящие теперь в развалинах среди отовсюду заполнившей его чащи. В этом храме по вечерам, пугая прохожих, рыдает филин, воет тоскливо чекалка, и только раз в году, в ночь на Рождество Христово, чудное сияние наполняет его, под сводами раздается громкое пение невидимых духов, и пламя тысячи кадил колеблется в воздухе. Только и видны раздувающиеся кадила и огни несметных свечей. Кто кадит, кто держит свечи, — различить нельзя, что-то смутное, точно белый туман волнуется в этом чудном сиянии. Это сама Мариам правит службу в своем забытом и заброшенном храме.
Спросишь у рассказчика:
— Ты сам видел?
— Разве у меня три головы?
— Откуда же ты знаешь?
— Старики говорили. Брат раз ехал за две горы от этой церкви и там слышал пение.
—- Что же он не подошел ближе.
— Разве можно?.. У нас ведь немало чудес. Вот в башне часто дитя плачет по ночам, поди-ка, послушай!
— Какое дитя?
— Дело такое было... страшное. Мать одна, — надоело ей работать и голодать, — бросила ребенка и ушла в турецкую сторону. Дитя осталось в башне и умерло без корму. С тех пор оно по ночам плачет и есть просит. А мать осуждена на другую муку. Она в полночь выходит из своей далекой могилы с хлебом в руках. Она хочет дать его ребенку, ходит кругом башни, да дитя остается ей невидимо. Ну, и стонет она, и бьется о стены, так что утром на них кровь видна бывает.
Вообще, это край легенд.
Нет здесь старого дерева, одиноко стоящего камня, развалины, давным-давно брошенной сакли, чтобы народ с ними не связал какого-нибудь предания. В таких сказаниях старины народ выражает и хранит свое чувство правды. Невидимые силы, так близко стоящие к человеку среди полудикой природы, карают дикую жестокость, несправедливость. В этом отношении нет народа, более чуткого, как племена западного Кавказа. Стихи и былины носят ту же печать. В одном припеве это выражается особенно ярко.
«Зло уходит, добро остается... Но злых ждет кара, и ничья молитва не спасет их от мести. Добро дает ростки, подобно дубу, и они раскидываются потом могучими деревьями, служа человеку и прославляя Бога. Они дают всем тень и прохладу в знойное лето, кров и защиту в дождливую зиму.
II
Мальчик, увидев джейрана за плечами у отца, так и прилип к нему.
— Сегодня будет мясо, будет мясо... — радостно орал он большеглазой девочке, следовавшей за ним.
— Ну, хорошо, хорошо, — успокоил его отец. — Где мать?
— Пошла, в поле работать...
— А брат?
— Не знаю...
— Поди его крикни.
Тот с сожалением оторвался от джейрана, сброшенного отцом на земляной пол лачуги.
— Да скажи, чтобы сейчас шел... Мне его нужно...
Мальчик выбежал за дверь. Михако нигде видно не было. Мальчик, как белка, взобрался на плоскую крышу дома, но и оттуда ничего не различил в чаще сплошь обступивших убогое жилье деревьев.
— Михако! — заорал он перед собой.
Где-то далеко-далеко эхо повторило его крик.
Он с минуту прислушивался, не ответит ли ему брат.
— Михако!!.
То же безмолвие.
Мальчик соображал, что ему делать, как в это время белый козленок, видимо, принявший его оранье на свой счет, легко вскочил на плоскую крышу лачуги и, подобравшись к ребенку, шаловливо наклонил свой твердый и покатый лоб и ударил того в спину. Козленку нельзя было поставить в вину такую неделикатность по отношение к товарищу его игр, потому что по пути к отцу с убитым джейраном мальчик поймал животное, и как оно ни упиралось ногами, успел в несколько мгновений запутать их в сетку, валявшуюся около дома и употреблявшуюся для ловли птиц. Козленку стоило величайших усилий выбраться из нее, — и теперь его нападение имело характер вполне заслуженного возмездия. Тем не менее, как оно ни оказывалось законно, мальчику было от этого не легче. Получив неожиданный толчок, он взметнулся ногами вверх и очутился на земле, прямо перед входом в свою хижину.
— Ты что, с неба падаешь, что ли? — засмеялся отец.
Но мальчик мгновенно вооружился маленькими камешками и открыл снизу канонаду по козленку.
Надо отдать ребенку справедливость: он ловко наметался, швыряя камни, и в этом искусстве его товарищи не могли с ним сравниться. Козленок первое время храбро выдерживал нападение, не уступая занятого им на крыше поста, но когда ловко пущенный камень попал ему в нос, он взбесился, соскочил с кровли на двор и с таким боевым одушевлением, — рога вперед и хвост на отлет — кинулся на своего врага, что тому оставалось только одно, — постыдно бежать. Мальчик кинулся на дерево, козленок, не рассчитавший этого, ударился о его кору рогами и отскочил назад. Заметив, что ребенок убегает от него, он бросился вслед и, когда тот перескочил через плетень, запутался в его ветвях и жалобно, жалобно заблеял.
Мальчику было не до него.
Вслед ему послышалось отцовское: — «Найди Михако!»
Ребенок живо исчез между громадными стволами старых деревьев. Он еще казался меньше и слабее среди этих великанов.
Лес тут был действительно великолепен.
Горные выси далеко отступили назад, давая ему простор и место.
Тихие потоки вились тут между корнями и, не добравшись до берега, просачивались в землю, щедро поя ее живительными соками.
Для растений это было хорошо, для человека — скверно.
Первые подымались пышно, осыпались яркими цветами, переплетались вверху в непроницаемые своды; зато людям приходилось жутко: лихорадка царила здесь невозбранно, и надо было здесь родиться и вырасти, чтобы не поддаться этому бичу западного Кавказа. Громадные дубы и величавые буки устилали все понизи. Кое-где более темная полоса орешника охватывала и отовсюду глушила крупные каштановые деревья, на которых в эту пору красиво торчали розовые и белые кисти цветов.
На горе вдали виднелись синею массою силуэты кедров. Иногда одинокая сосна, набежав на верхушку, красовалась на юру, на чистом фоне неба, словно кокетничая каждым своим изгибом, каждою веткой, Там, где было ущелье, леса ютились еще гуще и непроходимее. В них таились кабаны, за которыми Михако не смел охотиться. Во-первых, — далеко, а во вторых, по местному поверью, где кабаны, — там и шайтаны; пойдешь на одного, — наткнешься на другого. Против зверя ружье поможет, ну, а с нечистым не справишься. Из этих далеких, впрочем, ущелий с громким ревом вырывались горные речки, точно взбивая мыло вокруг каждого утеса, преграждавшего им путь. Иногда утеса не было видно. Над ним только шипела, клубилась и сверкала радужными отблесками масса пены.
Тропинка, по которой бежал ребенок, извивалась то вправо, то влево. Часто она падала вниз, и тут мальчик, скатываясь по откосу, хватался за кусты, за ветки, нежданно попадал пятками в выступы камня и на минуту таким образом останавливался на своем пути. В одном месте он неожиданно наткнулся на золотистую с черными бархатными пятнами змею, и не успела она зашипеть на него и какими-то извилистыми, быстрыми зигзагами исчезнуть вдали, как ребенка, все спускавшегося вниз, окружил уже душный аромат какого-то кустарника.
Что может сравниться с чащею этих лесов, с их благодатною прохладою, когда, утомясь от страшного жара, охватывающего путника на припеке, разом погружаешься в полное тьмы и холода царство дубов и буков, все промежутки между которыми затканы лавровишнями и рододендронами. А эти, в свою очередь, перевиты такой головокружительной путаницею дикой лозы и плюща, с которою не может поспорить самая прихотливая арабеска. Изредка солнце, изумрудными лучами проникая сквозь эту густоту листвы и цветов, изумрудными же движущимися пятнами ложится на тихие поляны.
— Михако, Михако!.. — орал ребенок, изредка приостанавливаясь.
Но лес молчал ему в ответ, и только изредка в вышине слышался хищный клекот какого-нибудь пернатого разбойника и жалобный писк маленькой пташки, попавшейся ему в когти.
— Михако!.. Михако!..
Наконец, кто-то отозвался вдали.
Мальчик остановился... Прислушался...
Грезится ему или действительно откликается ему Михако?
Ребенок, выросший в лесу и потому привыкший различать его голоса и сам подражать им, вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул...
Такой же ответ послышался вдали.
Точно две птицы перекликались в тишине задумчивой дебри.
— Михако!..
Теперь уже это, несомненно, брат отзывался мальчику.
Он побежал по направлению его голоса.
— Чего тебе? — издали еще выкрикивал ему брат.
— Отец вернулся.
— Ну?
— Джейрана убил на охоте.
— Значить, сегодня мясо будет?
И Михако, радостный и возбужденный, побежал навстречу брату.
Это был мальчик двенадцати лет, высокий, стройный и сильный, как высоки, стройны и сильны могут быть только дети, воспитывающиеся среди чистого горного воздуха, лицом к лицу с незнающими топора лесами.
— Сейчас же жарить хотят, за тобой послали. А у тебя это что?
— В силки попались...
Михако нес в руках пару птиц. Они были живы и только сжимали и разжимали серые пленки глаз, норовя как бы клюнуть мальчика побольней. Но тот крепко сжимал их пальцами.
— Ты бы их выпустил.
— Зачем?
— Им больно.
— Нет... Так нести не больно.
— Им все-таки полетать хочется на свободе. Ишь, у одной на лапке кровь.
— Очень уж в силках билась.
— Брось их, они на тебя жаловаться будут.
— Кому?
— Богу.
Михако молчал.
— Вот что: ты подари мне одну; а я тебе, знаешь, — пояс, что мать мне дала вчера.
Михако покачал головою.
— Я хочу их продать. Тут на берегу в Иллари часто бывают русские; они купят.
— А им зачем?
— Почем я знаю?! Они всякую дрянь покупают. Помнишь, я в бутылку маленькую змею загнал...
— Ну?
— Доктор приезжал, мне за нее пол-абаза дал.
— Нет, ты подари мне одну птицу! Ведь, я твой брат...
— Что ты с ней сделаешь?
— Это уже мое дело. А только старшие братья у нас всегда делают подарки младшим.
Михако засмеялся,
— Ну, на, возьми — какую хочешь.
— Вот эту!
— Только ты ее держи так, чтобы она не улетела.
— Хорошо, хорошо. Ты только дай мне.
Мальчик взял крайнюю птичку.
Это была небольшая, серенькая, с красной грудкою и острым клювом, которые чаще всего встречаются в лесах Абхазии.
Она, было, забилась в маленькой ручонке, но мальчик, отбежав в сторону, разжал пальцы, — и птичка с радостным криком выпорхнула и села на ветку ближайшего дерева.
— Что ты сделал?
— Ничего... Ей вовсе не сладко так было...
— Разве я ее затем ловил? Ты нарочно?
Мальчик хотел, было, солгать.
— Нарочно!..
«Нет, врать нехорошо!» — вспомнил он, как ему не раз говорила мать.
— Врать нехорошо, хоть ты, я знаю, и побьешь меня. На, бей!
И он подставил кудлатую голову Михако.
Тот, действительно, разозлился и хотел, было, ткнуть ногою брата, но смирение того обезоружило Михако. Вспыхнувшие, как у молодого ястребенка, глаза опять потухли.
— Если я тебе еще когда-нибудь...
— Хорошо, хорошо... А ты лучше посмотри, как ей хорошо теперь.
Оба подняли головы. Освобожденная птичка радостно чирикала, перелетая с ветки на ветку. Она весело трепетала серенькими, быстрыми крыльями и все старалась взлететь повыше, точно обращая на себя внимание той, которая осталась в плену. И эта начала волноваться. Она колотилась, отзывалась жалобным, точно молящим писком и поворачивала головку туда, откуда звала ее подруга.
Мальчики быстро шли вперед, но освобожденная птичка следовала за ними с ветки на ветку, с кустика на кустик.
— Михако!
— Что?
— Тебе не жалко? — робко заговорил мальчик.
— Чего?
— Да ведь разве ты не видишь сам? Ведь это — брат и сестра. Все равно, что я и Нина.
Михако нахмурился.
— Посмотри, как она вверху плачет. А эта у тебя на руках... Ты думаешь, им легко?.. Русские, которым ты продашь птичку, увезут ее далеко, далеко, и она никогда больше не увидится с тою...
Михако вспомнил, что ему скоро самому придется уехать в Тифлис на заработки и оставить своих. Что-то защемило ему сердце. Какая-то печаль переполнила душу.
— Ну! — только и мог проговорил он, — чего ты только не выдумаешь?
— Я тебе говорю, это так.
Освобожденная птичка, точно в отчаянии, крикнула у самой головы Михако и вдруг мелькнула около другой, почти касаясь ее крыльями.
— Видишь, как она тоскует!
И, действительно, у нее крепко, крепко забилось сердчишко.
Михако почувствовал это на своих пальцах.
— Пусти! Ну, что тебе? Ну что?
И вдруг старший брат разжал руку.
С радостным криком вторая птичка взмыла в голубую высь безоблачного неба, и за нею следом кинулась освобожденная.
III.
Пока Михако с братом возвращаются домой, расскажем, что за страна, где они живут.
Когда под ударами турок пала Византия, вместе с нею рухнуло и Грузинское царство, распавшееся на несколько отдельных и самостоятельных владений. Турки пользовались этим и, занимая уже все главные и важные пункты на юге Черного моря, стали мало-помалу захватывать берега на востоке, распространяя свое влияние по всему западному Кавказу. Против них здесь была еще одна сила — генуэзцы. Но когда пала Кафа, османы сделали Абхазию своею вассальною областью.
Турки не вмешивались во внутренние безурядицы страны, но содержали в ней пашу с небольшим гарнизоном, получали дань, выводили отсюда невольников и деятельно распространяли ислам. Только в некоторые моменты турки принимали более деятельное участие в ходе событий здесь. Так, в половине прошлого столетия, когда страна восстала против владельческой династии тавадов, Манучара Шервашидзе и двух его братьев, Ширвана и Зораба, Стамбул принял участие в народе, стал на его сторону и выгнал тавадов. Несколько лет спустя, Зораб вернулся и стал управлять Абхазией, как верный вассал Блистательной Порты, но управлял он недолго. Он никак не мог забыть о старой независимости своей страны и в 1771 году изгнал турок из их гнезда, — укрепленного на морском берегу города Сухума, но, в свою очередь, схваченный ими, был отправлен в Турцию. В его отсутствие Абхазией правил его племянник Келиш-бей, и в то же время в народе усиливалась и приобретала известность фамилия местных дворян Дзяпш-ипа. Вскоре Зораб был освобожден султаном, вернулся, сблизился
с Дзяпш-ипа и женил Келиш-бея на одной из девушек этой фамилии.
Расчеты Зораба поднять таким образом значение своего рода и освободить родину от турецкой гегемонии все-таки не удались, Келиш-бей ненавидел жену и вскоре изгнал ее и не пускал к себе на глаза сына от нее, Аслан-бея. Он задумывал передать владельческие права другому сыну, Сефер-бею. Дворяне вместе с Асланом составили заговор, окончившийся полною неудачей. Келиш вовремя узнал о нем, обезглавил главных вождей враждебной ему партии, а остальные бежали в Цебельду. Но Аслан остался в живых и, совершая преступление за преступлением, озверел до того, что в 1808 году убил своего отца, Келиш-бея, занял Сухум и объявил себя властителем Абхазии. Времена были жестокие и нравы ужасные. Для мелких честолюбцев и тиранов ничего не оказывалось священного: ни узы родства, самые тесные, ни любовь к отчизне. Сефер-бей бежал в Мингрелию, к дадианам, принял там подданство России и с ее помощью занял Сухум, изгнав оттуда отцеубийцу Аслана. Он в 1810 году принял даже христианство и одиннадцать лет мирно управлял несчастною страною. После его смерти на сцену вновь является Аслан-бей. В союзе с своим братом, Гассаном, он возмутил народ против наследника Сефер-бея, Димитрия, он был разбит русскими и едва успел унести ноги. Его союзник, Гассан, попался нам в плен и, несмотря на свое происхождение от властителей и царей Абхазии, был судим, как простой смертный, и сослан в Сибирь на каторжную работу. В 1830 году русские возвели здесь укрепление Бомбары, Пицунду и Гагры, а через тридцать лет и вовсе упразднили отдельное существование Абхазии.
Вслед за турецкою войною 1877—1878 года, абхазцы, предоставленные самим себе, поневоле приняли турецкое подданство и зато, по заключении мира, должны были оставить Кавказ и выселиться в Малую Азию. На месте осталась часть этого племени, и на свободные земли стали переселяться христиане из Кавказа и Закавказья. Между такими явился сюда и Нико с своей семьей, которому на новом месте жилось не особенно сладко. Муж и жена работали, не складывая рук; но в непривычных условиях дело плохо спорилось у них, и старшие дети поневоле должны были искать себе пристанища у чужих, в более крупных и деятельных центрах страны.
Хижина Нико, принявшего абхазские обычаи, состояла из двух половин, разделенных таким же плетнем, из какого были сложены ее стены; люди живут в одной половине; в другой обыкновенно пахнет навозом, потому что там держат корову. В первой комнате для людей — низенькие лавки по стенам, посредине — мангал (жаровня) с горячими углями... На скамьях постели. В углу сундуки, внизу самый большой, и чем выше, тем меньше. По количеству этих сундуков нельзя заключить о богатстве хозяина. У Нико, например, их было пропасть, но зато все пустые. Тщеславие своего рода, что хотите?! — «И у нас-де, как у прочих, всякого добра много!» — У других еще до самой кровли сундуки. Подумаешь, ни весть сколько там всевозможной рухляди! Абхазский Ротшильд, да и только; а у этого Ротшильда и абаза за душой нет.
Окошечки здесь были такие, что в них едва-едва кулак просунешь. Да и не надо. Свет сквозь стены сакли проходил отлично, и воздуху сюда был полный доступ, так же, как фалангам, скорпионам, сколопендрам и прочей дряни, с которой местное население совершенно примирилось и не обращает на нее особенного внимания. То и дело в сакле слышен подозрительный шорох. Змея ворочается в плетеной крыше, скорпион ползает в стене, фаланга шерошит своими челюстями, гоняясь за мухой и мимоходом падая на людей. Часто такие хижины совсем круглые, как краали африканских дикарей. Только по тому, что у богачей встречается развешанное по стенам оружие в золотой оправе, можно заключить о сравнительно высшей культуре страны.
Когда Михако входил к себе, точно приветствуя его, из соседнего помещения, т. е. попросту из-за плетня, замычала корова. Вспомнив, что ему скоро придется оставить родной уголок, мальчик просунул туда руку и погладил ее не без грусти и тотчас же почувствовал на своей ладони ее мокрую, теплую морду. Ему почему-то захотелось заплакать, но, вспомнив, что он уже «большой», — ведь уж два месяца с тех пор, как ему минуло двенадцать лет, и он носит на поясе кинжал, — Михако отвернулся в угол.
— Где же отец?
— Должно быть, вышел к матери... на поле, где гоми.
— Хороший джейран! — промолвил он, шевельнув ногой убитую серну, беспомощно распластавшуюся на земляном полу, но, потом, не совладав с собой, зашел в другое отделение хижины, освободил оттуда корову и вывел ее на воздух. Здешний скот очень мелок. И эта корова была меньше нашего годовалого теленка. Обыкновенно ее выгоняли прямо в лес, потому что здесь надзор за скотом плохой. Абхазец страшно ленив, и ему кажется великим трудом смотреть за стадом. Он неохотно ковыряет деревянным крюком землю, бросая туда семена и забывая о них до самого времени жатвы. Только тогда, как теперь, когда по всей окрестности разнесутся слухи, что в стране появился барс, они прячут своих коров дома. Обыкновенно страна от подобного слуха приходит в возбужденное состояние. Рассказывают предания о прежде появлявшихся здесь барсах и тиграх, о сказочных героях, один на один дравшихся с этими хищниками и побеждавших их.
Абхазцы, как все ленивые народы, богаты воображением. Нигде так прочно не живут предания, так поэтично не рассказываются былины. Мир сказок здесь почти мир действительности. Никто не сомневается в их правде. Абхазец дома — в одно и то же время и мусульманину и христианин, и язычник. Рядом с верою в Магомета он благоговеет перед крестом, молится Деве Марии и Георгию Победоносцу и остается верен старым языческим богам.
Михако вывел корову и, оставшись наедине с нею, обнял ее. Ему было грустно прощаться с этим членом семьи, выпоившим и выкормившим его брата и сестру. Чем ближе был час его отъезда, или лучше, ухода отсюда, — потому что ехать было не на чем, — тем ему становилось все тяжелее и тяжелее. Он по целым часам смотрел, как играет беленький козленок, как по крыше к нему крадется кошка, как собака греется на солнце, лохматая и грязная, и все это ему делалось и мило, и близко, хотя он сам не давал себе в этом отчета. На чужой стороне, разумеется, лучше; все, вон, говорят это; и она немало унесла людей из его родного поселка. На его глазах столько народу уходило отсюда, и так мало вернулось назад! Удастся ему или нет быть в числе этих счастливцев?..
Под влиянием ли весело игравшего на стенах солнца, ласково шуршавшей листвы дерев, или бегущей воды в ручье, мысли его приняли несколько более радостный оборот. Он уже видел себя подъезжающим к родному селу, на отличной лошади золотистой масти, именно такой, какою он любовался у пристава. На ней красный чепрак и шитое шелками седло с блестящими стременами и серебряною уздечкою. На нем самом, на Михако, атласный архалук, отделанный ярким позументом, и белая черкеска с серебряными газырями для патронов, на золоченом поясе дорогой кинжал, в его рукояти бирюза, изумруды, и на папахе у него такая мерлушка, какой здесь до сих пор и не видели, а красный верх ее он лихо заломил на сторону, и чорт ему не брат. Но гораздо лучше всего этого то, что к его поясу под черкеску подвязан замшевый кошель с монетами, и золотыми, и серебряными, и с такими бумажками, которые русские берут вместо серебра и золота. Есть и такие бумажки между ними, на которые можно купить и сады, и сакли, и ружья, и виноградники, и лошадей, и коров. Мать, уже старая, выбегает к нему навстречу и не узнает, величая его беем. Отец тоже снимает перед ним шапку... Но он, Михако, остается верным и добрым сыном, срывается с седла, кидается к их ногам, потом в откинутую полу сыплет все свое серебро, золото, бумажки, все свои сокровища, которыми наделила его судьба; ему для родных ничего не жалко; если бы у него было в десять раз больше, он все равно отдал бы им без малейшего сожаления. И вот на его деньги, рядом с этою жалкою саклей, поднимается такой же дом с галлереями, который он видел в Илари у священника, кругом раскидывается сад, как у наиба Мурада, покупаются стада, родные одеваются в шелк и тонкое верблюжье сукно, сестра его выходит за милиционного офицера, и все они прославляют доброту и щедрость Михако. Сам губернатор узнает, какой он прекрасный и отличный человек, и вешает на него золотую медаль на красной ленте, и он целые дни ничего не делает: лежит себе на плоской кровле своего дома да жмурится на солнце...
Неизвестно, куда бы завели Михако мечты, если бы его не окликнули издали.
IV.
Михако оглянулся: к нему бежала сестренка... та самая, которую в своих мечтах он выдал уже замуж за милиционного офицера. Положим, теперь ей только пять лет, но ведь и на приобретение таких сокровищ надо немало времени...
— Правда, ты едешь? — спросила она брата.
— Да.
— А меня отчего не хочешь взять с собой?
— А что ты будешь делать?
— Печь хлеб, петь тебе песни... все!
— Ты слишком маленькая.
— А все-таки я хочу с тобою.
— Когда вырастешь, я тебе привезу много-много всякого добра.
— И шелковые шаровары, да?
— Да.
— С позументом?
— Пожалуй.
— И я ничего не буду делать? Целые дни буду сидеть на тахте и спать? Лучше всего ничего не делать. У меня будут слуги, и они должны будут носить мне сладкое. Откуда ты только возьмешь все это? Украдешь?
— Ну, вот! Заработаю.
— Нет, украсть лучше.
Абхазское представление о жизни уже влияло и на эту имеретинскую семью. Абхазцы думают, что сам св. апостол приказал им быть ворами. Так, по крайней мере, сказывает популярная в стране легенда, и они неукоснительно следуют этой заповеди. Воровство здесь считается не гнусным подвигом, а лихой потехой. Как только мальчик становится юношей, мать опоясывает его саблей, и, заливаясь слезами, благословляет:
— Помоги тебе Бог добыть этой шашкой много добычи; и тайно, и явно, и днем, и ночью! — причитает она.
— Что это за жених? — оскорбляется абхазская невеста: — он еще ни одной лошади не украл!
— Эго не человек! — рассуждают старики, — это — баба: два года носит шашку, а в воровстве не замешан!
— Были времена, — жалуются абхазцы, — теперь что! Урус (русские) пришел и свои порядки везде заводит. Из горных орлов хочет смирных куриц сделать. Прежде, бывало, мы по всему берегу бродили с места на место, высматривали, где и у кого что украсть можно; скот отнимаем, крадем детей, — туркам их продаем в неволю; хорошо жили; а теперь что? Совсем не житье стало!
Если абхазца запрут в тюрьму за кражу, он, по освобождении, говорит, что был в плену.
— Не надо работать, работать скучно! — упорно повторяла девочка.
— Мы ведь не мусульмане-абхазцы.
— Ну, что же?
— Это им пристало так; мы — христиане. Ты помнишь, что в заповедях сказано?
— Это не для меня, я еще маленькая! Вон и отец...
Отец, действительно, показался вдали. За ним, сгорбясь, под
тяжелою ношей только что снятой с поля гоми, шла мать. Как почтительный сын, Михако вскочил и стоял, ожидая, чтобы Нико первый заговорил с ним. Отец сначала вошел в хижину и потом уже крикнул Михако:
— Ну, ты надумал совсем?
— Да, отец.
— Уходить хочешь?
— Что же тут лишнему рту быть? Работы, все равно, нет.
— Правда...
— А там что-нибудь да получу: сюда же пришлю...
— Это хорошо.
— Вам же будет легче жить...
Нико вздохнул, потом приказал ему взять джейрана и вытащить его на двор. Там они свежевали добычу и, вывесив шкуру серны сушиться на солнце, стали обрезывать куски мяса длинными полосками. Их тоже надо было повысить над дымом жаровни или в трубу печки. Таким образом, получается копченое мясо. На этот раз его следовало заготовить для Михако в дорогу.
— Мне и хлеба довольно... — отговаривался тот.
— Ну, вот!
— По дороге везде примут и накормят, по обычаю.
— Не везде саклю найдешь!
Когда настал вечер, и звезды высыпали на небо, здесь, на дворе одиноко стоявшей хижины, Нико с сыном разложили костер. Дрова ярко разгорались; огонь, играя красным заревом, блестел на их лицах. Они нанизывали на вертела мясо джейрана, кроме того, что было приготовлено в дорогу. Маленькие брат и сестра, присев на корточки, таращили глазенки на это. Они нетерпеливо ждали своей доли и не уходили спать в хижину. Мать в яме, выложенной глиной, где тоже тлели уголья, пекла лепешки, намазывая ее горячие стенки тестом. Оттуда пахло раздражающим аппетит запахом теста. В кувшине в стороне было вино, разумеется, самодельное. Здесь виноградные лозы пускают на дерево, и таким образом они достигают гигантских размеров. В этом и состоит весь уход за полезными растениями. Когда гроздья созреют, абхазец, если он христианин (мусульмане вина не пьют), выроет большую яму в земле, обложить ее глиной, зажжет на ее дне огонь и таким образом высушит ее стенки. Помещение для вина готово. Сюда сваливают крупные кисти винограда, топчут их босыми ногами и оставляют сок с выжимками, пока первый не забродит. Потом вино вычерпывают, разливают в глиняные кувшины и зарывают их в землю...
Когда мясо было готово, сначала поужинал, по местному обычаю, Нико, и только потом к этому приступила семья. Он сидел в стороне, попивая густое и кислое вино из кувшина, и наблюдал за Михако.
— Смотри, на чужой стороне помни Бога!
— Слушаю, отец!
— Все Его заповеди; в церковь ходи; священников чти... Если у тебя будет господин, — служи ему только в правде. На неверное дело нет приказа и нет послушания... Это абхазцам пристойно лукавство, а мы, ведь, Христу молимся...
— Деньги, если у тебя останутся, береги! — вставила мать.
— Не балуйся, не сделайся пьяницей; в Тифлисе легко сбиться с толку, там на каждой улице зурначи и духаны. А ты, как тебя потянет к дурному, сейчас вспомни, что у тебя в Абхазии родная семья есть.
— Не бери себе жену на чужбине, — вставила мать.
— Умирать и жениться каждый должен дома!
Старуха, — она, несмотря на свой сорокалетний возраст, уже была такой, — едва-едва могла совладать с собою. При виде сына, который завтра чуть свет должен уйти, у нее навертывались слезы на глаза. И Михако видел это, и сердце ему тоскливо щемило. Он уже хотел несколько раз крикнуть: — нет, мать, я хочу здесь остаться с вами и работать, что придется, — но всякий раз его останавливала мысль, что им, старикам, будет лучше без него. Да и издали чужая сторона манила его какими-то смутными, но пленительными миражами. Сердце колотилось в груди, когда он, забывая своих, думал о том, какие чудеса его встретят там, и сквозь дым костра, в огне его раскаленных углей, мальчику грезились дивные, золотые сны, груды червонцев, что-то нестерпимо яркое, роскошное, богатое... Он только одним ухом прислушивался к словам отца, который считал своею обязанностью наставить его на путь добра и правды.
— Смотри, учись думать. Теперь ты сам себе головою будешь. Прежде чем сделать что-нибудь, зажмурься и спроси у себя, хорошо ли это? На дядю не особенно рассчитывай, хоть, разумеется, он поможет тебе. Помни, что у тебя два надежных друга, и они никогда не обманут: голова и руки... Когда они изменят, только тогда ты станешь беден, а до тех пор ничего не страшно.
Луна взошла поздно.
Она на все точно накинула серебряную дымку. Позади стены хижины уходили во мрак. Оттуда доносилось сюда дыхание запертой уже в закуту коровы. Точно дышащее небо, мигающие робко-робко звезды — все это погружало в мир, не имеющий ничего общего с действительностью. И старуха невольно поддалась этому.
— Смотри, Михако, в золотых хоромах не забывай нашей плетеной лачуги. Ты родился здесь.
— Ну, — засмеялся Нико, не раз побывавший в Тифлисе, — до золотых хором ему далеко... И глиняную хижину вспомнит еще не раз.
У Михако начали слипаться глаза. Пора было спать, тем более, что по местному обычаю, он должен был уйти, не прощаясь с вечера. Мать припала к нему своею старою головою. Отец сумрачно положил ему левую руку на плечо и правой благословил сына, всунув ему в ладонь абаз. Для имеретина и этим поделиться было тяжело. Потом все затихло. Михако остался спать на воздухе. Он только что было увидел себя уносящимся в какую-то яркую даль на крылатом коне, как разом встал... Ему показалось, что кто-то толкает его. Протер глаза, — к нему жалась маленькая сестренка.
— Михако, возьми меня с собой...
— Нельзя, Нина.
— Я мало места займу на свете. Я крошечная...
И она заплакала, ласкаясь к нему.
Михако взял ее за руки и отвел домой.
Утро было чудное. Только вставшее солнце разогнало туман. Одна за другою обнажились вершины гор. Какая-то черная птица взмыла и утонула в золотом блеске зари, только хищный клекот замер в воздухе. Родную хижину облило розовым светом. Михако оглянулся, но уже не увидел ее. Глаза его были полны слез.
«Сколько раз, — думал он, — мне придется вспоминать этот уголок, но он уже будет далеко-далеко»...
Ему еще хотелось вернуться, кинуться к ногам матери, поцеловать руку отца, и, чтобы совладать с собою, он низко опустил башлык на голову и быстро-быстро побежал в чащу леса. Что-то кинулось ему в ноги. Он опомнился, остановился. Лохматый пес, грязный и всклоченный, догнал его и ласкался к нему. Он погладил собаку и потом крикнул ей: — «Ступай домой». Она не шла и только хвостом виляла. Михако, хоть его сердце и разрывалось от боли, поднял на него камень. Пес кинулся прочь и опять остановился вдали, с недоумением и испугом, точно не веря себе, глядя на него...
— Пошел, пошел домой... Я должен быть там один... один...
И он еще быстрее побежал вперед по знакомым ему лесным тропинкам.
V
Уже третий день Михако идет по абхазским дебрям и пустыням.
До сих пор ему везло: его принимали в саклях, затерявшихся в горных теснинах, утром давали на дорогу хлеб и кашу из гоми. Его абаз оставался цел. Он, впрочем, и сам ни за что бы его не истратил. В Тифлисе придется хуже, и тогда эта серебряная монета, несмотря на крайнюю незначительность, сослужит ему великую службу.
Если бы он не был так поглощен своим положением, и если б его —простодушное дитя природы — интересовало что-нибудь, выходившее из пределов этого положения, Михако, несомненно, почувствовал бы величайшее наслаждение от всего окружавшего — и от людей, и от обстановки, в которой здесь им приходилось жить.
Встречавшиеся ему абхазцы были необыкновенно красивы. Из-под низко опущенных на лицо башлыков сверкали пламенные, гордые глаза, черкеска стягивала тонкую талию рослых и ловких молодцов. Строен и эффектен этот полудикарь, когда он стоит перед вами, подбоченясь и опершись на ружье. Тонкий стан, смелое выражение лица, развязность — делают его прекрасным сюжетом для любой картины.
Нужно прибавить, что в его типе сошлось немало разных народностей.
Здесь некогда были колонии Римской Империи, центром которых считалась Пицунда. В средние века явившиеся сюда генуэзцы осели здесь в разных пунктах, настроили замков и храмов во множестве по горам и, главным образом, сосредоточили свою торговлю и военные силы все в той же Пицунде. Старинное генуэзское оружие и до сих пор переходит у абхазцев из рода в род...
Потом нахлынули сюда турки, и, наконец, русские наложили на поморье властную руку. Все это сделало абхазца какою-то смесью всевозможных типов, вер, народных особенностей... Он столько же язычник, сколько мусульманин и христианин, одинаково усердно готов молиться в каждом храме и всякому богу. Часто случается, что глава семьи — магометанин, жена его — христианка и дети тоже принадлежат к обоим этим исповеданиям, иногда в одно и то же время. Ссор из-за религии и слыхом не слыхать.
По-своему, абхазец до последней войны был еще счастлив.
Страна его прекрасна: снежные горы висят над чудными долинами, где остатки генуэзских садов льют по ветру благоухание. Каждую незначительную тропинку обступают тенистые чинары.
Еще недавно на Черноморском поморье красовались пальмовые рощи, узкие улицы в Сухуме были покрыты чащами роз, — но все это уничтожено грубою рукою, и только изредка группа персиковых деревьев, перевитых виноградными лозами, еще напоминает чудно-прекрасное прошлое.
Вблизи Пицунды в сороковых годах были превосходные апельсиновые рощи, древние, как их храмы, что в величавых развалинах своих стоят на вершинах гор, но и от рощ остались только пни... Зачем и кому нужна была смерть прекрасных деревьев?
На четвертый день пути горы точно отступили от Михако.
Перед ним зелеными облаками круглились тенистые чащи.
Пологий мыс далеко вдавался в море, заполненный пахучими порослями.
Растительность точно хотела здесь развернуть всю свою невиданную роскошь.
Волшебным садом стояла она. Солнце обливало золотистым блеском передний план картины, оставляя во тьме горы.
Даже море, блиставшее вдали, казалось изумрудным, отражая в неподвижном зеркале глубоких вод яркую зелень.
Между деревьями мелькал какой-то круглый, величавый купол...
— Что это? — спросил Михако у встречного им абхазца.
— Пицунда.
Древняя столица Грузии и Абхазии — еще более древняя колония генуэзцев и римское поселение в незапамятной глуши.
Храм VI века, возведенный в царствование Юстиниана, до сих пор стоит на этом месте.
Еще нисколько столетий назад все окрестные горы были покрыты здесь генуэзскими замками. На мысе Пицунда белели мраморные колоннады, и стены грозной крепости глядели отсюда в морскую даль, что так маняще зыблется кругом. За 10 верст путешественники уже слышали благоухание садов; ароматом роз, миндальных и апельсинных цветов приветствовал их поэтический уголок... А теперь?..
Казарменной известкой выкрашен этот храм. Точно казенная будка, реставрирован он невежественными потомками. Маститое дерево, выросшее на его кровле, срублено монахами.
Абхазцы были в древности ревностными христианами. В те времена они не отличались таким равнодушием к делу веры, как теперь. Грузинская хроника Вахтанга V называет Св. Симона Кананита, который в 40 году по Р. X. пришел сюда вместе с Андреем Первозванным. Первый вскоре умер здесь, близ устья реки Псырты, а второй отправился дальше, в Мингрелию. У самых ворот этой реки, образуемых двумя почти сошедшимися вплоть горами, стоят великолепные руины дивного храма, до сих пор носящего имя Св. Симона Кананита. Он был совершенно цел до 1859 года, когда один из соседних владельцев — абхазец майор Гассан Маргани разобрал его и выстроил себе дом из его камней.
Разрушен свод его, сняты колонны, и теперь этот величавый памятник далекой старины разваливается. Позади храма была пещера, где жил святой Симон Кананит. Всякий, проникавший сюда, умирал, задыхаясь от наполнявших ее газов, потом в пещере образовалась трещина, и убийственные газы нашли себе другой выход. Вслед за постройкой храма христианство вскоре стало подвергаться гонениям, как и в соседней Мингрелии. Только в половине VI века Юстиниан, задавшийся целью уничтожить у абхазцев чисто языческие привычки, строит храм в Пицунде.
До тех пор по всему абхазскому приморью существовало только одно укрепленное место Себастополис; через несколько веков после основания Пицунды, именно в XI столетии, мы уже видим эту береговую полосу кипящею промышленною жизнью, покрытою цветущими городами, монастырями, цитаделями, замками, отдельными башнями. Море кишмя кишит торговым флотом, целые армады кораблей идут сюда и уходят отсюда. Хотя Абхазия постоянно переходила из одних рук в другие — от византийских императоров к грузинским царям и от них к собственным властителям, но благосостояние этого поморья продолжало расти. Здесь даже был свой духовный глава — католикос.
Теперь берега эти пустынны.
Храмы и замки в развалинах. Могучая южная поросль охватывает их отовсюду, в руинах древних монастырей гнездятся совы и живут чекалки. Города исчезли с лица земли, и самые места их неизвестны невежественному потомку более культурных поколений, не оставивших даже могил среди общей мерзости запустения.
Море безлюдно.
Вместо флотов и торговых кораблей изредка пробирается вдоль горных берегов турецкая фелюга, едва заметными точками чернеют абхазские каюки, да в неделю раз пропыхтит пароход, стараясь держаться подальше от земли.
Там, где кипела жизнь, где стояла богатая и шумная столица, — среди руин живет несколько монахов. Вместо царей верховодит всем полковник из Сухума, вместо просвещенных и богатых колонистов Греции, Рима и Генуи — безграмотные крестьяне.
Ущелья, оглашавшиеся говором жизни, умолкли.
Горы, откуда светили маяки многочисленным пловцам, угрюмо хмурится синими массами над нерадостными бурными волнами. И ни один огонек среди морского простора оттуда не указывает пути затерявшемуся кораблю.
А между тем, еще при занятии нашими войсками Пицунды, уже оставленной и заброшенной, в 1830 году на алтаре ее были найдены старинное евангелие и церковная утварь. Все ценные вещи, образа и облачение католикоса отсюда были увезены в Елатский монастырь. Куда они делись?
С падением Пицунды погасло и христианство, только в Илларе держалось оно, и местный храм славился даже собственным чудом: каждое 10 ноября Св. Георгий собственноручно низводил сюда быка с позолоченными рогами, и появление этого животного восторженно встречалось толпами, сходившимися сюда не только из Абхазии, но и из Мингрелии, Гурии и Имеретии. Один из владетелей и ревнителей храма, Дадиан, закалывал быка, иноки резали его на мельчайшие куски и раздавали его богомольцам. Мясо быстро высыхало и порче не подвергалось. Чудесное появление этого мистического посланника прекратилось с приходом русских, которые сами хотели убедиться в участии Св. Георгия в этом чуде.
Мусульманство было здесь распространено сначала торгашами, являвшимися из Турции, потом зажиточными абхазцами и местными аристократами. Уже впоследствии явились муллы, восстановлявшие народ против русских. Однако, древние христианские обряды еще всецело сохранились. В Пасху абхазские мусульмане режут до сих пор ягненка и обмениваются крашеными яйцами; в дни, соответствующие Троице, устраивают гулянье в роще; в Рождество Христово молятся ночью, поздравляют друг друга и обмениваются подарками. При всех религиозных обрядах абхазцы употребляют восковые свечи и курение ладаном. Развалины церкви до сих пор — место неприкосновенное и, по обычаю страны, даруют право убежища спрятавшемуся в них преступнику. Мусульмане в руинах христианских храмов принимают присягу в справедливости своих слов.
Рядом с христианскими верованиями абхазские магометане сохраняют и преданность языческим богам.
Михако не останавливался в Пицунде, он надеялся еще до вечера добраться до большого села, где у него были родственники.
Мальчик шел туда бодро; за все это время он вовсе не устал.
Отдыхал он под развесистыми ветвями каштанов или чинар у ручья, утолявшего его жажду.
Сегодня он еще не ел, но это пока не было для него лишением.
Он только потуже затянул свой пояс. И дома случалось голодать по целым дням, а в пути и Бог велел.
Когда солнце было в зените и все кругом переполнилось зноем, Михако заснул в тени, и ему снились такие вкусные блюда, что, проснувшись, ему казалось, что он отлично пообедал ими.
К вечеру вдали показались крыши абхазского поселка и колоколенка — маленькая и тоненькая — его небольшой церкви.
VI.
Счастливые дни для Михако скоро кончились.
Первою неудачею на его пути была горная река, бешено по крутому дну стремившаяся с высоты к морю.
Волны ее неслись в целых облаках пены. Своим грохотом и ревом она наполняла всю окрестность.
Направо громадная полоса моря казалась серо-желтой.
Это горная река выкидывала в лазурную стихию глину и железняк, снесенные с гор быстриною.
Только вдали море опять голубело и исчезало, сливаясь с такими же голубыми небесами.
На берегу горного потока было уже несколько человек. Громадный каюк, гнувшийся под напором волн, скрипел и стонал будто живой.
Каюк — большая лодка, глубокая, с высокими бортами, остроносая и с острою кормою. В нее помещается до пятидесяти человек и гребцы, упираясь в дно потока шестами, медленно передвигают ее к другому берегу.
Владельцы каюка — абхазцы. Здесь были их приказчики. Они ждали, верно, чтобы набрать побольше народу да одним разом и перевезти на ту сторону.
Пенистые волны горной реки бешено кидались на высокие и отлогие борта каюка, злобно закидывали за ним точно мыльную воду и с негодующим ревом уносились дальше.
— Долго ли еще ждать? — крикнул всадник-абхазец гребцам.
— А мы почему знаем? Прибудет народу тогда и перевезем.
— А если никого больше не будет?
— Ну, к вечеру найдут.
— Мне некогда, я тороплюсь.
— Плати за всех.
— У меня дело есть.
— Я тебе говорю, плати за полный каюк.
Но тот решил иначе. У него, очевидно, смелости было больше, чем денег.
Он лихо заломил свой башлык, гикнул на коня, вынесся на нем к берегу, и еще не успели остановить его окружающие, как лошадь и человек исчезли в белых клубах пены. Изредка, когда ее ветром отбрасывало в сторону, или волны принимали иное направление, из-за их причудливых гребней видны были вся могучая фигура захлестанного ревущими струями всадника и взмыленная морда ослепленного и оглушенного коня. До тех, кто оставался ждать на берегу, порой доносилось молодецкое гиканье абхазца, ободрявшего лошадь.
Его несколько раз уже считали погибшим, потому что, внезапно оборачиваясь к нему, гневные волны покрывали его с головой и уносили в своей зеленовато-молочной массе в сторону.
— Расшибет его...
— Пропал джигит...
— Теперь его прямо в море выкинет...
— О, Аллах и св. Георгий, примите его душу.
Толпа на берегу была уже готова в одно и то же время молиться и христианскому святому и мусульманскому Аллаху за погибшего, считая его убитым, как вдруг волны уносились вниз, и из-за них опять показывался боровшийся с могучею стихией, но еще не побежденный ею, всадник.
— Радость и слава матери твоей!.. — кричали они.
— Такого богатыря по всей Абхазии другого нет...
— Сам Азраил принял образ человека...
Но всадник не слышал ободрявших его приветствий. У него в ушах гремело, ревело, свистало, билось, трещало и шуршало. Все эти бесчисленные звуки движения внезапно взбесившейся горной реки кружили ему голову, заставляли терять сознание... Одна рука, казалось, сама по себе, без участия его мысли, управляет движением коня. Он сам уже выбивался из сил. Копыта медленнее и медленнее скользили в волнах по дну, крутому и заполненному двигавшимися вслед за волнами мелкими камешками.
— А все ваша жадность, — упрекали гребцов с берега.
— Мы тоже не можем.
— Не железные...
— Только два раза в день велено...
— Да кто велел?
— Хозяин...
— Вашего хозяина шайтану в лапы следовало бы!
— Ты сам его брось ему. Мы первые будем рады.
Наконец, толпа, как один человек, радостно крикнула.
Истерзанный, оглушенный, шатаясь и хмурясь, смелый всадник выезжал на противоположный берег.
Лошадь его качалась на ногах и глубоко втягивала в себя и без того впалые бока; голову повысила и долго стояла, прежде чем двинулась из-под чинары к яркому солнцу. Добравшись до щедро напоенной зноем и светом полянки, абхазец сполз с седла, упал на траву и замер под оживляющими лучами. Конь его тоже. Под жарою от него шел пар.
— Теперь их обоих скоро высушит.
— Не ранен ли он? — спросил кто-то.
— Пойди, узнай, — насмешливо ответили ему.
Еще один всадник из нетерпеливых кинулся в воду.
Но не успел еще его конь сделать и нескольких движений, как сверху налетел громадный вал и в пене и грохоте выкинул их обоих на берег обратно.
Неудачную попытку храброго витязя встретили общим смехом.
Прошло часа два после того.
Переплывший реку джигит высох и давно уехал по направленно к югу.
Река все так же шумела и гремела, ворочая камни и налегая на каюк, как вдруг вдалеке показалось несколько всадников.
— Ну, слава Богу!
— Кого это Аллах несет?
— Нукеры князя Маргани.
— Они и есть.
— А с ними кто?
— Это дочь его, должно быть...
Действительно, окруженная лихими всадниками с развевающимися позади волосами, бешено неслась на чудном карабахском золотистом коне молоденькая девушка, стройная, тоненькая, но великолепно державшаяся в седле.
— Она!..
Девушка была одета в черкеску и широте шальвары. Красная черкеска была крепко перетянута поясом с золотыми бляхами, на нем висел богато отделанный кинжал. Широкие шальвары желтого шелка раздувались от ветра на бегу коня, позволяя рассмотреть узенькие носки туфель, едва касавшихся стремени.
— Ай да красавица!
— Такой еще и не было в Абхазии.
— Рассказывают, сама на кабана ходит.
— Что на кабана?.. Кабан — это пустяки... В прошлом году барса убила.
— Где?
— Да из Турции забрался к нам, У отца ее в стаде трех коров зарезал. Ну, она взяла ружье да ночью и пошла ему навстречу. Только утром вернулась, и говорит отцу: «Пошли людей шкуру с барса содрать». Вот она какая!
— Чего она замуж не выходит? Ведь, ей уже девятнадцать лет.
— Говорит, тогда выйдет, когда найдет такого же джигита, как сама.
— Как в старых сказках?..
— Да.
Девушка повелительно крикнула что-то гребцам, и те живо повели каюк к берегу. Долго ожидавшие пешеходы и всадники начали входить в него. Лошади брыкались, храпели и становились на дыбы, прежде чем их можно было ввести в каюк; но, раз ступив туда, стояли смирно, только пугливо косились на бешено проносившиеся мимо волны.
— Эй, ты... Эй... Эй...
И Михако, перелезавшего вслед за другими в каюк, один из гребцов схватил, как котенка, за шиворот и перекинул его обратно на берег:
— Малый ловкий... Ишь, чертенок...
Михако оторопел, таращился, но ничего сказать не нашелся,
— Куда ты лезешь?
— Туда, мне надо тоже на ту сторону,
— А правила не знаешь?
— Какого правила?
— Платить надо.
В самом деле, он теперь только заметил, что все, перелезая через борт каюка, платят гребцам какую-то медную монету.
— Платить?
— Да.
— А если мне нечем?
— Ну, и оставайся здесь.
Гребцы оглянулись на него и засмеялись.
— Ты думаешь, мы тоже даром работаем?
«Вот тебе и на», — думал Михако: — «не далеко же мне пришлось уехать». Но своего абаза менять ему не хотелось. Он помнил наставление отца, сберечь эту серебряную монету на самый непредвиденный случай, на черный день.
Гребцы уже уперлись в берег, чтобы оттолкнуться.
— Возьмите меня; я бедный... Что вам стоит...
— Много вас таких.
— Мы за тебя, что ли, хозяину заплатим?
— Каждого не перевезешь...
Михако заплакал.
Девушка, одетая в мужской костюм, оглянулась на него.
— Ты грузин, верно? — спросила она, презрительно осматривая его с головы до ног.
— Почему?
— Потому что абхазец никогда не плачет.
— Да что же мне делать?
Она швырнула гребцам какую-то монету.
— Возьмите его.
И отвернулась. Ей уже не было никакого дела до мальчика. Он только заметил, что она тоже христианка, потому что на шее у нее висел золотой крест, отделанный бирюзой.
— Спасибо тебе, — подошел к ней мальчик.
Она и не оглянулась.
Михако наклонился и поцеловал полу ее черкески, по местному обычаю.
— Разучись плакать и будь мужчиной, — точно уронила она, все по-прежнему не глядя на него.
VII.
Бедному Михако приходилось плохо. Весь этот день до вечера он не нашел ни одного жилья; к вечеру в глубине темного бора засветился огонек; он пошел туда, но огонек скоро пропал, и как мальчик ни искал хижины, ее не было.
Мальчику пришлось лечь спать одному у корней старого дуба.
Звезды робко мигали сквозь вершины леса. Порою в глубине его что-то ухало, слышался топот чьих-то быстрых ног, точно кто-то спасался, неведомо от какого врага; в стороне кричал филин; далеко-далеко выли и плакали чекалки.
Заснувший, было, от устали Михако скоро проснулся и сел. Он только теперь почувствовал настоящий голод. Засунул руки в карманы; там еще были крошки, но это только раздразнило его. Пошарил в темноте около, — не найдется ли тархунской травки, кисловатой, в роде нашего щавеля, но тотчас же отдернул пальцы прочь: они наткнулись на что-то круглое и холодное. Послышалось шипение, и какое-то длинное тело с легким шорохом быстро отползло дальше.
Мальчику стало страшно.
Он хотел было уже взлезть на дерево, да вспомнил абхазское поверие, что по ночам на вершинах и на ветвях сидят злые джины. Он и помимо поверья знал, что, кроме джинов, свешиваясь со стволов вниз, случается, висят на них маленькие, но страшно ядовитые змейки. Надо было терпеть до утра, не трогаясь с места. Будь у него огниво, он бы хоть осветил кругом, чтобы сообразить, где он и что с ним, но у него ни огнива, ни кремня не оказалось. Хотел было прижаться к корявой коре старого дуба, да и это было небезопасно. По ночам по ней бегали фаланги и ползали скорпионы.
Он опять свернулся на том же месте и старался заснуть. Будь он сыт, не посмотрел бы на все эти ужасы. Но голодному трудно было сомкнуть глаза. Ему и раньше за весь этот путь случилось заночевывать в лесу, но то было другое дело. Там, оказывалось, полная луна светила, и, главное, сам-то он был сыт.
Часы шли за часами.
Лес порою смолкал, и сон, утомительный и тяжелый, сковывал мальчика. Но вот какой-то крик, точно кто-то взвизгнул в чаще. Ему отозвалось рыданием в стороне. Ахнуло в самой вершине дуба и диким хохотом пронеслось дальше. Все эти звуки он слышал и дома, но там ничего: над ним была кровля, а кругом —плетеная стена, — все-таки защита.
Хохот замер, и опять — тишина.
Что-то пискнуло и зашуршало в траве. Вновь заплакали чекалки: должно быть, жилье близко, и они чувствуют это. Поджав хвосты и подняв к небу серые острые морды, воют проклятые. По местному поверию, Св. Симон Кананит воплотил в них души великих грешников... Замолкли эти, глухой рев послышался где-то далеко-далеко.
Барс это или какой-нибудь крупный зверь?
Должно быть, его именно и почуяли трусливые чекалки. И все замерло и притихло под этим властным криком.
Молчат ночные птицы вверху, притаились. Все попряталось, — и кабаны теперь подальше и поглубже забираются в свои сырые логова и ночные убежища от непрошенного гостя и властелина.
Только на одной из ветвей что-то стрекочет и верещит какая-то мелочь. Не цикада ли, попавшаяся в беспощадные челюсти фаланги?
Одно звездное небо покойно и тихо.
Каким благоговением веет оттуда на окутанную мраком землю!.. К утру прорезался едва заметный серп убывающего месяца. Над вершиною дуба раскинулось его сияние. Сильно запахло какими-то дикими цветами. Меркли и гасли и без того робкие звезды.
Ветерок проснулся между деревьями и потянулся, точно нежась, по всему лесу.
Должно быть, светать начало.
Кое-где Михако отличает белые клочья тумана, будто вата, припавшая в логах к травке. И трава сквозь нее видна смутно, неясно.
Ни рева, ни звука. Все приникло, смолкло, чтобы огласить лес торжествующим хором голосов, когда солнце поднимется на горизонте и брызнет своим согревающим золотом на ветви и вершины деревьев.
Михако не дождался этого.
Усталь взяла свое.
Глаза его смежились. Он заснул крепко-крепко, хоть ему на все лицо тоже осаждалась холодная чистая роса.
VIII
Михако проснулся тогда, когда солнце стояло уже довольно высоко.
Лес весь гремел миллионами радостных голосов; казалось, каждый лист его ожил и звучал, и пел.
Не было такой мелкой пташки, которая бы не радовалась теплому дню, сменившему таинственную, зловещую ночь. В каждом дереве трепетали биением бесчисленных пульсов тысячи жизней... Белки уже начали возню в чаще; ящерицы по тонким ветвям гонялись за мушками; бабочки пестрыми облаками садились на цветы и, срываясь с них, такими же облаками переносились дальше; пчелы роились кругом, все наполняя своим жужжанием.
Михако встал.
Голод и теперь давал ему себя чувствовать; он даже ослабел за эту ночь.
Мальчик начал прислушиваться, но из бесчисленных голосов, оглашавших лес, ни один не принадлежал человеку. Михако припомнил, что вчера ему мерещился где-то в глубине этого бора ласковый огонек.
Теперь он пошел по тому направлению, где, по всем вероятиям, следовало быть лесной опушке. Но чаща зеленого царства не обнаруживала следа охотника или лесовика. Свешиваясь с тонких ветвей, сверху, на Михако поглядывали рубиновыми и изумрудными глазками тоненькие змейки. В стороне шуршало. Случалось, глухо продиралось сквозь чащу какое-то громадное тело, и Михако с ужасом вспоминал слышанный им вчера ночью рев барса.
К полудню он устал совсем, — а жилья в лесу как не бывало. Он стал всматриваться в деревья, не найдется ли силков или западней, поставленных человеком, — вслушиваться, не прогремит ли вдали выстрел, но ничего подобного кругом не было.
Он в бессилии остановился и вдруг уловил вдали какое-то булькание и всхлипывание.
Мальчик пошел на эти звуки.
Под корнями большого и раскидистого дерева пробирался сквозь кусты ручей. Это он чуть-чуть, едва слышно, подавал свой голос в торжественном хоре леса, празднующего свет и жизнь.
Мальчик припал к воде и напился.
Его освежило.
Он зорко стал всматриваться по течению ручья и вскрикнул от радости.
Немного подальше, там, где ручей пропадал под нависшим над ним камнем, стояли кусты, осыпанные большими черномалиновыми ягодами.
— Хартут, хартут!..
Михако кинулся к ним, оцарапался о их колючки, но это было такими пустяками сравнительно с его голодом.
Кисло-сладкие ягоды темным дождем осыпали все кругом. Разумеется, это было плохою пищей для голодного человека, но все же лучше, чем ничего. Больше часу стоял тут мальчик; руки его покрылись точно кровью, лицо тоже. Сок хартутовых ягод долго держится на коже. Но Михако все ел и ел, не заботясь больше ни о чем. Если бы теперь ему гоми или кукурузную лепешку, рая не надо было бы. Он оглянулся, не найдет ли широких и зубчатых листьев знакомого ему растения, корни которого немного напоминают печеный картофель, но в лесу его не было вовсе. Приходилось, как медведю, довольствоваться пока ягодами. Правда, медведю достается сверх того и мед, но Михако знал, что между медом и им летают пчелы, и не мог, как Мишка, защищаться от их бесчисленных жал.
Почувствовав себя окрепшим, он бодро пошел вперед.
Часа через три лес поредел.
Впереди заголубело что-то.
Мальчик всмотрелся и понял, что там ему улыбалось своею воздушною и чудною лазурью море.
Он опять вышел к нему. Еще несколько шагов — и он увидел поляну.
На ней стояли две хижины; около была вытащена на берег лодка.
Михако со всех ног кинулся туда.
Где есть люди, там есть и хлеб. Да и вчерашняя ночь в лесу недостаточно дала ему отдыха. Он спал мало, заснул поздно и даже во сне чутко прислушивался к зловещим голосам лесных хищников.
Странно только, — около хижин нет никого.
Он постучался в одну, — молчание. Тронул двери, — заперто.
В другой было тоже. Ни кошки, ни собаки не оказывалось около, ни курицы, —ничего, что говорило бы о домовитости. Только на берегу была пропасть рыбьей чешуи и хвостов, да на самой отмели, куда набегали неугомонные волны Черного моря, лежали и сохли на солнце груды рыбьих внутренностей.
Михако не был так голоден, как вчера.
Он оглянулся.
Становилось жарко; солнце уже пекло. Небо было безоблачно.
Мальчик забрался живо в тень под опрокинутую лодку.
Там был мягкий береговой песок. Михако улегся и живо заснул. Здесь даже струился воздух, и было прохладно. Мальчик весь ушел в прозрачное царство спокойных и радостных сновидений.
IX.
День был жарок.
Теперь, когда Михако спрятался под опрокинутую лодку и заснул в ее тени, весь этот берег казался мертвым. Недвижно в зное и слепящем свете замерли леса. Ни одна ветка не колыхнулась под тяжестью всполошившейся птички, ни один листок не вздрогнул от ветра... И самый ветер, что еще недавно медленно тянулся по лесным вершинам, не осилил полуденных чар и прятался где-нибудь в горном ущелье...
Только море тихо и нежно набегало на отмели и раскидывало на их горячем золоте серебристые кружева. Шипя, его пена уходила в песок, оставляя на нем в жертву беспощадному солнцу белые раковины, сорванные прибоем, Бог знает откуда, из каких-то таинственных глубин. Рыбачьи сакли, что стояли у самых волн, были беззвучны и безлюдны... Остатки от вчерашнего промысла — внутренности выпотрошенной здесь рыбы — живо обсыхали, темнея кое-где на берегу...
Далеко-далеко, на самом горизонте, изредка мерещилась белым крылом своим турецкая фелука: точно чайка там припала к воде и качается на ней, готовая сейчас же отлететь на север или на юг — всюду, куда не заказаны пути вольной птице. По берегу нашим азиатским соседям приволье. Абхазцы и колонисты не все привыкли бить дельфинов. Этим занимаются турки из-под Требизонда. Целое море проплывает убогий челнок в погоне за легкой добычей. Высмотрят промышленники себе становище у устьев речонки, устроят из парусов род палатки, а иногда и просто под открытым небом отдыхают, спят и работают. Летом, как только у западного берега Кавказа покажутся дельфины, сотни фелук стремятся сюда из Малой Азии. Дельфины зачастую поднимаются на поверхность моря, весело кувыркаясь в нем на виду у людей. Издали вам может показаться, что это громадные черные колеса сами собою катятся в пенистых волнах. Турки с бортов своих суденышек бьют их из больших ружей, а абхазцы, выплывая в море на каюках, оцепляют часть его сетями, потом, въезжая в это пространство, глушат дельфинов баграми. С дельфинов снимают сначала шкуры, потом срезывают слой жира до двух вершков толщины, сало бросают в котлы, а туши — в море. Прибой их опять выносит на берег, и если поблизости есть христианское сельбище, то оттуда являются свиньи. Для них эти гниющие на берегу тела дельфинов — истинное пиршество. Сало на огне обращается в однообразную массу, вычерпывается потом оттуда и идет в продажу. Промысел иногда бывает так обилен, что под тяжелой добычей каюки тонут. Это, впрочем, не смущает промышленников. Они только потеряют один улов с опрокинувшейся лодки, а сами сумеют продержаться на воде, пока хватит возможности вновь перевернуть каюк, и сейчас же принимаются опять за промысел. Главное при таких случаях — позаботиться, чтобы уцелели багры и сети. Часто бывает, впрочем, что людям приходится плохо и не от одной тяжести добычи. Случается, дельфины сбираются такими сплошными массами, так ударяют под легкий киль кое-как собранной лодчонки своими сильными хвостами, что та опрокидывается, и тогда промышленникам грозит великая опасность. Попади голова самого крепколобого турка под размах дельфинова хвоста и, оглушенный, если не убитый наповал, ловец идет ко дну... Шум и гам во время промысла неизобразимы. Абхазцы, ободряя себя, орут, перекрикиваются, или, кувыркнувшись в воду, весь морской простор оглашают отчаянными воплями. Сами они не везут сала, добытого таким образом, за границу. Этим занимаются те же турки и греки.
Чрезвычайно оживленна картина промыслового становища вечером, когда на вершинах гор сияют еще последние отблески заката и розовый блеск лежит на Черном море. У устья рек, под шатрами — громкие песни. Везде горят костры, и над ними высоко, в самое небо, уходит густой дым: это в больших котлах вываривается жир дельфинов. Молодежь тут же устраивает игры, пляшет. Каюки словно замерли у берегов и не колышутся, а среди тихо подступающей ночи все ярче и ярче блестят костры в лазурном царстве ее сумерек.
Несколько часов прошло, прежде чем Михако проснулся.
Потянуло с моря прохладой. Горы определеннее обрисовались позади. Очнулись леса после долгого забытья, и какая-то пташка первая крикнула во весь этот простор. Целая стая чаек прилетела откуда-то и замелькала над водою, высматривая в ней добычу. Точно белое облако, вровень с волнами неслась она к берегу. Ветер перешептывался с листвою и заглянул под корму опрокинутой лодки к мальчику, освежил его лицо, так что тот еще привольнее раскинулся там. Но спать уж нельзя было. Докатился прибой и разбился у самой лодки. Широкий размыв пены забрался под нее и плеснул в Михако. Тот живо поднялся, протер глаза, сначала даже сообразить не мог, что с ним случилось; потом понял, когда до него докатилась новая волна и выгнала мальчика из убежища.
Он выскочил из-под каюка и только сейчас заметил, что опрокинутая лодка была веревками закреплена за дерево, росшее в стороне. Значит, это дело обычное, и владельцы каюка предвидели, что море к определенному часу должно добраться сюда. Михако почувствовал голод. Сунулся было в хижины, стоявшие на берегу. Ему показалось, что утром он, пожалуй, недостаточно стучался в них, но — увы — и отсюда ему никто не отозвался. За хартутом идти было далеко, —пожалуй, к ночи дойдешь и Михако решился ждать: «есть жилье, будут и люди». Он кинулся, было, к выброшенным внутренностям рыб, но от них шел такой запах, что и голодного прочь отшатнуло. Только потуже затянул пояс: все же не так желудок на пустоту свою станет жаловаться!.. Чтобы забыться на время, он стал вспоминать, что делается дома.
«Пожалуй, отец уже вернулся из лесу, и семья собралась около котла, в котором варится гоми. Братишка, пожалуй, возится с козленком, и маленькая сестренка, возбужденная запахом похлебки, весело кричит ему что-то. Хорошо теперь дома, гораздо лучше, чем здесь одному, среди незнакомой пустыни. Положим, в Тифлисе его ждут великие и богатые милости, да ведь когда-то до Тифлиса доберешься, и доберешься ли при этих условиях!»
Тифлис ему казался ярким сказочным царством, — но ведь, и ко всякому сказочному чуду доступ бывает — ох, как труден! Сколько по пути надо одолеть великанов, порубить дебрей, победить двуглавых змеев, встретить злых старух- волшебниц!..
Пока ничего подобного ему не попадалось, но что такое все эти пустые избушки? А что ежели, как только стемнеет, и луна покажется над горами, с востока прилетят к ним огненные змеи, всполохнутся над крышами, рассыплются искрами, и на земле окажутся жестокие богатыри, и Михако сразу, вместо того, чтобы от них раздобыться чем-нибудь съедобным, сам попадет к ним на вертел? В самом деле, стоило ли убегать из дому, переносить столько, сколько перенес он, чтобы в конце концов послужить шашлыком для неведомых чудовищ!..
Неизвестно, ушел бы он отсюда или остался дожидаться утра, если бы издали не послышались какие-то странные звуки. Михако сначала было даже к земле припал от страха: «пожалуй, ведь это и огненные змеи домой летят!» Он точно хотел врасти в почву, только сердце у него колотилось, как у пойманного зайца, которого ловец приподнял за уши кверху и держит на весу, не понимая безграничного ужаса маленького зверка. «Опять эти звуки! Нет, они не с гор, а с моря... Именно с моря. Что ж? Разве чудовища не могут явиться оттуда? Если бы еще днем, а то ведь сумерки вчера окутали даль, и в их густой лазури почти утонули горы, только безграничная поверхность моря светится еще и горит...
Нет, это люди кричат. Михако, не поднимаясь на ноги, заполз за хижины и спрятался за ними, только так, чтобы ему видно было, кого Бог ему пошлет сюда. Еще вчера и все эти дни мальчик мало поддавался страху и испугу, но голод и утомление сделали свое дело, и он теперь сам чувствовал себя вполне беззащитным перед ничтожной даже случайностью. Да и воображение слишком разыгралось. Разом вспомнились все наивные сказки и захватили Михако в заколдованный круг.
Крики ближе и ближе.
В ярком зареве огнистого блеска Михако различает две черные точки. Голоса залетают к нему оттуда... Теперь ему понятно, в чем дело. Это, должно быть, рыбаки возвращаются домой. От сердца отлегло у него, но не совсем. Еще неизвестно, что это за народ. Если абхазцы — ничего. А если турки? Эти с собой захватят и, вернувшись домой, продадут его в рабство. Мальчики и девочки не раз пропадали таким образом по этому поморью. Поди, ищи их потом в захолустьях Анатолии!..
Именно люди. Теперь Михако различает даже паруса. Каюки это или фелуки? Если каюки, значит, с промысла возвращаются абхазцы... Каюки и есть. Ишь, как неуклюже они колыхаются на воде. Точно раненая птица, упавшая наземь. И кричат эти рыбаки. Не поют, как грузины, а именно орут, ободряя себя и отгоняя усталь. Тяжело движутся, медленно. Добычи много... Это хорошо. Коли улов хорош был, и ловцы станут добрее к нему, маленькому Михако. Ишь, как колышутся каюки, точно им стоит, Бог весть, какого труда осилить каждую волну, подкатывающуюся им под киль. То взберутся на нее, тяжело, грузно, то рухнут вниз, а абхазцы орут еще громче. Будто море послушается их крика и скорее принесет их к вожделенному берегу.
Х
Если бы Михако вслушался в доносившееся к нему и все более и более возраставшие крики рыболовов, он бы, пожалуй, усомнился в верности своего убежища. Дело в том, что в общем гомоне возвращавшейся промысловой партии слышался лай собак, сопровождавших абхазцев на ловлю. И случись мальчику теперь вглядеться пристальнее, он бы рассмотрел на носу каюков лохматых остроносых псов, приветствовавших отчаянным лаем свое обычное жилье... Привычные к морю собаки за сотню шагов от отмелей выскочили из лодок и, высоко подняв свои мордашки, пустились вплавь, верно, соображая, что они, во всяком случае, будут дома скорее людей на их тяжелых челнах. И в самом деле, выбравшись на твердый песок, они довольно долго отряхивались, катались по сухому месту, и снова вскидывали вверх целые фонтаны воды и песку. Потом, заметив, что каюки уже близко, они бросились им навстречу, столь же оглушительно лая на весь этот притихший простор.
Каюки тяжело врезались в берег. Абхазцы живо выбрались на него. Они оказались все с голыми ногами. Полы их черкесок были высоко подоткнуты к поясу. На некоторых, впрочем, и черкесок не было, — так болтались лохмотья. Схватившись за края обеих лодок, они с унылым хоровым пением стали дальше вдвигать их на берег. Если бы Михако был художником, его бы заняла красота этого развивавшегося на свободе тела, ловкость и стройность его движений! Рыбаки были молодцы на подбор один к одному. Даже старики между ними показались бы старыми, только подойдя к вам вплоть: издали не было видно их седин, а мускулы сохранили юношескую гибкость и силу. Они с трудом навалились на края каюков и, упираясь ногами в песок, поддавшийся под ними, передвигали их вперед. Окончив с этим, они вскочили опять в лодки и начали выбрасывать оттуда на землю грузные и темные с серебром туши дельфинов. Таких на сей раз оказалось довольно много. Потом они уже гораздо легче повыкидывали другую рыбу, схватывая крупную поперек, а мелкую горстями.
Когда они кончили, ночь уже наступила. Запад погас, и только на самом краю моря чуть мерещилась желтая полоска. Вызвездило. Луна еще не поднималась над горами, и небо поэтому горело бесчисленными очами божьих ангелов, по абхазскому поверью. Пока выкидывали рыбу, собаки лаяли по берегу; когда же выгрузка была кончена, они, порешив с доставшейся им мелочью, немедленно обратились к исполнению прямых своих обязанностей. Во-первых, надо было узнать, не случилось ли чего-нибудь в их владениях в их отсутствие, и поэтому они кинулись во все стороны — к лесу и горам, тыкаясь мимоходом мордами в каждый куст, лая на каждое дерево и точно убеждаясь, что все здесь на своем месте и в полном порядка. В одном логу они спугнули какого-то зверя и погнались за ним, но, сообразив, что таким образом они выходят из пределов своего царства, вернулись... На его границах все было в порядке, и они зашныряли теперь поближе к берегу, все ближе и ближе подходя к избушкам.
Михако давно соображал: встать ему или нет? Он видел, как рыбаки вошли в сакли, вынесли оттуда большие котлы и охапки дров, разложили их на берегу и зажгли, так что в синем царстве молчаливой ночи теперь ярко пылали четыре больших костра, на огненном мареве которых резко выделились черные котлы. В них они побросали ранее срезанное сало, и, пока оно топилось, они свежевали дельфинов; длинными клочьми снимали с них ворвань и кидали ее туда же. Это, впрочем, не так интересовало голодного мальчика. Он знал, что дельфинного сала люди не едят, и потому оставался к нему глубоко равнодушен. Его гораздо боле занимало то, что творилось у самой сакли, за которою он спрятался. Там два старика разложили сравнительно небольшой костер и на него поставили средней величины чугунок с водою. Они, пока она вскипала, чистили рыбу и кидали ее туда и, наполнив таким образом котелок, бросили туда же пшена и чесноку, запах которого до боли дразнил пустой желудок Михако. Кончив с этим, они очистили еще рыбы, воткнули ее на палочки и выгребли из костра ярко пылавшие угли и начали ее жарить на них. Михако видел, как жир этой рыбы капал в огонь, и слышал, как он, окуриваясь дымом, шипел в нем. Михако носом ловил запах его и считал себя в эту минуту ужасно несчастным. «Еще бы, такая прелесть перед ним, а тут лежи неподвижно! Ведь, вопрос, что еще сделают с ним эти горцы!.. Попади им в руки только!» Так бы, пожалуй, долго еще пробыл Михако за стеной сакли, едва приподнимая голову над землей и жадно глядя на костер с варевом, но случилось то, чего он никак не ожидал. Один из псов с разбегу наткнулся прямо на него и даже от удивления отскочил назад, вопросительно подняв хвост на отлет: это-де что еще за штука?.. Посмотрел, посмотрел, наклонил голову на бок, потянулся на передних лапах, понюхал и гавкнул, точно спрашивая:
— Ты откуда свалился?
Другая собака подбежала тоже, и Михако произвел на нее тот же эффект. Она только мокрым носом провела по его щеке и тоже залаяла, поглядывая на рыбаков.
— Чего ты? — по-своему спросили абхазцы-старики, сидевшие у костра с ухою.
— Нет, вы, люди добрые, посмотрите, какая тут штука, — пролаяла ему та же собака на собственном диалекте.
— Наго! Сюда!
Но Наго совсем не собирался этого делать. Он пошевелил лапой Михако, тот от страху еще плотнее припал лицом к земле.
— Чего ты, вставай, дурак! — лаял на него пес и даже схватил его зубами за ворот, точно помогая ему.
— Надо посмотреть! — сообразил про себя абхазец, и поднялся. — Наго тоже даром беспокоиться не станет. Верно, черепаху большую нашел и злится, что та под броню свою забралась, ни с какой стороны не подберешься к ней.
Он лениво подошел.
В темноте сразу и не различил мальчика. Пощупал его палкой...
— Эй, ты! Кто такой? Вставай!.. Что лежишь!
Подбежал другой старик.
— Если у тебя дурного на уме нет, чего тебе бояться? Вставай!..
Они оба нагнулась, подняв мальчика за плечи и поставивши его перед собою.
Собаки, точно исполнив свое дело, сели на задние лапы и молча ждали, что из этого выйдет.
— Кто ты?..
Мальчик дрожал от страха, но абхазцам пришло в голову, что он не понимает.
— Ты грузин? — спросил его один по-мингрельски.
— Да, — едва-едва проговорил тот.
— Как тебя звать?
— Михако.
— Так.
Помолчали, помолчали, глядя на него.
— Зачем ты сюда пришел?
— Заблудился.
— А тебе куда надо?
— В Тифлис.
— Близкий конец, нечего сказать!.. — засмеялись старики.
— Зачем тебе туда?
— Дома есть нечего. А в Тифлисе у меня дядя большой человек.
— Вот как? Что же он делает?
— Мушой он там...
Абхазцы расхохотались.
— Ну, если у тебя муша большой человек, так тебе и комар за орла покажется. Чего же ты тут лежал?
— А я думал, вы меня прибьете... Я боялся.
— И дурак... Есть хочешь?
— Есть я хочу. Это я могу. Есть я очень хочу, — вдруг оживился мальчик. — Я давно не ел. Малость хартуту, — вот все, что у меня сегодня во рту было.
— Немного!..
— Вот возьми рыбы... Жареная поспела.
Михако нечего было приглашать. Он, как голодный волчонок, кинулся на рыбу, схватил одну и стал рвать мясо с палочки, обжигаясь и не обращая на это никакого внимания... Собаки, последовавшие за ним, сели против и не сводили с него глаз, изредка гавкая и, очевидно, недоумевая, зачем эта мелюзга здесь оказалась. Абхазцы-старики кричали что-то по-своему тем, которые сдирали сало с дельфинов на берегу. Михако, понимавший абхазский язык, сообразил, что это о нем, и опасливо на них оглянулся. Но они не обратили на него никакого внимания. В тишине ночи сало в котлах у них шипело и булькало, огонь с громким свистом вырывался из-под котлов и их черные бока лизал языками. Густой дым столбом поднимался в воздух...
Старики пошли в саклю и вынесли оттуда большие чуреки, — хлебные лепешки, — довольно черствые и, видимое дело, принесенные с собою издали. В котлах рыба тоже поспела. Они большими черпаками вынимали ее оттуда и поровну раскладывали на все чуреки. Когда это было кончено, они крикнули рыбакам, и те подошли, бросив на время работу. Каждый мельком взглядывал на мальчика и больше уже не обращал на него никакого внимания. Не до него было им. Очень они устали на ловле сегодня, и если о чем и думали, так только, — как бы поесть да улечься у костров до утра, когда опять их ждало море и работа...
Михако с своей стороны жадно следил, достанется ли ему что-нибудь из котла или, кроме жареной рыбы, старик ничего не даст. Но мальчик тотчас же успокоился.
— Ты чего же ждешь? — ткнул его черпаком в лоб седой абхазец.
Михако не понял.
— Вон твой чурек.
Ему была положена туда равная с другими порция рыбы, чесноку и пшена.
Он, пожалуй, скорее взрослых окончил ее и сам уже потянулся к выдолбленной тыкве с водою. У мальчика теперь стало легко на душе, особенно, когда взглядываешь на старика и замечал на себе его добрый взгляд из-под густых и грозно нависших седых бровей.
— Чего же ты из дому ушел?
— Голодно у нас...
— Лишний рот из семьи долой... Это так, это и у нас бывает.
— Года неурожайные, отцу трудно.
— Кому нынче легко? У нас тоже; летом, вот, кормимся, а зима придет, если турки и греки сюда не покажутся, некому и добычу продать... Хоть умирай...
— Земли у нас мало...
— У нас много — скал. Царапай их, пожалуй. Леса есть, правда, да они разобраны... Что делать! Посетил Аллах своим гневом, с ним не поспоришь!
Остальные рыбаки ели медленно и молча. Накричавшись, должно быть, на работе, теперь им было не до болтовни. Окончив и испив воды, они отошли прочь и разлеглись около котлов с варившимся салом. Скоро в сумерках вечера их и не видать стало...
XI.
Михако оказался предоставленным себе. За целый день он выспался; теперь ему вовсе не хотелось смыкать глаз.
Он лежал, закинув руки под голову, как вдруг его лица коснулось что-то мокрое. Мальчик живо вскочил и засмеялся.
Наго, один из псов, явившихся сюда с рыбаками, ласково вилял хвостом перед ним, припадал на передние лапы, отскакивал назад, болтал во все стороны смешною острою мордой и, очевидно, вызывал Михако на какую-то игру. Тому тоже не хотелось спать; он погнался было за собакой; та крутилась вокруг, но не давала себя схватить, уносилась в кусты и снова, как бравый всадник на джигитовке, вылетала оттуда, взбрасывала все четыре лапы на воздух и показывала такие курбеты, что маленький грузин поневоле хохотал над ней... Она ему в ответ тихо лаяла, точно не желая будить спавших рыбаков, отбегала к берегу, валялась в его песке, схватывала маленьких крабов и, не вредя им, подносила их Михако: «на-де, полюбуйся!» В одну из таких экспедиций она на берегу вдруг замерла и, как часовой ружье, подняла хвост... Михако, разбежавшийся было за нею, остановился. Собака всматривалась в морскую даль...
— Что там, Наго? А, что там?..
Собака нетерпеливо тявкнула в его сторону: «отстань, мол, не до тебя теперь, не до игры мне с тобою... Видишь, серьезное дело!»
Ребенок так и понял.
Другая собака подбежала и тоже уставилась туда. Точно сторожевой пост открыли они обе на берегу.
Михако посмотрел-посмотрел в серебряное царство моря, по которому из бесконечной дали сюда бежала легкая зыбь, и только спустя минуту различил там слабый, едва брезживший огонек, подымавшийся вместе с водою, то окунавшийся вниз и пропадавший. Но собаки в это время открыли, должно быть, нечто более им интересное и значительное, потому что и та и другая вдруг подняли громкий, оглушительный лай. Наго остался на берегу, при этом выкрикивая что-то весьма, по-собачьему, выразительное и важное в морскую даль, а второй пес с тем же самым лаем кинулся к саклям, точно хлопоча:
— Вставайте же скорее!.. Чего вы спите, лентяи!
Выбежал старик-абхазец из сакли.
— Не спишь? — ласково спросил он Михако.
Потом воззрился в указанное собаками направление и радостно вскрикнул.
Вслед за ним разбуженные показались и другие ловцы.
— Они это? — спросил один из них.
— Они... Кому же больше?
И всех охватила та же радость, что и старого абхазца.
— Магомет-бей, должно быть.
— Или мулла Ибрагим.
— Теперь все сало им сбудем!
— Если цену дадут настоящую...
— Турок лучше заплатить, чем грек.
— Еще бы! Грек при этом и надует еще, как в прошлый раз.
— А если это греки?
— Греки не с той стороны плывут обыкновенно... Греки с запада, а эти с юга идут... Да и парус у греков другой.
Нужна была огромная привычка к морю, чтобы различить и самую лодку и парус ее в осиянном просторе. Михако, как ни присматривался, ничего, кроме огня, не видел. Рыбаки, когда он был уже поближе, вытащили из сакли длинный шест, обернули его сверху соломой, облили ее нефтью и, воткнув в мягкий и податливый береговой песок, зажгли... Пламя этого сигнального шеста ярко запылало, откидываясь под легким ветром по сторонам и бросая багровый отсвет на озабоченные, обветренные лица промышленников. Солома, сгорая, шипела и роняла массу искр. Теперь все абхазцы столпились около. Должно быть, и с лодки заметили этот огонь на берегу. Оттуда с борта, тоже замахали факелом: «видим-де, знаем!» Турецкая фелука, потому что это была именно она, направилась прямо к берегу, к становью наших рыболовов, и скоро под синими ночными небесами на серебряном море она обрисовалась вся, со всеми своими снастями, черною мачтою и черными бортами... Только парус казался над нею полувоздушным.
— Эй, Сафар! — крикнул один из промышленников, другому, — поди, разложи костер.
— Гостей угостить надо будет!..
— Еще бы! Поди, голодны!
— Путнику Аллах радуется.
— Выбери рыбу получше!..
— Знаю, знаю.
Все завозились, приготовляясь к встрече друзей. Михако, боявшийся турок (отец ему рассказывал о них немало), хотел было удрать, но старый абхазец по-прежнему смотрел на него приветливо, и он решил остаться здесь, надеясь на его защиту...
XII.
Закипел котел, заварилась суета в маленьком становище, затерявшемся посреди морского пустынного берега. Михако отошел в сторону. Спать ему еще не хочется, и смотрит он на всю суету кругом него. Куда девались лень, медлительность абхазцев! Они выкатывают бочки с салом из сакли; что заготовили за это время, все теперь рассчитывали продать... Вот и турецкая фелука близко... Вся черная, на лунном свете так и вырезывается! Приветливые крики оттуда. Огнем горящий шест теперь уже не нужен, и его торжественно опрокидывают в воду, где он, шипя и дымясь, гаснет... Общий гомон. Остроносая фелука врезывается в песок, абхазцы подхватывают ее за корму и втаскивают дальше. Шурша, раздается земля. Какие-то смуглые, горбоносые люди, в красных фесках и коротких куртках, в широких шароварах, узко обхватывающих ногу внизу, выходят на берег. Все им рады; со всех сторон несется абхазское: «да благословит вас Аллах! Ему приятен ваш приезд!» Они тоже отвечают, и Михако догадывается, что турки постоянно здесь бывают, по крайней мере, они безо всякого труда говорят по-абхазски.
— На промысел или за товаром? — спрашивают, наконец.
— И за тем, и за другим.
В особенном почете здесь старый, сгорбленный мулла. На нем феска обернута зеленою чалмою: — «святой человек», в Мекке побывал и к самому Магомету в родство записался. Его ведут под руки и у котла очищают лучшее место. Михако даже вздрогнул, когда проходил мимо: он окинул его зорким и строгим взглядом.
— Ваш, что ли? — спросил он у абхазцев.
— Нет... бродяжничает... Нашли его сегодня здесь.
— Абхазец?
— Грузин!.. В Тифлис вот пробирается: дома есть нечего, а там у него дядя —великий человек, большой начальник, мушою служит.
Все расхохотались.
— А сколько тебе лет, молодец?
Мальчику повторили вопрос.
Он косился на муллу и ничего не отвечал. Как нарочно, припомнил рассказы отца, и от этого племени Михако не ждал доброго.
— Подойди ко мне!
Михако хотел было — в сторону, но его толкнули к мулле.
Старик, принуждая себя быть ласковым, взял его за руку.
— Молодец, право, молодец. Отличный бы «чубукчи» из него вышел. А ведь у нас из чубукчиев и пашами делаются, кому Аллах побольше ума пошлет.
Чубукчами в Турции называются отроки и юноши, подающие в кофейнях и в домах кальяны и трубки (чубуки), набивающие их табаком и раскуривающие его. В больших турецких домах масса слуг, и каждый имеет свою определенную должность. Чубукчи ни за что не подадут вам кофе; кафеджи, в свою очередь, ни под каким видом не поддержит вашего стремени, и т. п.
— Да, хороший бы чубукчи из него вышел! Красавец-мальчик!.. За него в Стамбуле большие бы деньги заплатили.
И тотчас же заговорил о другом, как будто забыл думать о Михако. Михако, обрадовавшись тому, что его оставили в покое, отошел в сторону и лег. Было тепло. В саклю, где темно и душно, его не тянуло. А тут все-таки огонь костра, веселый говор и собаки, которые привалились к мальчику, и Наго даже начал лизать ему лицо, ласково стуча хвостом в твердый песок берега. Сначала разговор у костра шел совсем не интересный. Толковали о цене на сало, условливаясь, почем сдать его, сообщали, как идут в этом году промысла. Только, окончив трапезу, мулла, как бы мимоходом, опять уронил:
— А мальчик этот совсем красавец.
— Много их таких в Мингрелии!
— Да... На базаре в Стамбуле за него бы заплатили более, чем за целый каюк сала.
— Вот как!
— И все новенькими золотыми монетами.
Михако насторожился.
Дело шло о его шкуре, и спать теперь было бы очень глупо, а еще глупее играть с собаками. Он даже толкнул ногою Наго. Она взвизгнула, отошла и все-таки легла около, посматривая на Михако кроткими глазами.
Мальчик прислушался.
И совершенно напрасно, — теперь абхазцы опять толковали о другом. Мулла им рассказывал, что султан в неизреченной милости своей скоро объявит поход на уруса и истребит огнем и мечом Московское царство, да так, что впоследствии никто и указать не сможет, где оно стояло. Головы неверных будут валиться, как спелая кукуруза под серпом, и повсюду вырастут на месте церквей мечети, и даже самое имя христианин исчезнет с лица земли. Будет только один народ и одна вера в единого Аллаха и Магомета, его пророка. До сих пор ведь султан жалел гяуров. Он все думал в несравненной своей благости, авось нечистые собаки опомнятся и сами придут к нему, поклонятся, а теперь мера терпению его исполнилась.
— Мы сейчас на Сухум и Кутаис пойдем, — фантазировали абхазцы.
— Берите, все ваше... Ему не жалко...
— А то и на Тифлис.
— Хоть и Тифлис грабьте. Надо же и вам попользоваться.
— А то у нас шашки заржавели, и пауки уже в дулах ружей вьют паутину.
— Известное дело... Воину нельзя, как бабе, забывать ремесло. «Рука, долго не разившая врага, слабеет...» Сколько лет мальчику?
— Говорит, девять.
— В самый раз... Он не ваш?.. Вы бы его продали мне.
— Как это? — не поняли абхазцы.
— Так. Отдам я вам деньги и возьму его с собою на каюк.
— Да ведь ты сам говоришь, мулла Ибрагим, что он не наш.
— Вот именно... Он христианин, неверный пес, и сам Аллах привел его к вам. Каждый христианин и все его имущество принадлежит мусульманину, первому, на которого он наткнется.
— Странно как-то... чужим добром торговать.
— Как чужим добром?.. У нас он сделается хорошим магометанином. Ваша же заслуга будет перед Аллахом.
— Так-то так... А его отец... мать?
— Он им из Константинополя больше помочь может, чем отсюда. Тут он пропадет и до Тифлиса не доберется.
— Где ему!..
— Ну, вот... И вы народ бедный... Ведь, ничего у вас нет.
— Ничего.
— Видите сами, судьба ему, значит, быть проданным, А мне что же, мне все равно, я для вас стараюсь. Разве вас христиане не обижают, разве они у вас не отняли и землю, и воду, и лес... Если даже магометанин и убьет гяура, так и то он прав, а вы для его же счастья продадите его.
Воцарилось молчание. Рыболовы загляделись на огонь и соображали. Старик-абхазец вдруг проговорил:
— Не ладно дело.
— Что?
— А чужого ребенка продать.
— Не на смерть... Напротив, ему же на добро.
— Тогда пойди к его отцу и купи его.
— Отец иной веры, — он не продаст.
— А нам он не принадлежит.
Михако понял уже, в чем дело. Он весь захолодел даже, и, пока о нем шла речь, мальчик сначала хотел, было, сейчас же бежать, но, сообразив, что его удаление заметят, — слишком светло еще было от луны, — он стал, как бы от нечего делать, и шаля, перекатываться, не становясь на ноги, все дальше и дальше. Собаки приняли это тоже за игру и, с непокидавшею их серьезностью, следовали шаг за шагом за Михако.
— Что же вам лишнее, что ли?
Мулла, как бы играя, вынул из кошеля, бывшего у него в поясе, горсть золота и начал его подбрасывать на ладонях.
У абхазцев и глаза разгорелись.
— Здесь вам на все хватить, — говорил мулла.
Звон золота самой ласкающей музыкой раздавался в ушах у бедняков.
— И ему хорошо будет? — вскользь проговорил один.
— В Стамбуле — еще бы!
— Наши дети, пожалуй, ему позавидуют.
— А то нет?
— Еще как! Каждый день станет рис есть, баранину!
— Он еще радоваться должен, что мы его возьмем.
— А сколько тут золота? — спросил муллу один из рыбаков.
— Сочти сам.
И он передал ему деньги.
Все наклонились. Под багровым отблеском костра эти лица, в сущности не злые, самые обыкновенные лица, казались разбойничьими. В глазах светилось это проклятое золото, притягивало их к себе, переливало, тускнело и разгоралось.
— Что же, братцы?
— По-моему, пускай его мулла берет.
Старик-абхазец качал головою. Ему одному не нравился этот план.
— Эй, мальчик! — крикнул кто-то.
Но кругом все молчало.
— Михако! Так его, кажется?
В ответ — ни звука.
Продолжай Михако катиться, пожалуй, и не нашли бы его: но он, услыхав оклик, испугался, вскочил на ноги и опрометью кинулся в горы. Собаки опять-таки приняли это за игру и с громким лаем бросились вдогонку, подвертываясь ему под ноги, забегая вперед, и, с хвостами на размете, заскакивали по сторонам.
— Вот он где! — сообразили абхазцы.
— Мы его тебе мигом приведем.
Чего им стоило нагнать Михако! Не прошло и четверти часа, как он был в их руках.
— Ты, дурак, куда бежал?..
— Пустите меня, пустите...
— Куда пустите? Там тебя волки съедят...
— Я не хочу в Турцию. Я христианин. У меня есть отец дома. Пустите...
— Молчи, если сам своей пользы не понимаешь.
— Вай-Аман! — закричал тот, что было силы, но его уже не слушали, приподняли на руки и понесли к костру.
— Вот он, бери его!
И свалили, точно связанного барина под нож, подле муллы.
— Пустите меня, что я вам сделал? Я не ваш... Я вас не знаю... — рыдал и бился мальчик.
Но мулла, не слушая его, отсчитывал золото абхазцам, потом с деловым видом стал осматривать Михако. Поднял ему голову, зубы посмотрел, по спине даже хлопнул, приговаривая: «Хороший чубукчи выйдет, самому султану не стыдно предложить».
Воспользовавшись оплошностью окружаюших, Михако опять кинулся было наутек, но его уже со смехом нагнали. Один из поймавших схватил его за плечо. Михако вцепился ему зубами в руку. Тот крикнул.
— Куда же его? Ведь с ним до утра покоя не будет.
— Запереть бы.
Старику-абхазцу пришла какая-то мысль в голову.
— Я его в саклю, что в лесу у нас.
— Надежно ли? — беспокоился мулла.
— Еще бы не надежно! Там башня. Его можно в самый верх.
— Связать бы!
— Ну, вот еще, только руки ему испортите и понапрасну измучите.
— Ну, бери его, что ли!..
Старик забежал в хижину и, спустя минуту, вышел оттуда.
— Наго!
Собака приблизилась в нему.
— Эртух!
И другая тоже кинулась на зов.
— Помни, Михако, захочешь уходить от меня, эти псы разорвут тебя. — И другая тоже кинулась на зов. — Так и знай.
Но в Михако теперь вся его способность сопротивляться, вся его энергия погасли. Он покорно пошел за абхазцем.
— Мы завтра придем за ним...
— Да, да, постой-ка... — вспомнил что-то мулла. — Пусть он, мальчик, не говорит, что мы его даром взяли... Поди сюда!
Михако подвели.
— Вот тебе при всех даю, — видите... три золотых... Ты, я думаю, отродясь столько золота не видал? Вы все засвидетельствуйте, что он взял у меня деньги.
А Михако взять-то их взял и даже в кулак зажал, но зачем это, никак понять не мог.
— Получил? Видели вы все, что он получил?
— Видели, видели.
— Ну, теперь все в порядке. Веди его, старик.
Михако повели...
Он шел, совсем как теленок, когда того ведут к базару на веревке.
Ни мысли в голове, ни трепета даже.
Замерло все. Если бы его теперь кинжалом по горлу хватили, он бы не отошел, до того растерялся.
Старик-абхазец оглянулся: костер был уже далеко.
Собаки, верные отданному приказанию, следовали за Михако по пятам.
— Ты вот что, все-таки, — тихо заговорил старик, — ты все-таки не бойся...
Михако молчал.
— Слушай ты меня, дитя мое... Я стар уж и зла тебе не желаю.
Ласковый голос его проник теплою струей в душу мальчика.
— Запомни хорошенько. Судьба наша от нас зависит иногда. Если у тебя хватит мужества, не видать мулле тебя никогда.
Михако прислушался, и понимать стал.
Сознание возвращалось к мальчику.
— Как это, отец мой?
— А так... смотри кругом... Запру я тебя — не теряй надежды. Умей пользоваться тем, что у тебя будет под руками... Слышишь?
— Слышу, отец!..
— Помни: нет дороги в двери, — для орленка в каждую трещину есть выход. А это вот тебе, чтоб ты с голоду не пропал.
И абхазец вынул из-за пазухи нисколько чуреков и отдал ребенку.
— А теперь пойдем к башне...
Лес уже приближался к ним... Луна затягивалась в облака. Где-то далеко-далеко выли чекалки. Громадный филин большою тенью пронесся в высоте.
XIII.
В лесу было темно. Только кое-где лунный свет, прорываясь сквозь плотную чащу вершин, рисовал в потомках бледные и странные силуэты. Точно сюда собираются призраки, живущие только в эти тихие часы, когда все живое спит и безмолвствует. Впрочем, не все живое: два или три раза в высоте протяжно и пронзительно зарыдал филин, да где то далеко-далеко завыла чекалка. Собаки, провожавшие старого абхазца и мальчика, ответили ей грозным лаем: «мы-де здесь, — не очень уж дери горло, а то и шерсть тебе очистим!» Чекалка так это и поняла. Михако уж не слышал ее больше.
Посреди леса стоял аул.
Дорога шла все вверх и вверх. Узкая тропинка между деревьями подымалась порою довольно круто. Тут поросль уже не была так густа, и призраки лунного света не выступали на свежие, дышавшие прелестью поляны: он заливал их сплошь, и ясный месяц стоял над горами, которые нет-нет да и показывались вдали. Все теперь серебрилось кругом, — и берега внизу, и скалы; только лесная дрема, уходившая к морю, чудилась на них черным облаком, припавшим к земле.
Тут когда-то шумно и грозно жил старый аул. Под его кровлями росли крепкие и сильные поколения гордых воинов, которых еще недавно наши кавказские служаки называли рыцарями гор. Но пробил час, судьба не пощадила их, и теперь в дряхлых каменных стенах — ни звука. Аулы такие, как этот, уничтожены, разрушены, сожжены, а те, кто был в них, — давно на чужбине, и следа от прежних повелителей этого края нет. Только десятая часть выселившихся в Турцию горцев осталась теперь; все остальное погибло, рассеянное, изголодавшееся. Ни в чьих преданиях, ни в чьей песне не останется памяти об исчезнувшем народе, и скоро, проходя мимо его могил, мимо этих безмолвных и безлюдных аулов, никто не будет знать, какая жизнь кипела под этими плоскими кровлями, какие сердца бились там и каких суровых драм — свидетели эти раскидистые дубы и каштаны. А между тем, легендою без слов, духом легенды веют каменные вершины, так красиво вырезывающиеся на лунном свете, темные и серые ущелья, заповедные леса. И только когда из-под массы дикой поросли вдруг вырвется неожиданно благоухающий розовый куст и аромат белых лилий встретит вас в чаще боярышника и плюща, вы поймете, что здесь когда-то существовало целое племя, сильное и мужественное, — племя, разом исчезнувшее с лица земли, как исчезает дым, рассеваемый ветром, как тень от пробежавшей по небу тучки, как зыбь на морском просторе... Тихо колышутся чудные цветы, и едва-едва шелестит их листва, точно робко жалуется она вам на эту стихийную смерть, — смерть целого народа.
Тропинка круто свернула.
Теперь абхазец и Михако шли в тени.
Лунный свет ярко бил на отрывистый спуск с горы, вырезая его из мрака.
В одном месте дорога змеилась по отвесу. Громадные массы камня, точно сложенного здесь циклопическою стеною, падали в бездну. Вертикальная стена скоро сгорбилась, выпятилась вперед и всею своею массою повисла над пропастью. Вот-вот рухнет... Вся она в воздухе, на чем только держится.
Прямо на горбине, висевшей над долиною, точно гнезда ласточек, — сакли.
Кто и как прилепил их сюда? С отвеса горы выступала плоская кровля и упиралась деревянными столбами в такой же выступ пола, в свою очередь, едва державшегося на балясинах, укрепленных вкось в расщелины скалы. И таких балконов сотни!.. И все над бездною! Эго — гнезда под кровлей колокольни, жилье воздушных существ, что хотите, только не аул, не село, не обитель человека, — что-то волшебное, призрачное, похожее на сон, далекое от действительности... и лунный блеск, выхватывающий эти ласточкины гнезда из мрака, — свет, который точно дымится на их плоских крышах, обращая деревянные жерди в серебряные колонки, расщелившийся камень — в матовые глыбы серебра!.. И еще выше, над воздушным аулом, величаво дремлют в вечном покое голубоватые вершины гор, подернутых серебристою пылью, крутые, безлюдные, скалистые; едва-едва ложатся на них тени от ущелий и рытвин.
Смотришь, — и тянет туда, и манит, и кружит голову, и замирает сердце...
— Мы туда идем? — спросил Михако.
Абхазец кивнул ему.
— А башня где?
— Вот она!..
Над «ласточкиными гнездами» аула, опираясь на каменные сакли, поднималась выше других сторожевая башня.
Она стоит, точно памятник, над этим кладбищем исчезнувшего народа — достойный мавзолей, венчающий гордые траурные вершины. И ночь кругом притаилась и ждет чего-то. Точно вся замерзшая от восторга, любуется окрестность на яркий месяц, а тот, весь исходя лучами, чаруется ею!..
— Ты по скалам умеешь лазить? — спросил мальчика абхазец.
— Да.
— Ну, вот! Значит, и из башни тебе откроется дорога на все четыре стороны.
— А ты лучше меня теперь отпусти!
— Нельзя.
— Отчего?
— И тебе не советую сейчас же бежать. Турки народ лукавый. Они и Аллаху не верят. Подожди сначала. Пока месяц не дойдет туда вон, — указал на горы, — не трогайся с места. Чего доброго, они еще кого-нибудь послали следить за нами. Тоже ведь и Ибрагима-муллу надуть требуется много ума и осторожности!... Уйдешь, за меня помолись; Бог ребенка слушает.
Зигзагами поднялись по горе. По сторонам шла бездна, там курился белый пар... Скалы неожиданно, точно сторожевые великаны, вставали по дороге, преграждая путь к сокровенным долинам. Вот и самый аул. Действительно, он похож на кладбище. Ничто не шевелится в саклях. Тьма зияет из их пустых окон, точно из глазных впадин черепа. По улицам, похожим на ложе высохших потоков, — ни собаки, ни кошки... Тишина, смерть!.. Чуть вздрагивает листьями акация, мелкая и узорчатая, вытянувшаяся в лунном блеске своим прихотливым узором. Тут вот, должно быть, мечеть была... Вот полуразвалившийся минарет, весь на свету, с обрушившейся галлерейкой: только кусочек ее торчит вверху, и на нем спит большая черная птица. Купол мечети тоже упал. Грудой мусора высится его кирпич в зияющие двери... А когда-то тут плакали и молились... Вот и башня... Гордо повисла в воздухе и, действительно, опирается она на каменные сакли. Очевидно, во время нападения сюда, в громадное темное помещение, горцы загоняли свои семьи — жен и детей, а сами вверх по каменной лестнице забирались над ними в башню и из ее бойниц отстреливались во все стороны. Она будто сложена без цемента; шиферные плитки наложены одна на другую; кажется, дунь ветер, — от нее не останется и следа! Но сотни лет прошли со дня ее сооружения, тысячи горных бурь бесились здесь, потрясая ее своими порывами, в тучах и громах невидимые руки небесных ураганов схватывали ее, точно желая с корнем вырвать из земли эту жалкую каменную былинку, — а она, назло всему, стоит себе и знать ничего не хочет над пустым и безлюдным аулом.
Внизу темно.
Михако даже пугливо косился по углам: ему чудилось там какое-то движение, точно от их шагов что-то неведомое и невидимое, страшное тихо-тихо расползается по долине к самым стенам... Вот и лестница: каменные ступени у каменной стены, и даже не ступени, а просто выступы шиферных плиток. По ним и всходить нельзя было, а только царапаться вверх: люди, как ящерицы, взбирались тут, держась вплотную к башне.
Взобрались они и сквозь какую-то дыру вошли на каменный, зиявший предательскими провалами, пол. В бойницы зашла луна. Громадная потревоженная змея, точно изогнувшийся длинный кнут, кинулась в сторону, шипя и блистая злыми глазами. Опять лесенка наверх, уже деревянная... Абхазец вынул ключ, ввел Михако наверх, отворил дверь и запер ее опять за ним...
Михако оглянулся.
Он был один.
В бойницы светил месяц.
Верхнее отделение башни все было озарено им. Вон на светлом пятне бежит большой скорпион. Михако раздавил его камнем... Что-то шуршит в скважинах стены... Слышны удаляющиеся шаги: это старик-абхазец уходит прочь...
Собаки, обернувшись, пролаяли, точно крикнули ему, Михако, свое последнее «прощай»... Тихо... так тихо, будто все умерло кругом, и он один остался на целом свете... Михако пощупал за пазухой. Чуреки были целы. Сосчитал золотые монеты и полюбовался их блеском...
Чу!.. Какой-то странный, свистящий звук... Он обернулся. Из каменной щели в стене выглядывала змеиная головка. Он швырнул в нее камнем. Змея спряталась... Темная точка мелькнула мимо бойницы, — должно быть, ночная птица пролетала. И опять безмолвие, неподвижность и смерть!..
Михако выглянул в окно, — далеко еще месяцу до указанного стариком-абхазцем места. Ждать нужно долго!.. Вон темная кровля, на которую опирается башня; улица — точно серебряная под луною; плоские крыши других саклей —точно ступени разбегающихся во все стороны лестниц. И едва-едва различишь мираж моря, сливающейся вдали с небесами.
Михако вооружился терпением, на самой середине каменной тюрьмы расчистил себе место и сел, стараясь, во что бы то ни стало, не заснуть. Он хорошо понимал: засни теперь, — до утра проспишь, а утром придут турки и заберут с собою, сон ему будет стоить свободы! Хорошо еще, что он выспался днем, а то бы, пожалуй, не осилил...
Он стал думать о родных и знакомых, о старом лесе, где спит теперь в своем убогом домишке его семья; о белом козленке и кошке, вероятно, вышедшей уже на охоту за мелкой птицей; думал-думал и — вдруг сам себя поймал на том, что у него глаза слипаются. «Этак и до беды недалеко!» Он вскочил на ноги и стал ходить из угла в угол или, лучше сказать, от одной стены до другой, потому что башня была круглая, и углов в ней не оказывалось. Ему теперь захотелось помечтать, что он сделает со своим богатством. В самом деле, есть у него теперь целых три золотых монеты. Такого сокровища никогда не было не только у него, но и у его отца. Ему казалось, что на эти три золотых монеты он может поставить отцу и новый дом, и земли купить, и лесу, и лошадь завести, — короче — все, что так привлекаешь к себе убогого колониста, и в чем судьба отказывает ему, несмотря на его упорный, каторжный труд...
Да не только лошадь, и дом купит! Пускай отец знает, какой удалой малый его Михако; мальчик и себя не забудет при этом! Он непременно поступит в милицию и будет носить красивое, все в позументах и шитье, платье с большим серебряным кинжалом и газырями, и когда большой начальник увидит его таким молодцом, сейчас же назначит Михако офицером с эполетами на плечах и с золотыми веревками у плеч и на груди, именно таким офицером, какого мальчик видел раз в Илларе, проезжавшего в Сухум. Фантазия Михако разыгралась до того, что и не прошло и четверти часа, как он уже оказывался генералом и покорил турок, предавая их всяческим казням за то, что они торгуют мальчиками. Побеждая всевозможных пашей, взял он в плен самого грозного муллу Ибрагима, и когда того, трепещущего и уничтоженного, привели к нему, Михако повелевал запереть его в эту самую башню на вечные времена... Неизвестно, на чем бы остановились мечты мальчика, который уже в Константинополе ел плов на серебряных блюдах в золотом дворце и к каждому обеду приказывал резать самого жирного барана, если бы, случайно посмотрев в окно, он не увидел, что месяц уже зашел за башню. Он выглянул в бойницу, — луна была там, где ему указал старый абхазец, которого он в своих планах будущего, за свое освобождение и за его доброту к нему, делал сильным и богатым пашой...
Пора было уходить.
Он опустил взгляд.
Вон по улице крадется что-то, опасливо, трусливо крадется. В первую минуту, когда Михако не разглядел еще этого, ему показалось, уж не из турок ли кто-нибудь следит за ним. Нет, по тени разобрал, что это не человек здесь. Всмотрелся, — чекалка. Ну, чекалки мальчик не боится. Чекалка ему не страшна; она сама побежит от него во все ноги; он с палкой пойдет на нее, разумеется, если она одна, а не целая стая их...
Боже мой, как высоко! Даже дух захватило у Михако. Неужели ему надо спуститься, вися над этою плоскою кровлей? Ведь один неверный шаг, камень, который сорвется у него из-под ноги, и он, Михако, в одно мгновение разобьется внизу. И крикнуть не успеешь на весь этот молчаливый простор. Точно над бездною поднялась эта башня!
Его учила мать когда-то: «Если тебе будет страшно, помолись Георгию Победоносцу! Он самые робкие души одушевляет мужеством...» Мальчик вспомнил притвор убогого грузинского храма св. Георгия, копьем попиравшего многоголового громадного змея. Св. Георгию стоит только захотеть, и мальчик спасен!
— Св. Георгий, ты видишь, какой я еще! Помоги мне! Если бы я вырос, я бы не обратился к тебе: большому стыдно просить себе мужества!.. А я ведь маленький! Если ты не придешь ко мне, кто же спасет меня? Богородица еще разве? Я и Ей молиться буду, и как вырасту и сделаюсь важным генералом, вот какие церкви выстрою и Тебе и Ей. И теперь, как доберусь до церкви, поставлю вам обоим свечи. У меня ведь на это есть деньги, — у меня, св. Георгий, целых три золотых. Я богат теперь!..
Перекрестился. Начинает вперед ползти. Повис на руках. Носком нащупал выдававшийся плитняк и в скважину стены точно врос пальцами... Ниже и ниже... Цепко держится. Под одной ногой шиферная пластинка выпала из стены, едва на другой стоял, а руки еще глубже в щель вдвинулись. Ему теперь и думать не хочется, что в этих щелях и скорпионы и змеи... Легко могут ужалить... А то еще и фаланги гнездятся в них... Да мало ли всякой дряни в старых, оставленных людьми башнях?.. А небо-то как глубоко и высоко над ним, и все полно света и тайны!.. Много ли он уже перелез? Вниз бы взглянуть! А вдруг эта бездна потянет его к себе? Ведь его еще отец учил: «не опускай глаз, когда висишь над пропастью или идешь по ее краю. Смотри в небеса, где Бог, и тебе хорошо будет!» Опять шиферная плитка выпала из-под ноги... «Св. Георгий!»... — только и успел воскликнуть мальчик, — «Богородица!»... И словно чьи-то крылья подхватили его... Разом окрепла рука, и другая нога точно прилипла к стене. Вверху уже много пройденной стены осталось. Он откинул голову назад, не увидит ли бойницы, из которой он вылез. Нет, ее незаметно, — со стеною слилась... Из-за пазухи чурек выпал... Мальчик расслышал, как он шлепнулся о плоскую крышу. Он еще живее стал спускаться. Св. Георгий, должно быть, внял его молитве! Он теперь близко над ним, на своем воздушном коне. Его, разумеется, не может различить Михако, но что он тут, около, ему ясно, потому что в его маленьком детском сердчишке нет ни боязни, ни нерешимости и руки его стали точно железные. Он уже уверенно вставляет в щели стены носки и еще увереннее ощупывает, вися на левой руке, правою следующую расщелину внизу. Полз, полз, как муха, и вдруг почувствовал под ногою не плиты, из которых сложена старая башня, а что-то плоское, твердое — крышу; другою ногою ступил и руки опустил...
— Благодарю тебя, св. Георгий!..
Он был уже на крыше.
Луна светит сюда, ярко, так ярко, что тень его так и обрисовывается на плоской скале. Вот обломки упавшего чурека. Он тщательно собрал их; неизвестно, где еще наткнется на жилье; сколько времени ему придется голодать здесь? Разве он это знает!.. Пробежал до края этой большой кровли, на которой утвердилась башня, ставшая его тюрьмою; нагнулся заглянуть вниз. Э! Да тут земля у самых ног почти, нечего искать выхода, прямо спрыгнуть можно!
Михако тотчас же сделал это и очутился на безлюдной улице оставленного аула.
Теперь надо бежать отсюда! На рассвете явятся за ним турки. Бог весть, далеко ли ему удастся уйти от них на своих маленьких ножках?.. Чу!.. что-то крикнуло в стороне. Сова, должно быть. Будто отвечая ей, завыла чекалка. Верно, та самая тень, которую он видел сверху из своей бойницы именно здесь, на этом самом месте.
Он но чувствовал себя вовсе усталым.
Правда, на руках и ногах было несколько ссадин, и сочилась кровь; камни разодрали ему кожу. Но это такой пустяк, о котором и толковать нечего. Св. Георгий дал ему не только мужество, но и неутомимость. Мальчик поправил шапку на голове, подтянул потуже пояс и весело кинулся вон из аула в светлое царство лунной ночи.
Поди, догони его теперь!
За стенами аула он кинулся к морю. За лесом различает его берега. Даже различил избушки абхазских рыболовов. Вон они!..
— Ловите теперь!.. Прощай, Ибрагим! Вот твои золотые монеты, спасибо за них! Ты меня погубить хотел, да рассчитал без Богородицы и св. Георгия, а они нам, христианам, всегда помогают.
Благодарное чувство еще раз шевельнулось в его груди, когда он вспомнил старика-абхазца, помогшего ему.
— Если у тебя есть внуки, да сделает им Господь то, что ты сделал для меня!
Голубые горы были перед ним. Тут уже не оказывалось тропинок, да они и не надобны ему: по стене, по отвесу перелез, а крутая гора — пустое дело для него, для Михако. Ему ли теперь не одолеть ее?.. И он даже весело побежал вперед, швыряя ногами камни, попадавшиеся по дороге. К рассвету, он был уверен, будет далеко.
— Прощай, добрый старый абхазец!
XIV.
Выбежал Михако из аула и вдруг остановился как вкопанный.
Между теми горами, что в царстве голубой ночи поднимали к самым небесам свои воздушный вершины, и тою, на которой стоял аул, темнела казавшаяся бездонною пропасть. Нужно было по едва ли одолимой крутизне спуститься в ее сырое и черное логово и оттуда, по другую уже сторону, всползти на следующий скат. Михако зорко стал всматриваться вниз. Тут ведь промахнись, — и костей не соберешь! Холодом обдает, хотя мальчик и привык уже ко всяким неожиданностям. Пропасть, точно пасть какого-то чудовищного зверя, зияла под ним, беспощадная, поджидающая, притаившаяся, оскаливая свои зубы-утесы, словно челюсти, расположенные по ее сторонам. Замирало сердце, и мутился ум. Так жутко стало Михако, что даже малодушные мысли приходили ему в голову.
«Уж не лучше ли пойти назад и отдаться туркам? Ведь, никуда не убежишь! И в самом деле!.. Вон мулла про Стамбул какие чудеса рассказывает»...
Но Михако тотчас же очнулся.
— А еще абхазец-старик считал меня храбрым! Ведь одолел же я башню! И если Богородица и св. Георгий помогли мне там, отчего же им не помочь еще раз?
Порыв мужества охватил его, — он почувствовал, что и взгляд его проясняется.
Вот по спуску рубчик, которого он не заметил прежде. По нему можно спуститься в этот туман, что густеет внизу. А, может быть, там и тумана нет, — там слишком уже глубоко, ну, и мерещится поэтому мгла. Ведь намечаются же острия утесов; будь туман, и их бы заволокло и ничего бы не разобрать Михако!
Тихо и осторожно пошел по рубчику.
Встревожил горного орла, мирно отдыхавшего в выбоине старого утеса. Поднял, недоумевая, голову старый хищник и, подпустив его шагов на пять, медленно расправил крылья и грузно поднялся на ближайшую скалу, откуда с недовольным клекотом провожал мальчика. Михако до того осмелел, что поднял камень и запустил его в царя воздушного простора. В одном месте рубчик разрывался: по нем прошла трещина. Вот тут, в тумане, когда туча на утес уляжется, спокойная и непроглядная, — беда неминучая! Трещина шириною в аршин, рубчик висел над бездной, выдвигаясь плитняком; разбился он — и точно провал в ад! Но Михако уж хорошо владел собою: не вечно же ему было трусить; вспомнил, что мусульмане путь в рай изображают подобным же образом, по узкому, как острие сабли, мосту; этот рубчик похож на такой мост. Он разбежался и перепрыгнул. Теперь трещина позади, рубчик завернул за утес и пропал там. Михако живо последовал по этому направленно и наткнулся на ступени, выбитые в скале. Тут было легко: только смотри за тем, чтобы нога не скользнула, а то все нипочем. Кое-где ступени полустерлись: там требовалось еще более осторожности.
— Эх, палки нет с собой! — вспомнил Михако.
Теперь бы она ему понадобилась! Еще бы, с нею полгоря! Знай себе, опирайся ею в боковые щели и держись! Что это? Ему показалось, что отголосок какой-то песни долетел к нему. Он притаился, к земле припал даже. Теперь человек, того и гляди, враг ему будет; пожалуй, со зверем встретиться не так страшно. Опять!.. Слава Богу, это не голос бродячего абхазца: просто ветер проснулся где-то и пробирался по ущелью. Ишь, как свищет уныло, точно плачет над кем-нибудь! Хорошо, что луна светит сюда, и Михако теперь все видно. Иначе он вообразил бы, что где-нибудь около призрак непогребенного мертвеца. По горам Кавказа всюду верят поселяне в таких выходцев с того света. Убьют где-нибудь на пути человека, душа его по ночам принимает свой прежний вид и бродит по откосам и скалам, плача и вымаливая у путников зарыть ее тело. Если найдется бесстрашный, она поведет его туда, где на голом камне белеют обглоданные чекалками кости. Ей только и нужно, чтобы их землей прикрыли, благословили это место и кое-как собранный крест вбили около. И после этого храброму страннику душа убитого во всем окажет помощь: и грозу от него отведет в горах, и лавину остановит, чтобы она не задавила, и вражью пулю отнесет в сторону; от зноя беспощадного летнего солнца облачком прикроет; незаметно для спутника приведет его к холодному и чистому ключу, что хоронится где-нибудь в горной складке, никому невидимый, напояя только горючие скалы живительной влагой. Бояться таких призраков было бы незачем, если бы им не препятствовали духи гор: они доверчивого странника приведут на край бездны и, не помяни христианин имени Спасителя, а мусульманин своего пророка, незримыми крыльями бросят его вниз на добычу чекалкам и воронью...
Несколько пониже Михако стало лучше. Ступени прекратились. Тут уже кусты пошли. Еще издали под лунным светом он различал их темные пятна. Скат горы от них какой-то тигровой шкурой казался. Михако им обрадовался, даже песню, было, запел. Тут можно было бежать вниз. Если и сорвется, и покатится, так до первого куста от одного к другому... Не прошло еще и часу, как он очутился уже между большими деревьями. Сюда луна уже проникала с трудом. Остаться бы отдохнуть, но ведь утро недалеко, и с рассветом бросятся за ним турки и абхазцы. Они ведь не как Михако по горам цапаются: там, где он едва лепится, абхазцы скоком одолевают отвес. От них не уйдешь!.. Значит, чем больше оставить за ночь пространства между собою и ими, тем безопаснее. Солнце встанет, тогда и заснуть можно будет.
XV.
Грохот воды.
Отовсюду в сыром и холодном ущелье бегут потоки.
По дну его змеится речонка.
Медленно подвигается Михако, следуя за ее капризными извивами.
Сил уж почти не осталось, — да ведь теперь именно и началась за ним погоня. Пока ноги не отказались еще окончательно двигаться, надо идти все дальше и дальше.
Солнце встало.
Вершины гор тонут в розовом блеске.
Вот карниз с оставленным аулом; всю ночь полз от него Михако, а он точно над самой головою. В сиянии рассвета чернеют сакли. Башня, куда его вчера заперли, повисла над ними. Вон оттуда, сквозь продушины узкой бойницы, Михако вылез вчера.
Ветерок теперь освежал его лицо, хоть мальчику пока еще холодно... Заснуть бы скорее...
И речушка шумит как!
По ней в эту пору безопасно прошла бы и курица, но бесится, злится и орет она так, что Михако собственных шагов не слышит. Попадет в русло камень, обломок какой-нибудь скалы, — речонка пыжится неимоверно, взмыливается вся, перебрасывается через него гремучими струями и, оббежав препятствие, долго злится и ворчит, вымещая свою досаду на мелких камнях, на золотистом песке, наконец, на нем, неповинном Михако. Сколько раз уж она нежданно-негаданно обдавала его водяной пылью или хлестала в самое лицо мальчику крупными брызгами, точно оттуда кто-то полной горстью швырял в него воду. Михако не знал, куда даваться от шалости речных струй, попробовал взобраться на откос, но усталые ноги сами собою сползают, да и глыбы земли рушатся под его тяжестью, так что вместе с ними он уже не раз попадал в самое русло. Еще, того и гляди, чуреки подмочить. Тут и растительность чахлая. Только в трещинах камней зеленеют кусты с ярко-красными цветами, от запаха которых кружится голова, да, точно голубая эмаль по золоту, на ярко-освещенных солнцем лысинах желтого камня, ласково улыбаются Михако незабудки.
Это место теперь кажется пустынным.
Прежде, и еще недавно, по сторонам аулы стояли.
Вот от них остались на холмах орешники, черешни и одичавшие айвы. Спроси у горного ветра, где их жители? По чужбине в одиночку странствуют, точно так же, как блуждают чекалки в их оставленных жилищах.
Шел-шел Михако и вдруг остановился. Шайтан, что ли? Нет, не шайтан... Шайтаны на день прячутся.
Прямо над ним, на камне, точно повисла большая птица, широко разбросав крылья, серебрившиеся на солнце. Большие, крупные золотые глаза смотрели на Михако и, верно, ничего не видели. Встревожил ли ее кто из сырого убежища в нише серой скалы или сама она поднялась в ущелье в неурочное время? Михако замер, было, да вдруг наклонился, подобрал камень, снял с себя пояс, расширявшийся в одном месте, — совсем стала праща; положил туда камень. Птица не шелохнулась. Размахнулся. Что-то свистнуло и с силой рассекло воздух. А на песке вздрагивал громадный филин-пугач, переводя крыльями и поминутно раскрывая клюв, точно ему дышать было нечем. Еще более недоумело, пристально глядели на мальчика его налитые золотом глаза, даже и веки не смыкались.
Михако с злорадством смотрел на свою жертву.
— Будешь маленьких птиц обижать, ночной вор?..
У горцев нет жалости к пугачам-филинам. С ними связана одна легенда, объясняющая спокойствие, с которым Михако убил ночную птицу.
Давно это было. Злое племя по горам сидело, с шайтаном дружилось, всякого, кто попадет к нему, в огне живьем пекло и жарило. Саклей они не знали; что звери, голые по лесам шлялись; дрались дубьем, камнями, как и Михако, из пращей. Стало людям долин, добрым работникам, тесно внизу — места не хватало, — муллы велели в горы идти. Пошли. Только каждый кусок мусульманам с бою доставался. Шайтановы друзья были силы непомерной, а, главное, чорт помогал им. Сегодня добрые люди выстоят, а ночью он все сплошь завалит каменьями, навезут снизу земли для садов; а он червей пошлет, или дождем смоет, или песком занесет. Стали мечеть строить: что за день выведут, то ночью рухнет. Самые умные муллы думали, ничего придумать не могли, пока не пришел один хаджа, побывавший в Мекке. Ну, тот все сразу понял. Велел найти такого ребенка, за которым греха нет, да чтобы один был у матери, да чтобы отец святостью был известен, да еще, чтобы у ребенка на груди полумесяц в виде родимого пятна означался. Десять лет искали, — не нашли; наконец, услышали от проезжего еврея одного, что есть такая семья и такой ребенок далеко-далеко, чуть ли не в Кабарде самой! Что было делать? Сказали об этом хадже.
— Непременно добудьте его! — посоветовал...
Пошли набегом. Много крови пролилось, сколько сотен людей перебили, один Аллах да Магомет про то лишь знают. Разорили десятки аулов и мальчика живого добыли.
Привели к хадже.
— Ну, теперь начинайте строить мечеть. Только внизу яму выройте.
Вырыли.
— Посадите туда мальчика, черного петуха и белую кошку.
Посадили.
— Заложите их каменным сводом.
Жалко было, да что же делать? Вывели свод.
— Теперь ставьте стены! Прочно будет!
И верно!
Ночь прошла, — все цело. Слышно было только, как шайтан по горам да по ущельям до утра плакал, что власти у него нет, что царство его отошло.
— Ну, а ребенок что же? — спросите вы у горца, который вам расскажет эту легенду.
— Ребенку что? Его душа прямо в рай, — одним ангелом больше на небе стало.
Люди видели, как через три дня из этих самых камней, которыми яма была заложена, вылетела зеленая птичка и с криком на небо взвилась. Откуда ни взялся, кинулся за нею черный коршун, — это шайтан был; только с неба его громом ударило; так и не удалось ему зеленую птичку заесть... Ну, вот, как достроили мечеть, и аулы начали в горах ставить... Шайтан уж ничего не мог сделать людям.
Был раз праздник, и побежали в лес все дети из двенадцати аулов венки плести, прохладой подышать... И хаджа был с ними. Дикие люди подкрались, поймали их всех, спекли и съели. Тут и случилось чудо великое. Все, кто ели хаджу, — жирный хаджа был, — или только присутствовали при этом, разом в филинов обратились, и положено им плакать каждую ночь так, чтобы правоверные слышали, как те казнятся. Остальной твари самим Аллахом велено ненавидеть и убивать их. Выйдя ночью в сад, — не заснешь, как уж начнет он плакать над тобою. До утра рыдает, проклятый. Вот здесь какое чудо случилось, и отчего в горах такая скверная слепая птица завелась. Нет Бога, кроме Бога, а Магомет — пророк Его.
Михако был христианин; но, живя между горцами, и он верил этому суеверному злому сказанию, и теперь, как любой Абдулка или Ахметка, ненавидел несчастную ночную птицу. Он даже не дотронулся до нее, а сам стороною прочь пошел, чтобы не накликать на себя беды. Ему и в голову не пришло, что он только что сделал жестокое и глупое дело. Напротив, в памяти своей он записал это, как поступок, угодный Богу, как подвиг... Люди везде одинаковы, как одинаков их ум, не просвещенный наукой и истинной верой. Чем он, Михако, хуже любого мальчика деревенского, воображающего, что делает прекрасно, раздавливая паука, таская птиц из гнезда или убивая камнем ни в чем неповинную жабу? То же суеверие, такая же тьма, та же бесполезная злоба.
Только когда солнце уже было высоко, Михако решился отдохнуть.
Ущелье ушло в сторону. Оставленный горный аул исчез из глаз, и мальчик поэтому успокоился. Абхазцы и турки теперь уж не так скоро его доискались бы.
Михако вынул из-за пазухи чурек и сел у одного из горных ключей.
Вода была у ног, — стоило только наклониться и пить. Голодному черствый хлеб показался вкуснее молодого барашка. Над головой раскидывался голубой свод безоблачного неба. В недосягаемую высь уходили горные вершины. Чтобы ни случилось сегодня вечером, завтра, сейчас, сию минуту, Михако был в безопасности. Ему было видно все кругом. За несколько верст ни одна душа не могла бы показаться так, чтобы он не заметил ее.
Он позавтракал, напился воды до отвала. У скалы нашел место, где постоянная тень лежала под смелым выступом дикого камня. Разбросал мелкий щебень, бывший тут, — нет ли змеи под ним? Но место оказалось безопасным. Только какие-то красные, как коралл, козявки расползлись во все стороны. Михако бросил папаху под голову, свернулся комочком и заснул. Точно в воду опустился, — даже дыхания его не было слышно. Измученные ноги отходили, грудь, истомленная и болевшая, уж мерно подымалась; глаза не разомкнулись даже тогда, когда пробежавшая мимо чекалка, не ожидавшая встретить здесь мальчика, чуть не наткнулась на его голову; потянулась к ней мордой, — не мертв ли? Но вдруг Михако шевельнулся. Острая морда отпрянула назад. Чекалка трусливо отбежала подальше, и там, поджав хвост, завыла отчаянно и пронзительно, точно на весь этот простор жалуясь, неведомо кому, на какую-то обиду... Михако и этого не слыхал.
Когда он открыл глаза, кругом стояли потемки,
— Неужели я проспал весь день? — подумал мальчик.— Должно быть, так!
Вышел из-под скалы. Сумерки кутают горную долину в свою поэтическую лазурь. Высоко-высоко, точно остров в океане вечера, вся розовая, горит голая вершина...
Михако почувствовал голод и живо уплел еще чурек, напился воды, помолился и пошел опять. Куда?.. Куда глаза глядели... Теперь у него оставался еще один только чурек, зато ноги отдохнули, и грудь дышала свободно.
«Много я уйду за эту ночь», — думал он.
И действительно, должно быть, мужество уж не оставляло его больше. Михако не боялся тьмы с ее призраками и до утра бодро шел вперед. Раза два-три приваливался отдохнуть, во второй даже часа два проспал, но проснулся от росы, садившейся на все кругом и на лицо тоже.
Опять целый день отдыха и целая ночь дороги.
Он съел последний чурек. Накопал каких-то корней, их отправил туда же, в выносливый желудок, но к утру уже был голоден.
Он не без злости перебирал золотые монеты и абаз, данный ему отцом на дорогу. Что он может сделать на них? У скал и у гор ничего не купишь, и на дереве не вырастет для него вкусного плода, если бы он даже бросил им все свои сокровища! Когда рассветало, он оказался на вершине невысоких гор. Впереди были орешники, но орехи уже были сняты... Должно быть, люди здесь побывали... Часа два шел он горным кряжем. Солнце стало припекать. Орешник поредел. В одном месте точно просека в нем.
Михако пошел по ней и вдруг, как подкошенный, упал в траву.
Что он увидел?
Медленно-медленно пополз, да не поднимая головы... Достиг до крутого обрыва горы и пугливым зайцем огляделся.
Внизу, у реки — большое село...
Вон и дома видны, и из их труб прямо в безветрие поднимаются дымки, как сизые ленты. Саман (солому) жгут хозяйки, должно быть. Кони пасутся около... Свои или чужие? Христиане или абхазцы магометане?.. Он стал приглядываться еще пристальнее: нет ли мечети? И вдруг радостно вздрогнул: ударили в маленький колокол.
Вон и остроконечная башенка у церкви с треугольным фасадом... Совсем как в Илларе и других грузинских селах. Неужели он добрался до христианской земли?
Михако вскочил, точно его большие крылья подняли с земли.
Еще раз взглянул вниз и побежал туда, что было силы...
Вот и кони близко...
Такой же мальчишка сторожил их.
Михако остановился.
Тот встал тоже и палку даже поднял: «ты-де не воображай! В случай чего, я и отдую тебя!» Но в расчет Михако вовсе не входило подраться со встреченным пастухом... Михако вынул абаз и, как будто не замечая мальчика, начал играть серебряной монетой. Мальчик бросил палку и стал бочком-бочком подходить. В это время абаз упал, покатился, оба кинулись поднимать и столкнулись головами. Михако испугался, было, за судьбу своей монеты, но живо выхватил ее из-под носа у маленького пастуха и зажал ее в руке.
Пастух посмотрел-посмотрел на него.
— Ты откуда?
— Издалека...
— Куда идешь?
— В Тифлис...
— Зачем?
— У меня дядя там большой начальник.
— Ишь ты... один идешь?
— Да... меня два дня назад абхазцы туркам продали, а я из башни убежал.
И, задрав штанишки вверх, он показал ссадины.
— Один бежал?
— Один.
— За тобой гнались?
— Сто человек; только я их всех победил.
— Чем?
— Чем? — «В самом деле, чем я их победил?»... — подумал Михако. — Прощай! Вот чем!
— Ты, значит, сильный?
— Я бы тебе показал, какой я, только сейчас есть хочу. Где тут чуреков купить?
— Ступай прямо, будет тебе улица, у самой церкви увидишь духан. Там армянин сидит, толстый такой... Спроси у него. У него все есть.
— Ну, а даром никто меня не накормит?
— Если бабушка Тамара, пожалуй...
— А она где живет?
— Да на той же улице. Вон дом и галлерейка наверху; кукуруза сушится перед ним; видишь деревья?
— Вижу.
— Ступай туда, она детей любит!
Мальчики расстались.
XVI.
Михако, отыскивая бабушку Тамару, невольно удивлялся, что такое делается в селе.
От владельческого дома князей Маргани по всем улицам бегали кучера. На площади, у самой церкви, стояла толпа, горячо обсуждавшая что-то, по-видимому, только что совершившееся. Старики слушали важно и невозмутимо, самым видом как будто говоря: «мы и не такие еще вещи видели на веку!» Молодежь горячилась, размахивала руками, порывалась куда-то. Один юноша зачем-то на колокольню влез и оттуда, приложив ладонь к глазам, высматривал окрестность. Другие повскакали на лошадей и вынеслись из села в окружающие его горные захолустья. У князя тоже, видимо, шла суматоха. То и дело «бичо» (слуги) выскакивали на балконы и веранды, женщины выбегали на плоскую кровлю и оттуда перекликались с людьми внизу на улицах. В саду, позади дома, даже птицы заразились общей суматохой. Они подняли такие крики, так копошились, такими стаями поднимались над старыми и густыми черешнями, айвами и тутами, точно к ним забрались и хозяйничают в их царстве коршуны и копчики.
Михако, впрочем, не было до этого никакого дела. Его больше всего интересовало, даст ему бабушка Тамара есть или придется идти к духанщику-армянину и у того купить себе хлеба. Какими сокровищами ни обладал Михако, но заветного, данного ему отцом абаза, он не хотел тратить, а крупную монету боялся разменять: во-первых, духанщик его может надуть при размене, а во-вторых, еще неизвестно, что из этого выйдет. Откуда у ребенка такие деньги? Не украл ли, подумают, и отнимут. Нет, уж лучше сначала попытаться у бабушки Тамары.
Жила она на этой улице, а тут все дома в садах и похожи один на другой. Даже их тополей и каштанов не отличишь.
Михако уж хотел, было, заорать: — «Эй, бабушка Тамара»... как вдруг остановился.
Прямо на него шел старик с такими же добрыми глазами, как у того абхазца, что запер его в башню.
Михако уставился на него.
— Дедушка, а дедушка!..
— Ну, чего тебе, блоха?
— Покажи мне бабушку Тамару!
— А тебе зачем?
— Так, дело имею.
Старик засмеялся.
— Ты не наш? .
— Нет, я издали
— А про бабушку Тамару уже слышал? Верно, такой же бродяга, как и ты, разболтал о ней? Признавайся, малыш!
— Мне ваш табунщик сказал.
— Ну, вот...
— Я есть хочу... Я бедный, купить не на что.
— Вон тебе бабушка Тамара, — указал он на низенькую ветхую саклю. — Видишь, за деревьями?
— Еще бы не видеть! Так бы не найти, а теперь — легкое дело!
Серая, убитая плотно землею, крыша выдавалась едва-едва над почвой, опираясь на тонкие жерди. Кругом раскинулись тенистые каштаны, высокие и тонкие тополя, тутовое дерево, густое-густое, выбежало на самую улицу, а позади к землянке прислонились важные молитвенные кипарисы. Несколько щенков играли на улице около, и, только что Михако подошел сюда, они открыли против него враждебные действия. Один остервенело затявкал, смешно подымая хвост; другой шариком подкатился под ноги мальчику; третий, серьезный и молчаливый, избрал себе благую часть, — подобрался сзади и норовил тяпнуть его за штанину. Под старым каштаном стояла старуха в черном простеньком «тавсакраве» (повязка на голове), из-под которого на плечи падали седые локоны. Черное платье, дешевое, но опрятное, было перетянуто поясом; зато ноги ее оказывались босы.
— Эй, вы, дьяволята! — крикнула она на щенков: — вот я вас!
Но «дьяволята», услыхав ее голос, бросились к ней и стали ласкаться к старухе.
Михако остановился около.
— Мальчик, ты к кому?
Он смотрел в сторону. Ему вдруг стало чего-то совестно.
— К кому ты, спрашиваю?
Михако думал: «уж не уйти ли?..» Да вдруг у него в желудке заворчало. Голод протестовал против этого внезапного решения.
— Я... бабушку Тамару ищу...
Та посмотрела-посмотрела на него.
— Зачем тебе она?
— Сказывали, бедных детей кормит.
По лицу старухи пробежало грустное выражение.
— Чего же ты боишься? Входи... У меня такой же ребенок... внук... Ушел раз в горы. Только его и видела: пропал без вести! Может быть, горцы украли, а то и волки сели. Входи, входи. Чего стоишь?
Михако вошел.
— Я не ел, бабушка Тамара...
«Только и осталось радости, что таких кормить», — думала она про себя, входя в землянку: — «а если и мой-то внук не пропал, а так же ходит да ходит по чужой стороне? Кормит ли его кто-нибудь? Или так же, как я, добрые люди помогают ему?»
Она живо вынула из печки просяную кашу, нарезала чурека, — у Михако только слюни текли.
— Все мне? — спросил он, косясь на горшки.
— А то кому же?
Взяла яиц, бросила их в кипяток. Михако только поводил глазами на всю эту давно невиданную роскошь.
— Дала бы тебе мяса, да барана не резали сегодня, а в духане дорого.
Но Михако о мясе и не думал.
Он так набросился на все поставленное перед ним, что бабушка Тамара, несмотря на свои грустные мысли, расхохоталась.
— Ну, малыш, если ты вырастешь, и так же будешь одолевать врагов, большой из тебя воин выйдет! Ешь-ешь, не бойся!..
Нацедила ему красного вина. Он не заставил себя просить. Давно его не пил: у отца подавали только в большие праздники, да и то пили старшие, а дети облизывались.
Наелся, напился и отяжелел. Даже глаза стали слипаться.
Старуха еще ни о чем его не расспрашивала, а теперь, как заметила, что мальчик устал, постлала ему на ковре в углу... Он давно уже не спал так. Дико покосился было на «мутаки» — мягкие цилиндрические подушки, — но его так потянуло к ним, что через минуту для него все на свете исчезло. Он заснул как убитый. Старуха села над ним; с нежностью, так странно шедшей к ее суровому лицу, глядя на спокойное лицо ребенка, она думала о своем пропавшем внуке: «эвон как заморился, должно быть, бедняжка! Поди, мать тоскует о нем. И куда он идет один, такой маленький? Как могли отпустить его? А, пожалуй, голод гонит, поневоле пойдешь по свету искать себе лучшей доли».
Ребенок дышал ровно и медленно.
«А может быть, сирота, никого на свете нет близкого; ну, как брошенный щенок, и бродит, ища себе приюта», — продолжала думать про себя старуха. — «Мир велик, а в нем все-таки нет пристанища сироте. Разве его оставить у себя? Пусть живет. А если мой вернется? Да где вернуться? Сколько лет прошло! Если его увезли на чужбину, так он вырос там, помнит! А если навертывается на мысли родная землянка со старым садом и так любившей и баловавшей внука бабушкой, так точно сон какой-нибудь, когда толком и не знаешь: было все это когда-нибудь или нет?..»
Михако проснулся после полудня.
Еще не вечерело. Он стал было собираться.
— Куда ты? — спросила его удивленная старуха.
— Теперь пора уходить!
— Зачем?
— Мне в Тифлис необходимо.
— Вот тебе и на! Да ты знаешь, где Тифлис?
— Там! — неопределенно махнул он рукою.
— Что тебе делать там, в Тифлисе?
— У меня там дядя — большой человек! Муша!
Старуха расхохоталась.
— И он впроголодь живет, а ты к нему торопишься. Переночуй еще ночь, а там посмотрим.
— Эту ночь можно, а больше нельзя.
И он покосился на печку: там варилось что-то вкусное.
— Эту ночь можно.
— А почему больше нельзя?
— Меня к дяде отец послал.
— Ну, завтра уедешь, успеешь...
— Что у вас в селе шумели утром?
— Наша княжна в большом горе. Назначила соколиную охоту, и соседи князья съехались, а под утро любимый ее сокол улетел куда-то. До сих пор все мечутся, голову потеряли. И не понимают, как это он сорваться мог? Дивный сокол был, только что не говорил, а то любого человека умнее, поди. Объявила: кто ей принесет этого сокола, шапка серебра тому. Да где его найдешь? Разве птице заказаны пути и ввысь? Все открыто! Поди, теперь летает, радуется. Сам для себя охотник. Наши молодые люди все обшарили кругом, и следа нет.
— А если я найду?
— Шапка серебра тебе будет! У нас княжна щедрая, молодая, красивая, смелая. А на охоте любого князя за пояс заткнет! Вот она какая!
— А где его искать?
Старуха засмеялась.
— Кабы знали, давно бы принесли его... Попробуй его во сне поймать, во сне и деньги получи: до утра весело будет... Ах, ты, охотник, охотник!..
ХVII.
Михако, как ни удерживала его у себя добрая бабушка Тамара, все-таки решил, что так нельзя: раз отец его послал в Тифлис, — в Тифлис ему и надо идти отсюда, не соблазняясь всякими вкусными яствами, который приготовляла старушка. Его даже не заставила переменить намерения изумительная чучхела, которую Тамара дала ему вечером. Чучхела эта была сделана из самых лучших орехов и такого сладкого виноградного сока, что уж если Исав за чечевичную похлебку продал право своего первородства, то Михако было бы простительнее забыть все приказания, полученные им дома, за такую прелесть, тем более, что старуха показала ему в отдаленном тумане будущего, т. е. в полумраке кладовой, еще не тронутые связки такой же чучхелы, которой хватило бы, по крайней мере, на год. Михако вздохнул, но отвел глаза от искушения. Зато утром, провожая его, Тамара снабдила мальчика не только всякой снедью, уложенною в сумку, — а сумку подарила ему такую, что ни на одном осле он еще не видал подобных узорчатых и пестрых мафрашей, — но и громадный кусок этой чучхелы. Таким образом, и в данном случае добродетель торжествовала, и твердость характера была достойно вознаграждена судьбою в образе доброй бабушки. Хотела, было, она от всей своей бедности дать Михако и денег, но тут мальчика обуяла совесть. Он не выдержал и, кинувшись к Тамаре, стал целовать ей руки, говоря, что деньги у него есть, что турок, о котором он рассказывал накануне, дал ему три золотых. Тамара разом представила себе, что, быть может, и ее внук таким же образом заблудился и, попав в руки рыбакам черноморского побережья, был ими продан в неволю. Она заплакала, остановила мальчика, зашила ему золото в какую-то тряпку и повесила ему на шею вместе с крестом: «так у тебя целей будет!»
Михако, выходя из села, ничего не видел; ему застилало глаза слезами.
«Хорошо», — думал он: — «если бы к концу каждого дня попадались такие же добрые бабушки, тогда, тянись путь хотя целые годы, ему, Михако, не о чем жалеть было бы!.. Пожалуй, до Тифлиса так бы раздобрел, как его кот дома, великий ловец птиц и мышей. Каждую осень этого четвероногого Немврода раздувало так, что он едва волочил лапы и в полдень только жмурился на плоской кровле родной сакли да разваливался на ней. Мурлыкал и вертелся так, что издали еще казалось: не веретено ли громадное вертится там?...
Михако было скучно. Когда еще увидит он добрую бабушку? Да и увидит ли?
В Тифлисе будет у него дело; пожалуй, ни разу и не случится вернуться сюда, в эту самую окраину. Но воображение мальчика уже работало, и по-своему он, хотя в мыслях, старался наградить старуху Тамару за ее доброту. Он представлял себе, как впоследствии, когда он станет большим начальником, пошлет по всей Турции разыскивать ее внука, даже, пожалуй, войну объявит султану, если тот замешкается исполнить его приказание. Найдя внука, выпишет к себе в Тифлис в золотой дворец добрую бабушку и собственноручно зарежет для нее самого лучшего барана, да такого, чтобы у него и мяса не было, а одно сало, белое, вкусное сало, наросшее на ребрах и на хребте. А потом оденет старуху в красное шелковое платье и станет ее с зурною-музыкою водить по улицам. В конце концов, он выдает ее замуж за самого важного генерала, чтобы все ее уважали и боялись.
Устроив таким образом в будущем счастье бабушки Тамары, Михако успокоился.
Оглядевшись, он заметил, что долина, по которой идет он, совсем не похожа на все виденное им до сих пор.
Это было наводнение зелени.
Она точно бурными волнами сползала с гор и заливала внизу берега небольшой, но веселой речки, шумевшей так, как будто каждая ее струйка, радостно поблескивая на солнце и играя с камешками, хохотала во всю мочь, как хохочет ребенок, когда мать ласково щекочет его под мышками.
И самая зелень была ему незнакома.
Такие пышные деревья, что под ними целые аулы могли бы раскинуться. Для его родной сакли достаточно было бы одного сучка такого дерева, чтобы прикрыть кровлю. В их равнинах водились тысячи птиц и так орали, точно старались перекричать и пересмеять струи шаловливой капризной речонки. Мимо самого носа Михако шныряли эти пичужки — пестрые, быстрокрылые, поблескивая на него яркими глазенками... Тени и прохлады здесь было, сколько хочешь, и в траве миллионы цветов улыбались мальчику, приветствуя его приход: «давно-де ждали тебя, здравствуй!» Поддаваясь опьяняющему влиянию леса, реки, птиц и цветов, он побежал вперед, да споткнулся об узловатый корень, торчавший поперек тропинки, и растянулся на ней, да так, что ему показалось, будто над его неудачей еще громче захохотали струи реки и засмеялись птицы... Михако встал сконфуженный, отряхнулся, как щенок, попавший в воду, и уже тихо пошел вперед, любуясь всем, что его окружало...
Шел, шел. Считал тропинки налево: на шестую яму надо было свернуть по указанию бабушки. И она, эта шестая тропинка, давно бы должна уж быть: ведь до нее всего три часа ходу!.. А теперь уже полдень, и солнце стоит уже прямо над лесом. На полянках жжет оно... А тропинки нет, как нет. Что это значит? Неужели он, Михако, опять заблудился и прозевал? Не назад ли вернуться? Нет, вон вдали что-то мерещится: может быть, жилье какое?.. Он прибавил шагу и скоро различил между деревьями старую башню. Кинулся к ней. Она была пуста и, видимое дело, разваливалась среди лесной дремы... Ворота в ней зияли, откровенно показывая кучи щебня и мусора внутри. Очевидно, все это обвалилось туда сверху, и запустение продолжалось давным-давно, так что по всем этим мусорным грудам ползучая дикая герань давно разбросала побеги. Около самого входа было пропасть золы и костей. Должно быть, в ненастье здесь находили себе приют охотники. Какое-то большое и темное тело шевельнулось вверху, где была еще тьма под полууцелевшим сводом. Михако, случись это ночью, пожалуй, испугался бы, но он твердо знал, что днем привидения не являются вовсе, да и змеи при солнце не остаются в грудах щебня, а выползают на охоту. Поэтому Михако и на этот раз поддался жажде истребления. Мальчик все еще был полудикарем и не мог одолеть в себе хищнических инстинктов. Кто ему внушал, что лишать без надобности жизни кого бы то ни было — великий грех перед Богом и громадное преступление не перед слепыми и подчас жестокими законами природы, а перед тем духом и разумом, которые являются основою человеческого существа, перед искрою небесной любви, горящей в сердце каждого из нас? Нужно только раздуть ее и дать ей разгореться, чтобы дети из зверенышей, жестоких и беспощадных, стали действительно теми «малыми сими», о которых Христос так нежно и ласково говорит устами святых апостолов.
Михако еще далеко было до этого. И поэтому, вооружась пращей, он заметал камни в выступы, исчезавшие во тьме свода.
Что-то тяжелое поднялось там. Послышались медленные размахи крыльев, широких и могучих; что-то грузно шлепнулось о стену; послышался пронзительный крик, и в зияющую в своде дыру большая лесная птица вылетела вон. Должно быть, села на кровлю башни, потому что следивший за нею маленький разбойник, Михако, уж не видел ее ни в воздухе, ни на деревьях, обступивших отовсюду эту развалину...
Влево от старой оставленной башни вилась тропинка.
«Не эта ли?» — подумал Михако. «Авось, она!»
Мальчик вообразил, что все дороги налево ведут туда, куда ему надо. Глуп еще был, разбираться не умел. Мир Божий не казался ему таким громадным, и каждый путь, по его мнению, вел непременно в Тифлис, а в Тифлисе — к большому человеку, его дяде-муше, носильщику. Таким образом, этот бедняк, в поту и потом зарабатывающий свой скудный хлеб, представлялся мальчику средоточием всей вселенной. Раз дойдя до него, Михако уж не очень будет беспокоиться. Он свернул на боковую тропинку и быстро пошел по ней вперед.
Опять минута за минутами, часы за часами...
Деревья становились реже.
Дорога в гору, но впереди за всякой порослью еще ничего не было видно.
Михако то отдыхал, то опять бежал вперед... И сам не заметил, как оказался вдруг в сплошном кустарнике...
Каштаны и орешники остались позади.
Кругом белели и краснели сильно пахнувшие цветы. Тропинки не оказалось и следа. Куда это он забежал так, что потерял ее и, должно быть, давно, потому что, когда он кинулся назад, в одну, другую сторону, дороги нигде не оказывалось?
Он крикнул... Повторил еще раз свой зов, направленный неведомо кому. Голос его звенел далеко-далеко, повторяемый скалами и ущельями, а ответа — ни откуда. Все кругом молчало... Молчали кусты, далее реки не слышалось здесь: от нее слишком отдалился Михако. Неужели он вновь заблудился?
Все равно надо идти вперед: Тифлис в этой стороне. Правда, сначала надо войти в горы, их перешагнуть, пробраться через владения диких Сванетов и уж ими добежать до Имеретии, до Кутаиса, а там, говорят, начинается такая дорога удивительная, вся выстроенная из железа: стоят на ней целые дома с окошечками, и все они привязаны к громадному и тоже железному коню, удивительному коню. Как только тронется он, сейчас у него из ноздрей выносится вверх и пар, и дым, и пламя, а по ночам вспыхивают не два, а три огромных глаза, и беда тем, кто попадется ему по дороге. Табун застрянет, он его растопчет железными копытами. И не сам своею силою движется удивительный конь, а сидит у него в самой его утробе большой шайтан, которого русские колдуны взяли в плен, закляли и заключили его в темницу, чтобы он служил им. Летит железный конь с домиками, привязанными к его хвосту так же быстро, как огненный змей несется по небу, и точно так же, как и тот, рассыпает по всему пути золотые искры. Как-нибудь да выплачет Михако место на этом огненном змее, забьется куда-нибудь подальше и вместе с ним долетит до Тифлиса, а до тех пор нечего жалеть ног, — авось, отдохнут потом!
А ведь, в самом деле, он, Михако, чего доброго, заблудился.
Та тропинка, о которой ему говорила бабушка Тамара, выходила к садам грузинского села. А тут какие же сады! Не только садов, но прошел он полчаса, — и кустов не стало, одна трава густая-густая стелется, свежая, сочная... Видимое дело, поят ее вволю тучи, что отдыхают здесь по ночам, и туманы, поднимающиеся по этим откосам, по голым вершинам гор. Вон и вершины эти. Голые совсем, в расщелившихся скалах, в изломах диких камней, в базальтовых зубчатых стенах, словно современные великаны воздвигли их на рубеже таинственного царства, чтобы никто чужой не мог проникнуть в заповедную глушь. Солнце спускается... Скалы и стены в золотистом блеске. А в небе-то, в небе все черные точки — орлы!.. Нет, орлы побольше. Резко тонкие крики донеслись до него: да это не орлы, это соколы! Ишь, разыгрались как! И все летят по направлению к этим вершинам и скалам.
Посмотрел, посмотрел Михако и угадал, в чем дело. Ведь это — сокола слетаются к ночи в свои гнезда!..
Они и есть. И гнезда вьются в расщелинах дикого камня. И на гнездах сидя, точно из своих замков рыцари, эти пернатые разбойники высматривают долину... Добраться бы туда, в их область!
Михако оглянулся... Другого пути нет. Хочешь — не хочешь, а надо перешагнуть через грозный рубеж. Обойти его не откуда.
К соколиным гнездам, так к соколиным! Все равно, не это остановит сильного и предприимчивого мальчика.
Ему вспомнилось, что говорила добрая бабушка: «найди сокола княжны нашей, и насыплют тебе полную шапку абазов».
— Где его найдешь! Если и тут он, — пойди-ка, схвати его... Не ровен час, и заклюет ведь!
XVIII.
Весь в розовом блеске и в ярком золоте прощальных огней вечер спустился на горные вершины.
Михако долго бегал из стороны в сторону; сквозь резкие крики соколов ему чудилось где-то журчанье ручья, точно выбившаяся из черной темницы вода радовалась и тихо пела песню, песню торжествующей свободы, под одною из скал, которые громоздились кругом... Мальчику хотелось пить. Речку он оставил далеко и давно и с тех пор не имел ни глотка воды. Правда, бабушка Тамара дала ему тыквенную бутылку с вином, но она наказала Михако беречь это вино пуще глаза. На горных вершинах в Сванетии будет холодно, кое-где придется ему одолевать вечные снега, — там это вино сослужит ему великую службу. Путался-путался мальчик и, наконец, сообразил, что так, без пути, слоняясь то взад, то вперед, он не найдет ничего. Ручей ведь бежит вниз, следовательно, если он пойдет прямо перед собою вдоль горной вершины, он непременно найдет его живописную струю. Так и оказалось! Не прошел он еще и пятнадцати минут, как вдруг заметил вдали темную полоску... Подбежал, — земля отсырела, и сверху на нее едва заметно сочилась струйка. Пить здесь еще нельзя было: больно грязна пока эта вода, но он по этому следу доберется до самого источника. Чем выше он поднимался по сырому логову, тем вечер делался темнее, а когда говор и пение ключа послышалось уже явственно над самой его головою, почти одни горные вершины еще горели от последних поцелуев солнца, да так горели, точно на скалах лежали громадные кольца только что выхваченного из горна золота. Внизу уже клубился туман и медленно, цепляясь за лесные верхушки, за кусты, полз кверху. Вот он окутал первые скалы и, не осилив подъема, остановился и кажется серым, однообразным маревом... А ключ — близко-близко. — Струйка его поет где-то и разбивается обо что-то. Михако еще не понимает, в чем дело, но торопится. Чем ближе к воде, тем жажда его одолевает больше. Так бы и припал к ключу. Уж и то его разбирала охота плюнуть на все эти сванетские холода, — авось, выдержит, — и напиться вина. Едва осилил себя! И судьба точно хотела вознаградить его за воздержание!.. Еще несколько шагов, и он остановился в полном восхищении. Из подземной темницы ключ выбился на волю в самой скале, на сажень над землей, и оттуда торопливо выносится точно из черной жилы и, описав дугу, падает вниз и разбивается о каменья... И что за вода чудесная! Это не то, что от таяния снегов рождается и по пути всякой грязи наберется да потом и бежит мутью. Это — сама чистота, сам хрусталь: прозрачная, холодная, освежающая. Михако подставил горсть, — мало! Недолго думая, лег ничком да и подобрался под падающую струю, но тотчас же с громким криком вскочил и прочь ударился. Еще бы! Струя из-под земли вырвалась с силой, и не успел мальчик подставить рта, как она его, точно плетью, ударила по лицу. Долго не думая, он поднес шапку, и тотчас же та наполнилась до края холодною прозрачной влагой. Михако напился до отвала, вымылся от пыли и грязи, за сегодняшний день покрывшей его такою корою, и, к счастью, увидел около чудесное местечко — плотно убитую у скалы землю, на которой ему отлично можно будет выспаться. Он осмотрелся кругом, — отовсюду орали, слетаясь на ночлег, опоздавшие соколы. В последних лучах заката уже мерещились, но были плохо видны соколиные гнезда на скалах и на выбоинах, трещинах и расселинах, точно черные шапки. Заметив одно из таких гнезд поближе, Михако подобрался, было, к нему. Там во все стороны торчал хворост. Мальчику хотелось швырнуть туда камнем, но соколиха, заметив непрошенного гостя, подняла свою серую с грозным клювом и ярко горящими глазами голову, громко крикнула, сорвалась и над самым Михако распласталась, вея на него большими крыльями сильные волны воздуха. Мальчик испугался. Еще, чего доброго, глаза выклюет, — и давай Бог ноги. Потом он сам негодовал на себя, да было уже поздно!.. Солнце, должно быть, зашло совсем, — звезды загорались над землей, которая точно смежила веки и заснула. Откуда-то далеко-далеко послышался рев барса, оковывающий холодом страха застигнутого ночью в пути одинокого странника. Михако тоже стало жутко, так жутко. Он обрадовался, что скала с выбранным для спанья местом оказалась близко, кинулся к ней, сел на землю, прислонясь к камню, нагретому солнцем за этот долгий день, и уже не трогался, пока луна выйдет,— жутко. Под каждым утесом чудится тень, из лесу доносятся странные таинственные звуки, и только ручей, выбившийся на волю, ничего не боится и ночью еще громче на весь холодеющей простор поет звонкую песню и, точно металл, рассыпается внизу, дробясь о камни... Михако вынул из сумки запас свой и еще раз вспомнил добрую бабушку Тамару. Даже помолился: «Дай ей Бог!» Больше у него не нашлось слов, и этого было достаточно, чтобы небо послало ей сегодня милый и хороший сон. Она опять видела своего внука: из страшной дали легким видением он слетел к ней и до утра, наклоняясь над изголовьем, ласкал ее старое, сморщенное лицо.
Луна встала и облила все кругом задумчивым сиянием.
Казалось, что земля и камни испаряются серебристым светом. Откуда-то пахло дикими цветами. В воздухе что-то прозвенело, точно струна лопнула, наполнив все кругом мелодическим, хотя и предсмертным стоном. Это заставило Михако открыть глаза, уже слипавшиеся. Он хотел даже встать и осмотреться, да сон и утомление оказались сильнее. Он уже ничего не помнил до тех пор, пока что-то не толкнуло его.
Михако вскочил и глаза протер.
Что это?.. Утро, рассвет... Небо розовеет... Какая-то черная тень удирает от того места, где спал мальчик. Михако всмотрелся и закричал на нее. Оказалось, шакал пробирался к воде и, обогнув скалу, наткнулся на спавшего. Ветер был от мальчика вверх, и потому чекалка его не почуяла издали.
Неужели он проспал, даже ни разу не проснувшись?
Должно быть, даже не шевельнулся, потому что правый бок болел, и правая рука занемела: как лег на них, так и проснулся.
И пора было.
В соколиных гнездах точно ярмарка открылась. Будто ожили и заговорили скалы. От гнезда к гнезду раздавались громкие, резкие, пронзительные крики, и с дальних утесов сотни других соколов отвечали на них такими же. Вся окрестность внимала им. Звон стоял в ушах у мальчика. С верхушек, с черных шапок гнезд срывались то и дело большие серые птицы и уносились в высоту, высматривая, не копошится ли где-нибудь в траве пернатая добыча, не суетится ли в ветвях у края дерева, а не в чаще, куда пробраться трудно, неосторожная белка. Ребенок напился воды, поел, опять вспомнив бабушку Тамару, проговорил: «дай ей Бог!» и пошел вперед...
Но сегодняшний день был для него самым счастливым во всю жизнь.
Провидение берегло неожиданную радость для мальчика. Только, разумеется, оно никогда не дает нам готовым ничего. Надо быть смелым и сильным, чтобы воспользоваться его дарами.
Не успел Михако отбежать от скалы, высматривая, где лучше подняться, чтобы перевалить через отвесы горных вершин, как вдруг он увидел в воздухе нечто такое, что заставило его вздрогнуть и прирасти на месте. Вдали показался какой-то клубок, черный сначала, который быстро-быстро двигался сюда, так быстро, как несется метеор ночью. Из этого клубка на весь простор разносились пронзительные крики. Когда клубок этот был близко, мальчик мгновенно рассмотрел сокола, зацепившего когтями большую белую голубку, как потом оказалось. Что-то мешало соколу проклевать ей головку, и она билась, работая хотя и слабыми когтями, все-таки беспокоившими хищника, раздиравшего ее грудь. Это, однако, не остановило воздушного разбойника. Следом за ним с громким клекотом, во всю мочь работая клювом и лапками, несся другой голубь. Мужественная птица не хотела оставить подругу в когтях у сокола и, трепетно размахивая крыльями, жертвуя собою, потому что из ее груди уже текла кровь: —сокол налету обернулся и разорвал ее клювом, — все-таки не бросала голубки. Совершавшаяся в поднебесьи драма приковала к себе Михако. Ему смертельно стало жаль и голубя и голубку. Он, было, развернул пращу и стал подбирать камень, как вдруг весь этот клубок из трех птиц упал у самых его ног, и в эту же самую минуту с остротой и стремительностью ребенка, выросшего среди лесов и гор, он заметил что-то необычайное, что именно мешало соколу быстро покончить со своей добычей. Во-первых, на шее у хищника болтался точно комочек золота, — это был парчовый колпачок, который в обыкновенное время у богатого грузина надевают на глаза охотничьему соколу, прежде чем брать его на добычу; а во-вторых, у одной из лапок болталась точно какая-то подвязка. Нам нужно гораздо более времени прочесть это, чем его понадобилось Михако, чтобы сообразить, в чем дело. Он вздрогнул, как раненый, и вдруг, точно молния, пронизало его мозг соображение.
«Сокол княжны... Шапка серебра!..»
Для него никакого сомнения не оставалось, что это — сокол, которого отыскивали вчера в грузинском селе и его окрестностях нукеры княжны, владетельницы округа. Михако, не отдавая себе отчета, что делает, сорвал с головы свою высохшую за ночь шапку и так швырнул ее, что она мигом покрыла воздушного рыцаря с его жертвою. Голубь отлетел и заметался над шапкою, сознавая, что под нею в когтях хищника мучится его подруга. Он жалобно кричал о чем-то человеку, точно видя в нем не врага, а помощника. Всякой твари хочется жить, и жизнь для нее полна такой же прелести, как и для нас. Михако живо сообразил, что ему делать: он подсунул под громадную папаху руку и выхватил оттуда голубку, которую, пораженный неожиданностью и тьмою, сокол выпустил из когтей. Несчастная птица с поломанным крылом билась об землю, открывала и закрывала клюв, точно дыша в агонии или безумном страхе. Глаза ее то подергивались серою перепонкою, то опять освобождались из-под нее. Голубь теперь захлопотал вблизи. Он что-то ворковал ей, движением крыльев навевал на нее прохладу, клювом в клюв целовал ее. Ребенку было пока не до израненной голубки. Он думал о том, как из-под шапки взять сокола. Шапка ходила, вертелась, и, не поддерживай ее Михако сверху, она давно бы опрокинулась и сокол улетел бы, и тогда его — поминай, как звали. Наконец, в одно из таких движений шапки показалась соколиная лапа. Она была перехвачена золотым кольцом с бирюзою. От кольца висела золотая цепочка. Михако схватился за нее, и, когда показалась другая лапа, он живо застегнул за такое же золотое колечко крючок цепочки и придержал птицу. Сокол все-таки рвался. Левую руку просунул Михако к нему под шапку, но тотчас же выхватил ее обратно: сокол злобно клюнул ее и выхватил из нее кусочек мяса. Кровь залила кисть Михако. Но ему было не до таких пустяков; он уже осторожнее, придерживая цепочку раненою рукою, правую незаметно всунул в шапку, подвинул ее до самой головы сокола, с ловкостью горского мальчугана схватил парчовый колпачок и, когда сокол совсем не ожидал этого, надвинул его на глаза птицы. Приученный к таким манерам сокол вдруг сделался неподвижным: так его дрессировали, и этим именно воспользовался Михако. Он живо привязал цепочку вокруг своей правой кисти. Сокол спокойно сидел на ней. Поправил ему колпачок. Сокол мотнул головой, но не сделал никакой попытки освободиться. Мальчик подбежал к ключу, поставил под холодную струю левую раненую руку и обмыл ее, потом наклонился, взял земли, мокрой от воды, и положил ее на рану. Отодрав от рубахи лоскут, обмыл его и покрыл кисть, оставив свободными пальцы. Сверху он все это перевязал тряпицей и направился вниз, зная, что так дойдет до реки, а рекою — до грузинского села.
Отправившись к селу, он забыл о голубях. Голубь не забыл его.
Он суетливо и испуганно закружился у самой головы ребенка, то отлетая назад к раненой и тяжело дышавшей голубке, бессильно лежавшей на земле, то возвращаясь к мальчику и точно испуганно крича ему:
— А нас-то как же? Так и оставишь? Да нас сокол издерет сейчас. Что ты?..
Мальчик так и понял мужественную птицу.
Ему стало жаль ее. Он вернулся, взял голубку, подвязал полу в себе к поясу и уложил ее туда, поддерживая другой конец полы свободными пальцами раненой кисти.
Очевидно, соображал Михако, голуби были домашние, ручные: иначе они не чувствовали бы такого полного доверия к человеку. Поэтому он и взял направление в противоположную сторону, чтобы обеспокоенный этим голубь указал ему прямой путь в грузинское село... Михако не обманулся в расчете.
Голубь опять затормошился. Жалобно-жалобно закричал и у самого лица мальчика замахал крыльями, точно давал ему понять: «Куда ты, куда ты? Совсем не туда дорога!»
И, собирая последние усилия: — грудь ведь и у него была ранена, — отлетал по направлению, противоположному туда, откуда восходило солнце, и опять возвращался. Мальчик, обрадованный этим указанием, вернулся и быстро пошел, неся сокола на правой руке. Голубь отлетал вперед, садился на какой-нибудь камень отдыхать; продолжая ворковать, точно зовя к себе мальчика, потом опять отлетал и опять отдыхал... Когда у Михако устала рука и он сел на путь, голубь опустился у его ног, клювом раскрыл полу его бешмета и, увидав свою подругу, успокоительно проговорил ей что-то: «погоди, скоро будем дома, все идет хорошо». Она едва-едва шевельнула крылом, и опять ей затянуло глаза пленкой; видимо, она страдала.
XIX.
Бабушка Тамара только что заперла, было, ставни. В час пополудни солнце начало жечь вовсю. Народ на улицах тоже весь попрятался по домам от невыносимого зноя. Все это громадное село казалось точно вымершим в этот тяжелый час грузинского дня. Если куда и показывались люди, так только в сады, где была тень и еще держалась прохлада. Сегодня старуха встала веселой; еще бы, всю ночь видела своего внука счастливым, здоровым и радостным! Она верила, что это небо давало весточку о нем. Встала веселой, да заработалась по дому и устала пополудни. Пообедала. Размаяло ее, она и решилась отдохнуть в темноте и холоде. Заслонилась от беспощадного солнца и только что подошла, было, к постели, как в дверь к ней застучали...
— Кому бы? из соседей кто? Вот не вовремя...
Она окликнула.
— Кто там?
— Я, бабушка Тамара.
— Кто ты?
— Михако, что у тебя ночевал сегодня. Я с удачей, бабушка...
Но она не слушала и отпирала дверь.
— Вот молодец, что вернулся, обрадовал меня.
И попятилась.
Михако был не один.
На руке он держал сокола, в поле у него лежала раненая голубка, а над самой головой вился голубь. Как только отворили дверь, он сейчас же влетел в комнату, точно для того, чтобы удостовериться, хорошо ли здесь будет его подруге, не обидят ли ее, что-то заулюлюкал старухе, так что та едва-едва отмахалась от него...
— Где это тебе Бог послал?
— Сокол княжны, бабушка...
И, путаясь, сбиваясь, торопясь, глотая слова, забегая вперед и снова возвращаясь назад, мальчик рассказал все, что случилось с ним сегодня. Голубь ему тоже сослужил службу. Вместо того, чтобы, как вчера, целый день идти до села по неведомому ему бездорожью, умная птица вывела его прямиком в пять-шесть часов. В село вошел он, когда на улицах никого не было, даже собаки, и те только разевали пасть, но не лаяли.
— Бабушка Тамара! Идем сейчас к княжне.
— Постой-постой!.. Дай обдумать.
Она стала опять накрывать на стол.
— Поесть ведь хочешь?..
Михако всегда есть хотелось, таким уж животом наделила его природа.
— Ну, так вот... А я прикину, что нам делать, да и сокола свежим мясом покормим. — Она сняла его с руки мальчика, посадила на железный прут у стола, сбегала в духан, разбудила армянина и купила у него мяса только что зарезанного барана. Сокол, когда с него сняли колпачок, сначала попробовал было клюнуть старуху, развернул крылья, хотел сорваться с места, но убедясь, что цепь его держит крепко, успокоился и стал жадно глотать кровавые куски, которые ему отрезывала Тамара.
— Сейчас к княжне отчего не пойти? Только опасно.
— Почему?
— Нукеры у нее отнимут у тебя птицу, меня прогонять, и отдадут ее владелице, как будто сами они ее поймали. Ведь это срам для них, что простой бродяга мальчик отыскал ее любимого сокола, а ее охотники ничего сделать не могли. Нет, так нельзя. Подождем, жара спадет, княжна обыкновенно, когда солнце заходит за ту вон гору, гуляет с гостями по базару. Тогда к ней и подойдем, да при всех и отдадим сокола. А до тех пор отдыхай!..
Но Михако было не до отдыха.
У него сильно колотилось сердце. Что-то из этого выйдет? Целая шапка серебра! Ведь это ему казалось страшным, неистощимым богатством! Ведь на это он всех поднимет, — и отца, и брата, и сам большим человеком сделается!.. Шапка серебра! Пока еще не поздно, нельзя ли где достать шапку пообъемистее? Ничего, что он в нее по шею уйдет, — он ее будет нести в руках, а не на голове... Положим, и эта велика! Выскочив из-за стола, он начал ее вытягивать, разминать и до поту бился над этим. Заметив его стратегии, старуха расхохоталась и прогнала его опять за стол. Голубь тоже не терял времени даром. Бабушка Тамара обмыла раны его голубки, уложила ее, присыпала расклеванные соколом места каким-то составом. Теперь голубь ворковал вокруг подруги, не оставляя ее ни на минуту и не обращая никакого внимания на поставленную для него кукурузу. По временам он, впрочем, кидался к соколу и, трепеща крыльями, злобно кричал на него, точно желая выразить:
— Ты что это, подлец, наделал, а?
Сокол тоже хотел сорваться с шеста и на него накинуться, но цепь держала его крепко, и он только пронзительно кричал от злости. Когда он кончил есть, старушка ловко надела на него шапочку, и воздушный разбойник успокоился,
Михако клонило ко сну.
Он старался во что бы то ни стало бодрствовать. Ему боязно было: а вдруг у него украдут птицу? Но скоро его так сморило усталью, что он заснул тут же, на лавке. Пожалуй бы, и вечер проспал, если бы старуха его не растолкала.
— Что, что такое? — открыл он глаза и вдруг, вспомнив про сокола, кинулся к нему.
Его сокровище было на месте, хотя, видимое дело, птице надоела шапочка, и она не знала, как от нее избавиться.
— Ну, теперь пора: княжна Маргани на базаре.
На минуту мелькнуло в памяти у Михако: «Маргани? Где он слышал это имя?» Но теперь ему было не до того. Старуха посадила птицу ему на руку и завернула ее в шелковый платок.
— Ну, помолимся!
Ему нельзя было креститься: рука была занята, и он поэтому только повторял за старухою слова молитвы.
— Теперь с Богом! Да поможет Он нам, бедным.
И они вышли. Она повела его задворками и вышла прямо на базар.
Перед ними тянулась длинная линия маленьких и низеньких плоскокровельных лавок. Направо стучали медники и наводившие на серебро чернь оружейники. Налево визжала от точила сталь. Башмачники шили чевяки. Толстый грузин на улице жарил шашлыки, выкрикивая похвалы своим обедам и на весь базар хвастаясь их дешевизной. Какой-то горец пробирался верхом, кутаясь по самые глаза в бурку, хотя было еще жарко. Угольщик вел осла с мешками, нагруженными его товаром. Вдруг все это шелохнулось. Вдали, окруженная гостями, молодежью из соседних княжеских фамилий, шла молодая Маргани, — но не она обратила на себя внимание всего базара, к ней двинулись неведомый мальчик и старуха Тамара. Еще издали увидя княжну, «добрая бабушка» сдернула с сокола шелковый платок. Гул пошел в народе. Все кинулись к Михако.
— Что там такое? — спросила княжна, останавливаясь.
— О, госпожа, какой-то мальчишка нашел твоего любимого сокола.
Княжна Маргани вспыхнула и, уже не имея силы совладать с собою, подбежала к мальчику.
Михако широко открыл глаза, увидав ее.
Еще бы! Сама судьба позволила ему отблагодарить эту девушку,
С первого же взгляда он угадал в ней врезавшуюся в его памяти у Ингура, у этой разбушевавшейся реки, на берегу которой он плакал, вымаливая, чтобы его перевезли на другую сторону даром, окруженную лихими всадниками красавицу-девушку в мужском костюме на золотистом карабахском коне. Это была она, она самая, стройная, тоненькая; на ней и теперь была черкеска, только белая, перетянутая поясом с золотыми бляхами, на которых висел отделанный самоцветными камнями кинжал; шальвары желтели, как и тогда, и падали на узенькие носки туфель.
— Сокол, мой сокол! — крикнула она и, сорвав его с руки Михако, сняла с птицы шапочку и начала целовать пернатого хищника. Тот узнал ее тоже и подставлял ей темя, полураскрыв крылья, и жаловался ей по-своему на что-то. Радость так и заливала живою краскою лицо молоденькой княжны... Она живо пристегнула цепочку плотно на свою руку и не сводила глаз с любимца.
— Кто это поймал его? — опомнилась она, наконец.
Бабушка Тамара толкнула Михако в спину.
— Вот он, княжна... Мал, но уж храбр и силен.
— Молодец. Сегодня же получишь обещанное.
Михако тряхнул шапку, авось, длиннее станет.
— Как звать тебя?
— Михако.
— Откуда ты?
Тот объяснил и вдруг осмелился.
— Я тебя знаю, княжна.
— Немудрено!
— Ты заплатила гребцам-абхазцам, чтобы меня перевезли через Ингур!.. И сказала мне; «Разучись плакать и будь мужчиной!»
— Что же, вижу, что мой совет не пропал даром. Куда ты пробираешься?
Михако объяснил.
— К дяде — большому человеку в Тифлисе!
Княжна расхохоталась.
— Нечего тебе делать в Тифлисе. Я беру тебя к себе. Ты мне нравишься. Получишь сегодня же награду, и тебе отведут помещение.
— Пусть он пока останется у меня, — вмешалась бабушка.
— Хорошо. А ты приходи ко мне. Я посмотрю, что из тебя сделать. Теперь твое счастье в твоих руках! Будешь достоин моей милости, выведу тебя в люди!
— Нельзя мне остаться.
— Почему?
— У меня отец, брат...
— Ах, да! Ты мне говорил. Ну, так вот что... Леван! — обернулась она назад.
Молодой щеголевато одетый нукер подскочил к ней.
— Завтра же ты поедешь за Ингур к его отцу, скажешь ему, чтобы он бросил саклю и землю, которая не может прокормить его с семьей, пусть едет сюда. Я ему дам около села получше участок с садом и хорошею саклею. Пусть благодарит Бога и своего сына Михако.
Княжна Маргани дала ему поцеловать руку и отпустила пока.
Мимо церкви шагом прошел мальчик и, увидав выходившего оттуда священника, остановился.
— Отец!
— Что тебе, сын мой?
— Это на церковь!.. От меня.
И он подал ему горсточку серебра.
— Спасибо! Приходи завтра, помолимся вместе и поблагодарим Бога!..
К довершению счастья Михако, голубка, израненная соколом, через несколько дней стала оправляться и к приезду его семьи до того привязалась к мальчику, что вместе со своим голубем не отходила от него, когда тот являлся от княжны Маргани домой.
— Оба за ним, как собаки, следят, — смеялась бабушка Тамара, которая заперла свою саклю и сама переселилась в большой дом, отведенный, по приказанию княжны Маргани, отцу Михако. Там, среди его детей, в тенистом саду, она чувствовала себя не так одинокой.
Так голодный мальчик Михако, и не добравшись до Тифлиса, нашел свое счастье.
