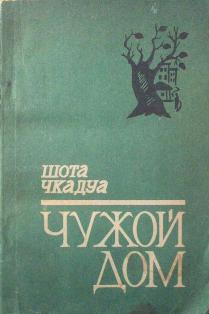

Об авторе
Чкадуа Шота Евгеньевич
(p. 20.VIII.1932, с. Кутол Очамчирского р-на Абх. АССР)
Абх. сов. писатель. Род. в крест. семье. Окончил Сухумский пед. ин-т (1956). Печатается с 1948. Начал со стихов; опубл. книги «Сатирические пьесы» («Асатиратә пиесақуа», 1958), «Пестрота» (1960), «Белое и Черное» («Ашкуакуеи аиқуаҵәеи», 1961), «Сатира и юмор» («Асатиреи аиумори», 1964), «Пчелка» («Ашьхыц», 1965), «Человек и место» («Ауаҩи аҭыԥи», 1972), в к-рые вошли его пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные пережитки в жизни и сознании людей. Повести «Женщина легкого поведения» (1960), «Ну, что стоит улыбнуться?!» (1961) и др. посв. проблемам семейной жизни, любви. Сатирич. комедия Ч. «Кто из нас глухой?» (рус. пер. 1964), из жизни сел. молодежи, передавалась по центр. телевидению (под назв. «Жуля и Мажуля»). Сатирич. и юмористич. пьесы Ч. ставятся на сцене абх. театра.
(Источник: "Краткая литературная энциклопедия". Автор статьи - Х. С. Бгажба.)
Из аннотации издательства к сборнику Ш. Чкадуа "Чужой дом" (1986):
"Рассказы и повести, вошедшие в настоящий его сборник, различны по тематике и проблематике, однако их объединяет нравственное отношение к изображаемому. Много внимания автор уделяет проблемам семейной жизни и быта. При этом он очень наблюдательный и с юмором, что помогает ему окружающую жизнь, характеры людей изоображать живо, точно". |
|
|
|
|
Шота Чкадуа
Рассказы из сборника "Чужой дом" (1986)
ЧЕХЛЫ
О Заале Батовиче говорили:
— Честнейший человек!
И действительно, Заал Батович был очень честным. Терпеть не мог подхалимов и взяточников. Стоило такому переступить порог его кабинета, как Заал Батович становился тверже камня и непреклонней закона.
— По какому вопросу? Времени у меня мало, так что короче! — жестко говорил он, и даже отъявленный пройдоха терял уверенность.
Трудовые люди гордились своим директором и, разумеется, желали ему доброго здоровья.
— Этого с толку не собьешь!
Шло время. Заал Батович не менялся. Ни одному проходимцу не удавалось обвести его вокруг пальца.
Но однажды явился к нему односельчанин по имени Фат. Был он известен как ловкий и нечистый на руку человек. Простодушнейшая улыбочка вечно играла на его лице, и маленькие глазки с вечно красными веками источили мед. Долго не решался Фат показаться на глaза директору, прогнавшему его с доходной должности.
— Здравствуйте, Заал Батович, — поклонился Фат.
— Здравствуйте. Слушаю.
— Простите, я не по делу. Понимаете, подобрал на дороге одну штуковину и гадаю, что это такое? Говорят, от самолета... В общем, блестит и видно, что вещь новая. Может, вы определите? — и протянул свою находку директору.
— Где ты нашел? — спросил тот с заметной заинтересованностью.
— На обочине! Думаю, может, кому пригодится. Железка новенькая.
— Это от «Жигулей». Стоит всего пять рублей, но попробуй достань! Вот уже месяц ищу...
— Что вы говорите?!. — удивился Фат. — Не зря, оказывается, подобрал!
— Вот тебе пять рублей. Большое спасибо.
Фат замахал руками:
— Заал Батович, что вы, что вы! Мне она даром досталась. Я тут не при чем... Рад, что вам пригодилась...
— Выручил, спасибо тебе. Всегда смотри под ноги, кто знает, может, еще что-нибудь найдешь! — усмехнулся директор.
А у Фата глазки так и горели.
Он ушел. Директор же, не мешкая, направился в гараж и приладил к машине дефицитную деталь.
Спустя некоторое время Фат снова предстал перед директором.
— Здравствуйте, Заал Батович! Знаю, вам сейчас не до меня, да и я тороплюсь. Словом, дела идут хорошо, даже очень. К новому месту привык. И, скажу откровенно, доволен. Правильно поступили, я много думал об этом.
— Что-нибудь нужно?
— Гости у меня вчера были. Иностранцы. Так сказал человек, который их сопровождал. Хотели познакомиться с жизнью нашего совхозного крестьянства.
— Слышал. Я был в райцентре. Понравилось им твое хозяйство?
— Встретили, как только могли. Угостили всем, чем богаты. Один выпил целый рог черного вина. Все время говорил: «Гут! Гут! Гут!» Я старался не подвести вас, Заал Батович. Жаль, что вас не было... А когда уезжали, на память подарили мне вот эту штучку, — улыбаясь, Фат запустил руку за пазуху. — Да куда ж она подевалась? Тьфу, не потерял ли? Не такая вещь, чтоб из-за нее убиваться, но все-таки... А, вот она! Вроде большого такого карандаша. Посмотрите, как умеют делать!
— Что это?
— А я знаю, Заал Батович? Но не взять не мог. А спросить постеснялся. Подумают: темный народ...
Заал Батович повертел в руках подарок иностранцев.
— Ты знаешь, что это?
— Что?
— Прибор, который предсказывает погоду. Барометр!
— Погоду? Зачем мне смотреть на железку, лучше на небо посмотрю и узнаю, какая будет погода! — засмеялся Фат. — Ну, да бог с ней. А вот что это торчит у нее?
— Чтобы писать. Это еще и авторучка. Вот здесь шкала самого прибора. Ничего не скажешь, вещь стоящая!
— А эта присоска для чего? — поинтересовался Фат.
— Это ведь барометр для автомашины. Прикрепляется к ветровому стеклу.
— Что вы говорите?! — Фат аж руками всплеснул. — Чего только не придумают. Надо же! Ну, я пошел. Извините, время отнял из-за пустяка.
— Сувенир-то заберите! — напомнил директор.
— Сувенир?.. А на что он мне? Попадет к детям и мигом сломают.
— Все равно. Не мне его подарили, а вам!
— Для меня он дырявой копейки не стоит! А у вас, может, найдет применение. Вот что значит образованный человек — сразу разобрался!
Много дней не показывался Фат. Потом пришел — и с большим свертком под мышкой.
— Здрасте, Заал Батович!
— Привет, Фат. Как поживаете? Как дома?
— Большое спасибо, живем как можем. Не жалуемся...
— Как работа?
— Слава богу, нормально. Правда, один наш работник что-то не очень... Но не всем же ходить в передовиках.
— Это еще кто?
— Молодой, исправится... Механика—не такое уж простое дело. Тут с одним дипломом далеко не уедешь. Тьфу, прости меня, господи! Ерунда, а такая тяжеленная, даже вспотел...
— Что там у тебя? — директор кивнул на сверток.
— Заал Батович, клянусь, не знаю! Понимаете, мой дом возле моря, летом у меня постоянно отдыхающие. Подружились с одними, уже как родственники общаемся. Ни в овощах, ни в фруктах у меня отказа нет. Ну и приехали на сей раз вот с этим... У вас, Заал Батович, большой кругозор. Не скажете ли, куда эту вещь применяют?
— Да ты, Фат, смеешься!
— Говорят, для машины. Вот все, что знаю. Думаю, это подстилка.
— Это заграничные чехлы! Редкость в наших краях. Сколько стоят, не сказали?
— А что, дорогая вещь?
— Не меньше пятисот рублей! И то по божеской цене.
— Что ты говоришь!.. Ей-богу, люди с ума посходили. И во сне не снилось, чтоб я на чехлы тратился!
— Еще как потратишься, да где найдешь!
— За ерунду пятьсот рублей? Я думал, накидка на кровать, но уж больно не по форме... Чуть было не сказал им, дескать, лучше брюки бы мне купили, что ли...
— Хороший подарок. Купишь машину и украсишь салон.
— Я? — удивленно спросил Фат. — Даже если и будет на что купить, никогда не куплю! У меня единственный сын. И я не собираюсь его портить. Он закончил учебу. Пусть теперь поработает. Куда вы его пошлете, туда и пойдет, пусть проявит себя, — Фат выжидающе уставился на директора.
— Учебу закончил? — осторожно спросил директор.
— Закончил, Заал Батович! — мигом подхватил Фат. Этого вопроса он как раз и ждал.
— Ну, и как? Хорошо?
— Даже очень. Четыре года проучился вместо трех.
— А что именно он закончил?
— Техникум. Но такой по важности — как институт!
— Можно было б главным механиком, но там... человек с высшим образованием...
— Институты сейчас все кончают... — начал было Фат, но тут же осекся.
— Для начала замом назначим. А уж потом... Справится, как считаешь?
— Если вас подведет, я его на порог не пущу! — решительно заявил Фат. — Но, может, все-таки поставить на простую работу?
— Я уже сказал свое слово. Больше к этому возвращаться не будем.
— Молчу, Заал Батович, молчу! Вам виднее. Ваши труды не пропадут даром, я отблагодарю.
Заал Батович грустно усмехнулся.
— Уж не взятку ли ты задумал мне дать? — спросил он.
Фат даже возмутился, прижал обе ладони к груди:
— Боже упаси! Взятку? Кому? Всем известно, что Заал Батович неподкупен! — и Фат попятился к двери: — Всего доброго, Заал Батович, всего доброго!..
Но его настиг голос директора — только не было в голосе прежней непреклонной суровости:
— Фат, ты забыл сверток...
— Что? A-а, накидки эти... К чему они мне? Все равно дети порвут. Пусть лучше они будут у вас. Когда-нибудь подбросите на машине — и то большое спасибо! — с обычным своим простодушием сказал Фат и закрыл за собой дверь.
Заал Батович остался один в кабинете. Неясная печаль точила его, нехорошо чувствовал он себя. Новенькие чехлы лежали на полу, и директор старательно отводил от них взгляд.
— Эх, Фат, Фат! — вздохнул он с упреком. — Ну и хитер же ты, брат!
Заал Батович подошел к разостланным чехлам, по стоял над ними с опущенной головой — как над гробом. Затем свернул их и отнес в соседнюю комнату. Вернулся, сел за стол, но все валилось из рук. Уж больно хотелось посмотреть, как будут выглядеть новенькие чехлы на сиденьях! Заал Батович.искренне терзался, на душе было пасмурно. А то вдруг светлело: все же очень хороши были заморские чехлы!
Заал Батович качал головой: «Может, так оно и начинается?!.»
ДЕНЬ МОЕГО ПОГРЕБЕНИЯ
В один прекрасный день я скончался! Скоропостижно! Признаться, мне было совсем не до смерти, так как я пребывал в отличном расположении духа и собирался на скачки, но что делать — смерть возьми да и прибери меня. И как водится в таких случаях — плач, крики, пересуды:
— Что случилось?
— Фаф помер!
— Как же так!?
— Да вот так...
— Помилуй, он же еще молод! Самое время жить!..
А я все слышу, все вижу, но сказать не могу ни слова.
Жена моя с распущенными волосами бродит по дому, по двору, места себе не находит, с трудом сдерживает слезы: обычай не велит оплакивать мужа на людях. А я злорадствую: «Так тебе и надо! Слово, бывало, сказать не давала, не берегла меня!..»
Кто это? Никак, Мац идет. Скоро три года, как мне задолжал. Так я и помер, не дождавшись возвращения долга.
— Ах, почему это. не я умер? — соболезнует он.
А ведь неправду говорит — рад он моей смерти, по глазам вижу.
А вот кто-то, поднимаясь по лестнице, неистово бьет себя в грудь.
— О горе мне, о горе! Бедный Фаф!..
И кто бы, вы думали, это? Бригадир наш, Дзыку! Тот самый, который всю душу мне вымотал, участок мой урезал, трактором виноградник мой весь выкорчевал. Тебе бы, Дзыку, лежать мертвым, но, увы! — смерть выбрала меня...
— Царство ему небесное! Судьба смилостивилась над ним, что он прежде вас ушел, — утешает он мою семью. Можно подумать, что я глубокий старик!
Суета сует: надо раздобыть брезент для палатки-ашапы, фасоль сварить. По всему двору сооружают сиденья из тех досок, что я как зеницу ока хранил под навесом. Двор разгородили. И кому дело до того, сколько поту пролил, когда этот плетень ставил!
Бригадир от бочки к бочке прошелся по винному погребу, осушил один стакан, другой — крякнул и многозначительно изрек: «Вино у него было всегда отменное!» Это, так сказать, он пробу снял.
Слышу: председатель колхоза Джарма говорит кому-то:
— Только предупреждаю! Я ничего не знаю, я ничего не видел. Того и гляди, в газете пропишут...
А вот когда я строил дом, сколько ни просил председателя на один рейс машину, строительный материал подвезти, — не дал. Пришлось на стороне транспорт нанимать. А сейчас — пожалуйста!
А народ все валит. Совсем незнакомые лица. Женщины рыдают, мужчины бьют себя по голове, на меня украдкой посматривают и, так и не проронив слезинки, удаляются. Спускаясь по лестнице, шмыгают носом, вытирают платком сухие глаза. Некоторое время все стоят печальные, а потом как ни в чем не бывало беседуют, посмеиваются. Все точно так, как при мне, при живом, бывало, когда кто-то помирал.
Немного погодя всех приглашают под навес помянуть усопшего, то есть меня. И когда только успели все раздобыть?!
Распорядители ходят от группы к группе:
— Пожалуйста, не отказывайтесь, он так завещал!.. Все же знаете, как он любил угощать...
Уговаривать долго не приходится: под навес идут вроде смущенно, отведав вина и закуски, выходят, блаженно улыбаясь, более смело, и цвет лица куда лучше...
День лежу, два лежу, три... На радость лодырям! Они давно не ходят на работу. Гуляют по моему двору. То с одними стоят, разговаривают, то с другими, то сидят под навесом... Моя смерть для них как праздник!
— Почему его так долго не хоронят? — спрашивает один.
— Пусть себе лежит, тебе ведь не мешает!
— Послезавтра скачки...
— Ну и что? Поедем и на скачки, он нам не помеха.
— А если жена узнает об этом?
— Пусть! Мы едем туда из-за уважения к его памяти!.. Ведь он любил скачки?!
— Верно говоришь, пусть себе лежит: на тот свет незачем спешить, ничего хорошего там не ждет. Погода великолепная, навес огромный, вино отменное, вот и музыку привезли, а что тебе еще нужно?
— Не смеши, порази тебя молния. Мы в родстве с ним. К сорока дням мне полагается поминального быка принести. Вот что меня сейчас волнует. Что ни день, то непредвиденный убыток в доме.
— Ах, что за музыка!..
— «Казачок!»... Оркестр известный, из Зугдиди. Я много раз слушал их. После них быстро забываешь про похороны...
Две женщины оживленно беседуют:
— Какой плащ нарядный. Где купила?
— Случайно в Очамчире набрела...
— А очередь большая была?
— Нет, только-только завезли...
— Везет же некоторым!..
— Ничего себе везет: обновилась к покойнику. Первый раз сегодня надела.
Чувствую, что не стоило умирать! Никакого горя в этом мире по поводу моей смерти! Но кому теперь об этом скажешь? Я — тут, а они — там!
В головах у меня какая-то старуха прошамкала:
— Несчастный, не хозяйственный был. Дом целиком на хозяйке держался. Грешница я, о покойнике плохого не говорят... Добрый был человек, но трудиться не горазд.
Узнаю голос: это мать Хутии, старая карга. А ведь не стала бы язык чесать, коли бы я на ее толстоногой дочке женился!
Во двор въезжает грузовая машина. Интересно, что привезли, не макароны ли?
— Давай, давай, давай!.. — подогнали машину прямо к лестнице. А на ней цинковый гроб и лед. Часть льда побросали в гроб, и меня голого уложили поверх него. А оставшимся льдом обложили бочки с вином: остудить решили.
— Не вино, а чудо, — облизал губы бригадир.
С утра до вечера двор полон людей. А как только стемнеет — ни души. Одни братья у ложа моего бодрствуют. Слышу, кто-то запричитал:
— Завтра уходишь от нас, единственный брат моей матери, дорогой мой дядюшка Фаф!..
Дай бог тебе здоровья, Наала! Теперь я знаю, когда меня будут хоронить...
Разодели меня в день похорон — хоть свататься иди? Азиатские сапожки натянули на ноги — при жизни такие и не снились. На руку часы позолоченные водрузили. Они уже давно не ходят, в них нет пружины, ими игрались мои дети...
Льется лирико-драматическая музыка.
И вдруг женщины завыли, как шакалы перед непогодой, — предвыносная суета. Азартно играют подвыпившие музыканты. Желающих снести меня на кладбище оказалось больше, чем я ожидал, — наверное, потому, что идти совсем недалеко.
Наконец гроб бережно подняли, двинулась похоронная процессия. За гробом ведут мою жену в черном платье до пят, а за ней ступает здоровенный дылда — тот самый, который приударивал за ней до меня...
И вот пришли на кладбище, поставили гроб у края могилы.
— Осторожно опускайте, веревку крепче держите, — командует бригадир.
Вот ведь какой заботливый! Можно подумать, такое уж доброе дело делает мне. И вдруг беспорядочно заколотило по крышке гроба. Поначалу я растерялся, а потом понял: каждому хочется подольше жить — ком земли на меня кинуть.
Уже я был погребен наполовину, когда кто-то из мужчин протиснулся вперед и громко сказал:
— Не надо торопиться, дад. Засыпать могилу мы всегда успеем. Может, кто-то хочет помянуть его добрым словом?.. Ведь Фаф был человек веселый, сердечный, обходительный. Вспомните, он никогда никого не обеспокоил! Он всегда готов был любому предложить свои услуги. У него слово с делом не расходилось. Вокруг Фафа всегда было весело и жизнерадостно... Жизнь — сложная штука. Пока человек жив, определишь ли, насколько он полезен людям, как он незаменим в семье, в доме?! Есть скромники, никогда не скажут, что они много трудятся, не ищут славы, а без них в жизни не обойтись. Таким был наш Фаф. Нет на селе дома, к которому бы он руки не приложил. А мы всегда подтрунивали над ним: «Ничего себе инвалид!..» Его веселый характер позволял так обращаться к нему... Прости нас, дад. Мы тебя плохо понимали... Пусть земля тебе будет пухом! — закончил свою надгробную речь Базала.
— Светлой старости тебе, Базала, — раздалось со всех сторон. Кто-то всхлипнул, кто-то запричитал...
Слова Базалы настолько меня тронули, что миг и самому стало себя жалко, и совершенно неожиданно для себя я воскликнул:
— Спасибо тебе, Базала! Пусть твоя старость будет светлой!
Столпившиеся у могилы не поверили своим ушам,
— Вроде бы из гроба голос послышался? — произнес нерешительно один.
— Это показалось! — сказал другой.
— Ничего вам не показалось, это я, Фаф! — закричал я во всю мочь.
— Как, это ты, Фаф?!
— Да, я самый!
— Ты же мертвый, Фаф! — сказал Дзыку.
— Пусть по-вашему я покойник, но я жив, — с этими словами я сбросил крышку гроба и сел. — Подойди ко мне, добрый Базала. Дай обниму тебя, дружище.
Тут такая суматоха поднялась, почище той, что в первый день моей неожиданной кончины. Одни истошно кричали от страха, другие просто дали деру, а третьи восторженно визжали (и немудрено, где такое видано?!) А незадачливый бывший поклонник моей жены ринулся к выходу. Один лишь Базала подошел ко мне с распростертыми объятиями:
— Дай обнять тебя, дорогой. Дай пожать твою руку. Ай да молодец! Надо же — смерть победил!
Я в порыве благодарности взмахнул рукой... и тут — как будто из преисподней — чей-то голос:
— Никак спятил, глаза, что ли, решил мне выколоть?!
— Это кто?!
— Я!
— А кто ты?!
— Я, я, кто же еще здесь может быть!
— А, я ж...
Я в одно мгновение очнулся. Да, я жив, в своей постели, а рядом — моя жена. Светало. От калитки слышался голос бригадира:
— Уаа, Фаф! Довольно тебе болеть! И не вздумай ехать на скачки. Тебе наряд выписан: крышу на ферме крыть...
— Слышишь. Это тебя. Вставай..., — сказала жена.
— Он теперь до охрипу будет звать, не отстанет.
— Вставай, слышишь?
— Да больной же я, больной!.
Кряхтя, держась обеими руками за поясницу, я встал.
Ничего нет на свете хуже того, когда тебе не верят...
НАНДУ
— Счастливого пути, сынок! В субботу ждем тебя.
Мать поцеловала меня в лоб. «Волга» лихо рванулась с места. Остался позади Сухуми, потом и Очамчири. Теперь мы едем в сторону гор. Нас четверо — веселая компания. Друзья рассказывают анекдоты, смешные истории, хохочут. Я не участвую в беззаботной болтовне — смотрю на асфальтированную дорогу. Она будит во мне воспоминания. Думаю: «Дорога, дорога, как много ты значишь в человеческой жизни!..»
...В тот день я получил свою первую зарплату. Я считал и пересчитывал хрустящие бумажки, любовался ими, словно видел впервые. Они были мне дороже тех, что я получал от отца на карманные расходы. Те я мог расходовать на пустяки, а эти...
После окончания школы я хотел поступить в институт, но не сумел. Пошел на шахту. Бригадир меня похвалил. За что? Оказывается, я не боюсь шахты, не простуживаюсь, порода на меня не падает. Стало быть, я почти настоящий горняк. И вот она, моя первая горняцкая зарплата за две недели. Это первые заработанные мною деньги, четыреста рублей — моих, кровных! Что купить на них?
Мне нужно многое: пальто, хороший костюм, сорочки, туфли. Но на все это денег не хватит. Куплю что-нибудь дешевое и самое необходимое. Тут я вспомнил отца, мать, братьев, сестру. Конечно, они не обидятся, если я ничего им не подарю, но будет ли мое сердце спокойным? Иду по городу с таким чувством, будто богаче меня здесь никого нет. Заглядываю в магазины, прицениваюсь. Я еще не знаю, что куплю, но моя покупка, несомненно, будет замечательной. Вот тир. Будь у меня отцовские деньги, я бы зашел в него, а сейчас нет, не могу.
Захожу в самый большой магазин. Народу в нем полно. Молодой человек примеривает перед зеркалом макинтош, друугой придирчиво осматривает пальто из синего добротного драпа. Вздыхаю и прохожу мимо: такие вещи не по моим деньгам. Спрашиваю беленькую симпатичную продавщицу:
— Сколько стоит вон та сорочка?
— Сто семь.
«Сейчас зима, а сорочка летняя», — думаю я.
— А те красные туфли?
— Триста!
— А это вот платье?
Чувствую, как у продавщицы иссякает терпение.
— Платье стоит сто девяносто.
Губы у меня сохнут, решаю взять для матери.
— Заверните.
В это время взгляд мой упал на вещь, которая сразу (напомнила мне о самом любимом человеке. Это клетчатая шаль. Она лежит в дальнем углу) среди неходового товара — забытая, пыльная. Пожелтевший ценник косо пришпилен к ней. Сколько она стоит, не видно, но я бесповоротно меняю свое решение.
— Стойте! Извините, девушка, платье не надо. Подайте мне, пожалуйста, вон ту шаль.
Девушка начинает сердиться:
— Молодой человек, тут, кроме вас...
— Простите, пожалуйста, но мне нужна именно эта шаль.
— Это плед, — поправляет она меня.
Плед широк, как покрывало, плотный, теплый. Это как раз то, что мне нужно, то есть не мне, а моей бабушке — нанду. Она живет в предгорье. Там снег, холодно, а у нее нет шали.
— Сколько он стоит?
— Там написано.
Девушка кривит губы в иронической усмешке.
— Сто семьдесят! Вот здорово!
Отсчитываю деньги — солидно, обстоятельно. Наконец-то я нашел самое нужное.
— Получите, девушка, первые рубли моей первой зарплаты — и до свидания!
Милая девушка все поняла. Улыбка у нее теперь очень хорошая.
— До свидания, — отвечает она. — Приходите с каждой получкой!
Сегодня суббота. Еду к своей нанду. От Ткварчели это недалеко. У нанду я не был со времени окончания школы. Бессовестный! Поеду, обрадую любимую бабусю, дядю, тетю. Мой приезд для них всегда праздник. Я накину дорогой моей нанду эту теплую шаль на плечи. У нее нас было пятеро внуков, и каждый был согрет теплом ее сердца. Как обрадует нанду шаль! Ведь я, старший ее внук, до сих пор не подарил ей даже косынки. Нанду старенькая-старенькая, годы и труд согнули ее. Но какая она добрая, а сколько знает сказок! А какие у нее в саду яблоки! Я знаю в ее саду и во дворе каждое дерево, куст, травинку. Там я сделал свои первые шаги.
Я купил авоську, набил ее сладостями, папиросами. Бабушка курит неотферментированный табак и всегда ворчит, когда он поминутно тухнет. Иду по дороге, ведущей в село. Мое сердце рвется к заснеженным горам, у подножья которых живет бабушка. Раньше я ходил к ней налегке, а возвращался нагруженный. Теперь и я иду с подарками.
Ну и дорога: что ни шаг, то яма, колдобина. Лужи блестят, как осколки зеркала. Много их — этих осколков. Здесь редко ходят машины. На мое счастье, какая-то старая разбитая колымага-полуторка отважилась пробраться по этой ужасной дороге. Шофер молча остановил машину, подождал, пока я влез в кузов, и снова повел ее по ухабам. Полуторка подпрыгивала, кренилась с боку на бок, с трудом вылезала из рытвин, скрипела, дрожала и чихала, как чесоточная коза зимой. Я боялся, что она вот-вот развалится, но она довезла-таки меня до поворота. Я постучал по крыше кабины и, когда машина остановилась, выпрыгнул прямо в грязь. Шофер открыл дверцу и вылез на подножку. Я думал, что он ждет от меня платы, но он отмахнулся от предложенных денег и стал высматривать впереди дорогу. Потом плюнул и со злостью захлопнул дребезжащую дверцу. И все это молча. Наверное, он сказал бы пару крепких слов по адресу дороги, но в кабине сидела женщина.
Дальше иду вверх по тропе не оглядываясь. Здесь машины и по суху не ходят. Я уже не выбираю дороги, а стараюсь только не ступать в глубокие следы конских копыт, полные мутной воды. Бедные мои туфли! А брюки! Не спасло даже то, что я вобрал их в носки.
Я по колено в грязи. Но ничего, впереди тепло бабушкиного очага. Вот и перевал. Здесь местами лежит мокрый снег. Он словно куски мадаполама, разбросанные неряхой-портнихой. Отсюда видна река Улыс, в которой я летом купался с ребятами. А вон и деревня: круглым зеленым лугом лежит она на дне снежного котлована. Вижу бабушкин дом, а рядом — апацху. Над ней вьется дым. Я представляю себе, чем заняты сейчас мои старики. В такое время дядя возится в хлеву, тетя жарит курицу. Жир капает на угли и шипит, исходя синим аппетитным дымком. Бабушка варит абысту, а соседи тут же в золе пекут каштаны и рассказывают веселые истории. У нанду всегда так.
Наконец я у цели. Потихоньку вхожу, стараясь не скрипнуть воротами. Хочу внезапно обрадовать стариков. Но меня заметил и узнал старый пес Мына. Он не залился, как всегда, веселым лаем и визгом, оповещая стариков о моем приезде; пес потерся о мое колено, виляя хвостом, покрытым свалявшейся шерстью, потом заковылял к кухне и остановился у ее порога в нерешительности. Бедный Мына, неужто ты так одряхлел, что у тебя не хватило сил на эмоции? Всего полгода назад ты подпрыгивал, норовя лизнуть меня в лицо, бесновался и танцевал вокруг, выражая свой собачий восторг при моем появлении. Что с тобой стало? Пёс почему-то грустно-грустно смотрит на меня. Но мне некогда разбираться в его настроении. Вхожу в апацху.
В ней дымно. Непривычный беспорядок. Незнакомая женщина в черном возится у очага, в котором шипят сырые поленья. Чувствую, как заготовленная улыбка сходит с моего лица.
— А где наши?
Женщина испугано выпрямилась.
— Ах, не узнала!.. Бедная нанду, она так тебя ждала!..
Я похолодел.
— Что с ней?!
— Она лежит в доме. Двустороннее воспаление легких... Надежды мало...
Бегу в дом. В комнате бабушки полно людей, висит табачный дым. Подхожу к кровати. Бабушка лежит без подушки. По обычаю это означает, что она доживает последние минуты. Со слезами опускаюсь перед ней на колени.
— Что с тобой, дорогая моя нанду?
Глажу ее тонкие холодные руки, целую в лоб.
— Мама, посмотри, приехал твой внук... Ты так ждала его, — говорит дядя.
Каменное, морщинистое лицо бабушки дрогнуло, желтые веки медленно поднялись. Она смотрит на меня долго, и я вижу, как из самой глубины ее глаз всплывает сознание; лицо ее стало... нет, не радостным, для радости у нее не хватило сил, лицо ее выразило удовлетворение. Я это вижу по тому, как оно смягчилось. Узнала!
— Милый, приехал, — едва слышно прошептала она.
— Да, нанду, я приехал. Ты не падай духом, я привезу врача. Он обязательно вылечит тебя, — говорю я торопливо и, как мне кажется, убедительно.
— Да, да... — шепчет бабушка.
За несколько минут состояние ее улучшилось. Она даже как будто оживилась. Старики заговорили:
— Вот видите, внук приехал, и ей стало лучше. Она поправляется. — Видя это, дядя попросил соседей пойти отдохнуть. Они с вечера до утра просидели у ее постели. Мы вышли проводить их. Тетя высоко подняла коптилку, чтобы осветить дорогу. Вокруг язычка пламени роятся снежинки. Издали доносится привычный шум реки. Тетя ушла, я и дядя остались у порога. Он охотник и всегда ждет первого снега: он читает на нем следы с такой же легкостью, как я книгу. Но теперь ему не до охоты.
— Я пойду за врачом... Сейчас пойду.
— Врач вчера был. Теперь не придет, — медленно говорит он.
— Почему?
— Сам видишь, какая дорога.
Черт его знает, когда мы, наконец, будем иметь дорогу!
— Возьму с собой лошадь, — настаиваю я.
— Все равно не приедет. Я предлагал ему. Он не умеет держаться в седле, а идти пешком второй раз шесть километров не согласится. Не могу, говорит, оставить тяжелобольных. Соседского парня отправил на коне в город за лекарством — когда то он приедет! Проклятая дорога!
У меня от бессилия влажнеют глаза. «Проклятая дорога!» — повторяю я про себя. В больнице нанду в два счета вылечили бы, а как ее, такую слабую, нести на носилках до шоссе, а потом еще везти по ухабам в город? Кулаки у меня сжимаются. Возвращаемся в комнату.
— Ложитесь, дорогие мои, мне уже лучше, ложитесь, — требует бабушка слабым голосом. — Внука укройте потеплее.
Я и дядя легли в зале, а тетя осталась с бабушкой. Лежу, думаю, слушаю, как шумит Улыс. Мне снится, что я врач. Осматриваю нанду, даю ей какое-то лекарство, и она тут же встает. Все мы радуемся, целуем бабушку. Соседи говорят: «Вот настоящий доктор. Такого нам в село надо!»
Проснулся в хорошем настроении. Светло. Дядина постель пуста. Быстро одеваюсь и иду в комнату бабушки.
— Она умирает, мальчик, тебе не надо на это смотреть, — не пускает меня неприятная смуглая женщина.
Но я оттолкнул ее и вошел. Дядя и тетя молча стоят возле нанду, накрытой моей шалью. На их лицах вижу покорность перед тем, что должно случится.
— Мой дорогой внук... Оденься потеплее, не простудись... Ты купил мне шаль... Спасибо, она очень теплая... Разорила я тебя...
Нанду говорит с трудом и все тише, тише.
— Уйдите все, а ты останься, — вдруг твердо сказала она дяде, своему старшему сыну.
Мы вышли, но слушаем.
— Нан Чука, я покидаю вас. Мы не вместе родились, не вместе умрем. Я ваша мать и должна уйти раньше. Будьте умны, не роняйте обычая гостеприимства... Не позволяйте внуку сидеть у моего гроба ночью, берегите его...
Я не выдержал и вернулся к бабушке. Прошу ее не покидать нас. Она слабо улыбнулась.
— Я не умираю, внук. Вы живете, значит, буду жить и я. Но я очень устала и должна отдыхать... Береги себя...
Нанду попыталась натянуть на себя шаль, но рука ее бессильно свесилась с кровати. Дядя положил ее ей на грудь...
— Остановите! — потребовал я, очнувшись от воспоминаний.
Друзья с недоумением смотрят на меня. Я вылезаю из машины и иду к могиле, окаймленной невысокой каменной оградой. На маленьком скромном памятнике высечена надпись: «Здесь покоится Нанду. 28 декабря 1951 года». Ко мне подошел знакомый колхозник. Он стал приглашать нас к себе отдохнуть, но я сказал, что мы очень торопимся.
— Мы слышали радостную весть, —сказал он. — Тебя назначили врачом на новую шахту. Это правда?
— Да, правда. — Я посмотрел на памятник бабушке. — Но я буду лечить всех из вашего села. Когда нужно будет, вызывайте меня.
Мы поехали дальше. Я подумал: «Она могла бы жить до сих пор, если бы к ней мог приехать тогда врач. Теперь я сам врач, а в село ведет отличное шоссе, но нет больше милой нанду».
Гладкое асфальтированное шоссе — то самое, на которое когда-то со злостью плюнул молчаливый шофер — вело нас в горы, туда, где шумит и грохочет новая шахта. И опять я подумал: «Дорога, дорога, как много ты значишь в человеческой жизни!».
САУНА
— Идите, нан, идите... Скоро уже и светать начнет. Хоть не надолго, но все же сомкнете глаза.
— Дождемся рассвета, Махател.
— Да, да, надо подождать до рассвета. Вдруг ему станет хуже, что сможешь сделать ты одна.
— Этого больше всего и боюсь, но...
Над гребнями высоких бесснежных гор, как патронташ опоясавших селение Уарха, занималась ранняя зорька. В предутренней тишине не слыхать ни малейшего шороха. Кругом ни огонька.
Спит вся Уарха. Кроме одной апацхи. Кругленькая, как колобок, приютилась она у самого обрыва высокой скалы. Издалека видны яркие языки костра.
Высокая, худая, вся в черном старуха подошла к деревянной кровати, придвинутой к очагу, в котором жарко пылал огонь, машинально поправила мокрое полотенце, сползшее было со лба старика, тяжело метавшегося в бреду, да так и застыла у его изголовья. И, должно быть, под ее пристальным взглядом разомкнулись вдруг увлажненные веки старика. Его узкое, горбоносое лицо с взлохмаченными бровями и потухшими глазами напоминало ей орла, которого старость лишила возможности привычно взмыть высоко в небо. Он смотрел на нее безучастно, отсутствующим взглядом, словно не узнавал ее. Но она разобрала, что прошептали его пересохшие губы:
— Это ты, старая?
— Да, я.
— Слишком сильный огонь...
Ей помогли немного отодвинуть кровать от очага.
— Кто это там стоит?
— Маленький Мадж. Отец, уходя, хотел его взять с собой — ребенку уже давно пора спать, но он отказался.
Ее поддержали:
— Он у нас настоящий парень!..
— Завтра он едет в Самурзакан к тете Маруше.
— Да, завтра он будет почетным гостем у самурзаканцев...
— Мой маленький Мадж... Да перейдут ко мне твои болезни, дад. Пусть будет долгой твоя жизнь. Мой мальчик, я уже не в первый раз доставляю тебе беспокойство... Он всегда помогал мне... — чувствовалось, что каждое слово дается больному с трудом. — И на Сауне ездил он... И Сауна любил его... — добавил Хабаш.
— Видит бог, кажется, ему немного лучше, — раздался чей-то голос.
— Кто это?.. Манча? Манча здесь?
— Я здесь, Хабаш! — выступил вперед Манча.
— Дай бог, дад, чтобы ты был всегда. Кто еще здесь, старая?
— Вот Циса, а это — мать Гуапханаш, — принялась перечислять она всех, кто собрался в эту ночь у отлетавшего свое орла, — а тот, что присел у коптилки, — пастух нашей княжны, пришел украдкой и сидит.
— Спасибо, дад, тебе. Спасибо всем... Измучил я вас вконец. Ваши старания — да еще тому, кто мог бы подняться!
— Не падай духом, Хабаш! Ты еще должен жить!
— Спасибо на добром слове, Мактат... Но напрасны твои речи... Я умираю... Я уже ближе к своему гробу, чем к этому очагу.
— Что за разговоры, Хабаш! Ты же мужчина!
— Я был мужчиной... пока не украли у меня коня. Мой Сауна! Мой дорогой... Мой верный друг...
— Опять вспомнил! — шёпотом сказал кто-то.
— Я его... никогда и не забывал, дад. Словно всю кровь выпустили из меня. Сволочи... Разорили меня... Мактат?
— Я слушаю тебя, Хабаш! — высокого роста, худой Мактат поднялся со своего места и подошел к кровати, склонившись над больным, как вопросительный знак.
— Мактат, я умираю. Это так и есть... Но я умираю не со спокойной совестью. И смерть ведет меня прямой дорогой в ад...
— Не говори так, Хабаш! Пусть попадут в ад наши враги.
— Помоги мне, Мактат, умереть спокойно. Я никому не желал зла... и не делал этого. Кажется, я заслужил покинуть белый овет с чистой совестью. Помоги мне, Мактат. Найди моего коня. Моего Сауну... Тогда я умру спокойно.
Старик снова впал в забытье. С потрескавшихся губ слетали только «Сауна», «мой друг», «мой добрый конь»...
Конечно, Мактат с радостью помог бы своему старому соседу. Но что он мог?! Что мог бедный крестьянин? Да и не в его характере было обещать и не выполнять, бросать слова на ветер. «Столько лжи вокруг, — пронеслось в его голове, — нет... Не могу... И не стану врать старику, даже если жить ему осталось только час». И честно сказал то, что думал:
— Что поделаешь, Хабаш, даже люди умирают...
— Ты умный человек, Мактат, но говоришь не то...
Ведь ты понимаешь... что Сауна для меня — не просто конь... Это — моя кровь... моя смерть... моя совесть... мой позор. Все, что хочешь... — казалось, вернулись к нему силы. Он сделал попытку приподняться на подушках. — Двадцать лет пас я стада Нахарбея. И единственное четвероногое, которое я получил от него за все это время, был Сауна... Сколько я положил трудов! Вспомни, как готовы были выскочить из орбит глаза у князя... «У крестьянина — и такой конь!..» И вот украли... увели наконец. Подло, тайком, когда я ишачил у Нахарбея. Где он сейчас? Мой добрый друг... Мой Сауна... Найдите его... Приведите его ко мне... — У старика снова начинался бред.
Мужчины молчали, понурив голову. Мадж не сводил своих глаз с изнуренного, в густой сетке морщин лица Хабаша, на котором застыли мольба, растерянность и ожидание. Мальчик почувствовал какой-то комок в горле. Он понял, что сейчас расплачется. Сжав кулаки, он попытался сдержать слезы. Но отвести глаз от Хабаша не мог — старик как будто заворожил его. А тот между тем снова разомкнул слабые, увлажненные веки:
— Тому, кто вернет мне коня... я оставлю все, что имею... — Хабаш хотел очертить рукой то небольшое, что окружало его и что он собирался преподнести в дар тому, кто найдет его коня, но кисть только бессильно свесилась с кровати. — И Сауна тоже отдам в придачу. Только найдите его... Хочу, чтобы заржал он, стоя под моим окном. Пусть пройдет хоть сто лет... но пока не найдется мой друг... я буду лежать, прикованным к постели. Ищите его! Прошу вас, умоляю вас... — заклинал старый Хабаш.
Ночь сменилась днем, день — ночью. То солнце согревало землю, то тьма плотно укрывала ее, и тогда над ней, в высокой бездне, зажигались мириады блестящих звездочек, чей яркий свет гасили набегавшие свинцовые тучи...
* * *
Маленький Мадж впервые приехал к тете Маруше.
Когда ему сказали, что тетя Маруша вышла замуж за одного самурзаканца-менгрела, он спросил мать:
— Ди, а муж у нее богатый? У него есть конь?
— Не знаю, сынок, — ответила ему тогда мать, — он такой же крестьянин, как и мы.
И все же Мадж полагал, что у мужа тети Маруши такой же красивый и огромный дом, как у Нахарбея. С таким же широким двором, полным коров, и овец, и разной домашней птицы. И большой фруктовый сад, с желтыми плодами. И охраняют это добро большие и злые псы, тоже как у Нахарбея... И каково же было его разочарование, когда он вошел в крошечный дворик, даже без ворот, и увидел апацху, еще меньшую, чем их собственная.
Уже на второй день Маджу стало скучно. Он не знал, чем занять себя. Ему негде и не с кем было играть: по соседству не оказалось ни одного мальчишки. А Мажара, муж тети Маруши, который очень обрадовался приезду Маджа, не мог с ним побыть лишней минуты: уходил он с первыми петухами, а возвращался на закате дня таким усталым, что, наскоро поужинав, сразу же укладывался спать.
— Тетя Маруша, мне скучно...
— Завтра у нашего князя большое торжество!
— Какое, тетя Маруша?
— Приезжает его сын!
— Откуда, тетя Маруша?
— Откуда-то из большого города... Кажется Питрибур называется...
— А что он там делал, тетя Маруша?
— Говорят, учился.
— А что такое «учился», тетя Маруша?
— «Учился»? Это... ну, учился, одним словом... Ходил в большую школу, где много учителей. И они его учили.
— А чему они его учили, тетя Маруша?
— Чему? Уму-разуму, наверное... Почему одни бедные, например, а другие — богатые...
— А почему, тетя Маруша. меня зовут просто Мадж, а нашего князя — Нахарбей?
— Потому что у него имя дворянское, а у нас с тобой имена крестьянские.
— А почему тогда его уважают больше, тетя Маруша?
— Опять же потому, что он дворянин и богач... А ты знаешь, почему он так богат?
— Знаю, тетя Маруша. Отец всегда говорит, что все вокруг сажаем мы, крестьяне, а пожинают — дворяне... А нас пустят туда, тетя Маруша?
— Пустят... Мы обязательно должны быть там, а то будут упрекать, что вот, мол, обошли стороной их торжество... Только с пустыми руками туда не пойдешь — надо зарезать курицу!
— Курицу, тетя Маруша?! Но тогда останется только одна и ей тоже станет скучно!
— Недолго ей придется скучать. Ее тоже в следующую субботу зарежем: у княжны молебен...
Двор Александре ломился.
Дворянские сынки в черкесках и башлыках с золотой оторочкой гарцевали на породистых скакунах, заняв всю середину двора. Они держались в седле прямо и независимо, всем своим видом давая понять, что почтили семейное торжество Александре не столько для того, чтобы на людей посмотреть, сколько для того, чтобы себя показать. Поодаль от них, ближе к частоколу, жался бедный люд. А сам Александре, в окружении своей льстивой челяди, восседал на массивном кресле, занимавшем большую часть балкона на втором этаже, строго в центре, под могучими, замысловато закрученными бараньими рогами. Его чуть тронутые сединой усы свисали едва ли не до груди, и издали их можно было принять за ярмо над красной мордой! Толстые, сальные губы его то и дело раскрывались в безудержном хохоте, когда ему доставляла удовольствие победа какого-нибудь из дворянских отпрысков, затеявших бега на короткие дистанции.
— Внимание! Внимание! Сейчас черед племянника великого господина нашего Александре — Геге! Шире дорогу! А ну, подайте назад! Расступись! Дорогу! — закричали сразу несколько доброхотов.
Маджу не было видно коня; его скрывала плотная толпа, но он углядел белый башлык, медленно покачивающийся над головами, — значит, джигит направлял коня по живому коридору к тому месту, где должен был быть старт. Но зато, когда джигит, очевидно, доехал до конца и остановился на какой-то миг, а конь, почувствовав, что именно сейчас и будет дан старт, задрал по привычке передние ноги, откинув назад холку с великолепной гривой, в глаза Маджу бросилась его вороная морда с белой отметиной на лбу.
— Тетя Маруша! Тетя Маруша! — тревожно позвал Мадж.
Он беспомощно оглядывался вокруг, потому что ее уже не было рядом, вероятно, она затерялась где-то в толпе, которая пришла в волнение: люди сновали взад и вперед и скрыли ее от Маджа. Поэтому он не видел, как всадник трижды проскакал по живому коридору, он только услышал, что в толпе захлопали и закричали:
— Браво! Браво! Первый приз Геге!
Не обратил внимания Мадж и на то, как недружелюбно молчали верховые, потому что в это время толпа расступилась и показался Геге, горделиво сидящий в седле с серебряным шитьем. Он ехал шагом на красавце-скакуне, перебиравшем, как в танце, тонкими ногами, и успокоительно похлопывал его по покрывшейся потом шее, ноздри скакуна часто-часто раздувались, жадно хватая воздух.
— Эй, ребята, кто возьмет у нашего Геге коня и немного прогуляет его? — крикнул какой-то мужчина-коротышка, подобострастно улыбаясь и кланяясь в сторону Геге.
— Я! — вынырнул из толпы один верзила.
— Не очень спеши, барский угодник! — бросил ему кто-то в толпе, явно недовольный его поспешностью и желанием услужить сильным мира сего.
— Разрешите, я прогуляю вашего коня, — подошел к ним и Мадж.
— Кто? Ты?! — прохрипел тот самый коротышка. — А ну, убирайся отсюда, сопляк, пока ты не оказался под его копытами!
Геге не снизошел до спора, который вот-вот мог разгореться. Он молча соскочил с коня. Но, видимо, сделал какое-то неловкое движение, потому что из гнезда на черкеске выпал газырь и покатился по земле. Оба — верзила и коротышка — почти одновременно нагнулись, чтобы поднять его, но на какую-то долю секунды их опередил Мадж, и это понравилось Геге.
— Умеешь держаться в седле? — улыбнулся он Маджу.
— Умею.
— Ездил когда-нибудь верхом?
— Ездил.
— Тогда я тебя подсажу, — и, подняв Маджа, Геге помог ему удобно усесться в седле. — Смотри, только не тереби поводья...
Мадж повернул коня и, стараясь сохранить невозмутимость, — сотни глаз были обращены в его сторону — спокойно повел его вдоль частокола. Душа мальчика обрела крылья, он готов был взлететь от радости, но не позволил себе чем-либо выдать свое чувство.
— Хорошо бы, конь сбросил этого сопляка с длинным языком, — зло процедил ему вслед сквозь зубы тот самый мужчина-коротышка.
Не обращая внимания на него, Мадж доехал до конца частокола и повернул обратно. Но тут какой-то чумазый мальчуган, оседлавший забор, издал такой залихватский свист, что конь, словно кто огрел его нагайкой, рванулся на дыбы и уже готов был понести, как...
— Сауна, Сауна! — тихо произнес Мадж, склонившись к самому уху коня и поглаживая детской ладошкой его шелковистую гриву. И конь, надо полагать, узнал этот голос, потому что он сразу же присмирел и, важно выбрасывая вперед тонкие красивые ноги, пошел этак нарочито медленно, задрав овою умную морду|
Детишки, заполнившие княжеский двор, с завистью смотрели на Маджа, недоумевая, откуда он такой взялся. А Мадж доехал до вишневого дерева, напоминавшего большой раскрывшийся зонт, и поставил коня в тень. Поблизости не было никого. И Мадж, соскочив с коня, прильнул к его морде.
— Сауна, — зашептал он, — мой хороший, мой дорогой...
По тому, как он не мог подыскать других слов и повторял одно и то же, нетрудно было догадаться, какие чувства обуревали детское сердечко. Мадж не переставая ласкал коня: то гладил его густую гриву, то похлопывал по гордой холке, а то и нежно целовал Сауна в глаза. И говорил, говорил с ним, как с человеком:
— Украли тебя, бедняга... Если бы ты знал, как скучает по тебе старый Хабаш!..
И Сауна млел от ласки мальчишки — в ответ лишь тихонечко ржал от удовольствия, низко опустив морду.
— Эй, сопляк, что ты там делаешь, — грубо нарушил эту идиллию противный голос коротышки, сразу же так невзлюбившего Маджа. — Для того тебя посадили на коня, чтобы ты в тенечке прохлаждался? А ну, веди его сюда!..
— Сейчас, — отрываясь от Сауны, отвечал Мадж, — пусть отдохнет немного в тени, ведь солнце печет немилосердно... — И повел коня на поводу.
А конь — предел доверия! — опустил морду на голову Маджа и терся своими бархатными губами о непокорные мальчишеские вихры, как будто рассказывал о том, что произошло с ним после того, как увели его со двора старого Хабаша. Геге был крайне поражен этим:
— Как быстро признал тебя мой конь! А я провожу с ним все дни, но не могу похвалиться его дружбой...
— Все очень просто, наш дорогой Геге, — вмешался и тут вездесущий мужчина-коротышка, — он же ребенок, и твой конь понимает это...
На самом же деле он хотел сказать иное: «Одна скотина всегда найдет общий язык с другой скотиной!», но испугался, решив, что вызовет гнев княжеского племянника тем, что равняет его породистого скакуна благородных кровей со скотиной и крестьянским подростком.
— Нет-нет, все-таки это поразительно! — Геге никак не мог совладеть со своим удивлением. Чтобы хоть как-то скрыть его, он вскочил на коня и рысью направил его в самую гущу всадников.
Мадж со слезами на глазах проводил Сауна. А когда обернулся, рядом стоял худющий пацаненок в нахлобученной по самые уши большой и далеко не первой свежести шапке. Он не сводил с Маджа восхищенных глаз, а Мадж в сердцах хотел уже было сказать ему какую-нибудь грубость, вроде: что мол, уставился на меня — я ведь не конь, но вовремя спохватился, вспомнив, что он здесь гость, и промолчал.
— Какой ты счастливый! — наконец обратился к нему мальчуган.
— Почему?
— Я никогда не ездил верхом...
— Никогда-никогда?
— Никогда-никогда!
— И дома у вас нет коня?
— Дедушка подарил мне жеребенка, но... Когда отец ушел, он упал в колодец.
— Куда ушел отец?
Мальчуган не ответил. Но, помолчав, заговорил
— Ты знаешь, как меня звал мой отец?.. Чиа!
— А меня зовут Мадж! — Он был очень рад этому знакомству.
Ребята подружились моментально. Для начала они навестили виноградник Мажара, где полакомились крупными сочными ягодками, а закончили день на большой поляне за имением Александре.
— Чиа, ты знаешь того коня, которого я прогуливал?
— Племянника Александре?.. Он сюда часто наведывается. И всегда — на отличных лошадях. В прошлый раз, например, прискакал на белом коне, который поднимался по лестнице...
Маджа так и подмывало раскрыть Чиа тайну Сауна, но каждый раз его останавливала одна и та же мысль:
«А вдруг он кому-нибудь скажет?..»
— Мадж, ты меня спросил, куда ушел мой отец... Я скажу тебе, но ты дай слово, что никому не расскажешь об этом, хорошо?
— Тетей клянусь, что никому не скажу!
— Мой отец ушел в лес, он — абрек. Я его только два раза и видел... Весь — в патронах. И револьвер у него тоже есть... Знаешь, что он сделал прошлым летом? Мы утром проснулись, а весь наш урожай уже убран! Дедушка мне сказал, что это отец ночью приезжал с друзьями... После смерти деда и матери я больше не видел его.
— У кого же ты живешь?
— У нашего однофамильца.
— А длинноусый знает, что твой отец абрек?
— Александре-то?.. Знает, еще как знает. Меня не зовет иначе, как «сын волка», а старика, который взял меня к себе, ненавидит лютой ненавистью: «Сто лет кровью харкаешь, — говорит ему всякий раз, — и никак не подохнешь!..»
«Хороший, открытый парень, — думал в продолжение всей исповеди Чиа маленький Мадж, — все откровенно говорит, как на духу, а я, кажется, ни за что обидел его своим подозрением...»
— Чиа, я тоже открою тебе свою тайну. Только — чур! — никому ни слова о ней...
— И у тебя, Мадж, тоже есть тайна?! Да? Расскажи! Клянусь отцом, никому не скажу!
Мадж поведал наконец своему новому другу всю историю Сауна, вплоть до того, что настоящий хозяин коня — старый Хабаш — и на смертном одре все бредит нм...
— Бедный старик! — жалея и сочувствуя, только и произнес Чиа.
До захода солнца оставался рост дерева. После ужина Мажара по обыкновению прилег, а Маруша стала мыть посуду.
Во дворе залаяла собака.
— Хоу, кого это там увидела! — пристал Мажара.
— Зовет кого-то, — отозвалась Маруша.
Мадж открыл дверь и вышел:
— Кто там?
— Мадж, это, я, Чиа! — услышал он в ответ.
Маджа как ветром сдуло. Мигом перемахнул он через перелаз, за которым, не решаясь войти во двор, поджидал его Чиа. Чиа очень смущал пес. Но и пес, похоже, почему-то опасался Чиа: не приближаясь к нему, он стоял посреди двора и, опустив хвост, лаял не переставая.
— Пойдем, Мадж, — тяжело дыша, потянул его за собой Чиа.
— Куда?
— Возле нас пасутся кони, там Сауна.
— Кто смотрит за ними?
— Бебо. Предупреди Марушу, что идешь ко мне...
Бебо был несколько странноватым для своих лет.
Про него так и говорили: силой и ростом бог его не обидел — великан, а вот умом — дитя малое. Скажешь ему смешное — он смеется, сделаешь больно — плачет. На приветствие всегда ответит приветствием, а не поздороваешься — пройдет мимо и не заметит. Разницы между людьми не видел: для него тот был хорош, кто накормит его. Спать он укладывался там, где настигала его ночь. Дома у него не было. Был он круглым сиротой.
Кони паслись мирно, и от нечего делать Бебо лежал на траве, играл камешками. Приятели сделали вид, будто проходят мимо.
— Эй, кто там? — лениво окликнул их Бебо.
— Чиа!
— А, это ты, маленький шалунишка! А кто с тобой?
— Мой друг.
— Ха, можно подумать он приехал из Тифлиса, — и Бебо расхохотался, — ха-ха-ха!..
— Чего ты хохочешь, как ненормальный?
— Ну, ну... Не задирайся! А то, давай, поборемся!
— И не стыдно тебе, такому буйволу, бороться с нами?
— Опять! Осторожней в выражениях, не то поколочу!
— А чем буйвол хуже тебя?
— Он болото любит, а я нет.
Мадж и Чиа громко рассмеялись.
— Чего хохочете? Кончайте, не мешайте дворянским коням отдыхать. Видите какой красавец конь Геге? То-то!
Услышав о конях, приятели замолчали. У каждого на уме был один вопрос: «Как приступить, с чего начать?» Первым нашелся Чиа:
— Бебо, ты есть хочешь?
— А что, можешь зарезать для меня барашка?!
— Барашка, наверное, нет, но вот вина и хачапури достать могу.
— Тоже годится! Только где их возьмешь?
— А вот это уже моя забота, — деловито парировал Чиа и направился в ту сторону села, откуда доносился веселый и многоголосый говор... Там была свадьба.
— Вы думаете, я пьян? — глубокомысленно рассуждал некоторое время спустя Бебо. — Ну, нет!.. Чтобы напоить меня, нужен не один кувшин вина, а десять, слышите, ребята, десять!
— Конечно, Бебо, ты сильный, мы верим, но и в этом кувшине еще осталось вино. Выпей за мое здоровье! Видишь, какой я худой!
— С моим удовольствием!.. Будь здоров!.. Желаю тебе, Чиа, стать таким же большим человеком, как наш Алек... Александре! Вот и твоему другу... тоже...
— Чтоб вас обоих унесла Ингури! — успел вставить Чиа, когда Бебо упомянул Александре. И Маджу стало не по себе от усмешки, скривившей еще по-детски пyxлые губы друга.
— Что?.. Что ты сказал?.. Повтори! — угрожающе потребовал Бебо, пьяно уставившись на Чиа.
«Плохо наше дело», — подумал было Мадж, но Чиа не растерялся:
— Я сказал, что ты такой сильный, что даже Ингури тебя не остановит!
— Это да, это точно!.. Тут ты прав! Не буду тебя бить. Никакая Ингури... пусть даже десять Ингури... а мне все нипочем... Дай я тебя... поцелую... за такие слова...
Опершись руками о землю, Бебо попытался подняться, чтобы исполнить свое намерение, но подвернул руку, упал ничком на траву и уже больше не шевельнулся, а еще через минуту-другую приятели услышали его богатырский храп.
Лунный серп безраздельно царствовал на небосклоне.
— Сауна, Сауна, ты не забыл меня? — осторожней подкрадывался к коню Мадж, выбросив далеко вперед свою ладошку, на которой лежали зерна кукурузы. Сауна, видимо, признал знакомую ладошку, потому что уши его вдруг встали торчком. Тогда Мадж осмелел, приблизился еще к коню. Конь осторожно принюхался к ладошке, потом спокойно стал хрупать зерна кукурузы. Мадж опустился перед ним на корточки и освободил от пут стреноженные ноги коня.
— Мадж, возьми уздечку!
— Уздечку?! Откуда она у тебя?
— От Геге... Я одолжил у него, — зло пошутил Чиа.
Мадж не стал задираться. Он взобрался на коня, молча помог другу освоиться на его крупе и сильно сдавил коленками бока Сауна. Умный конь все понял, не впервой Мадж на нем ездил — он стрелой перелетел через невысокий плетень, ограждавший загон, и вместе с друзьями очутился на свободе.
— Крепче держись за меня, — не оборачиваясь, приказал Мадж.
— Держусь, Мадж, держусь, но, по-моему, ты слишком быстро едешь... — отвечал ему Чиа, впервые скакавший верхом на коне.
Была уже полночь. Небо усеяли множество звезд, большие, яркие, они казались близкими — рукой подать. И Сауна шел уверенно, как будто ориентировался по звездам. Это вызывало недоумение даже у Маджа. Но вида он не подавал. И когда Чиа спрашивал его: «Неужели конь идет верно? Мы не заблудились?», он неизменно отвечал: «Я верю в Сауна. Он должен помнить дорогу домой».
Глубокой ночью доехали они до обрыва — снизу доносился до них волчий вой. Фыркая, Сауна стал спускаться, осторожно переставляя ноги: в поисках надежной тверди он пробовал на прочность каждый камень, попадавший под копыта. Вдруг наперерез ему метнулась чья-то широкая тень. Сауна взвился от испуга, задрав высоко передние ноги и присев на задние, от чего Мадж повалился на Чиа, а тот затылком уперся в крестец лошадиного крупа.
Казалось, еще мгновение, и Сауна перевернется через голову и полетит вниз, увлекая за собой ребятишек. Но в то же мгновение чья-то сильная рука властно схватила коня под уздцы и потянула на себя. Конь стал, как вкопанный, а ребятишки вновь приняли прежнее положение. Широкая бурка и надвинутый на глаза башлык, концы которого были обмотаны вокруг шеи так, что в них утопала и нижняя часть лица, мешали ребятам разглядеть незнакомца. Он свистнул негромко, и тут же справа и слева от них выросли еще две фигуры, в таких же бурках и также укутанных башлыками.
— Слазь! — строго приказал незнакомец.
— Пустите нас... — умоляющим тоном произнес оробевший Мадж. Чиа же от страху и рта раскрыть не мог.
— Слазь, говорю! — неумолимо повторил незнакомец.
— А вы нас не убьете?.. — дрожащим голосом произнес Мадж.
— Подожди, ведь это дети, — вмешался тот, что стоял справа от них.
— Да, да, мы дети... — захныкал не на шутку испугавшийся Чиа.
— Дети?! Ночью?! Куда вы едете? Кто вас послал!
— Мы бы вам сказали, да боимся, — взял инициативу на себя Мадж.
— Говорите, не бойтесь!
— А кто вы? — инстинкт самосохранения сработал вовремя: Мадж уже колебался. — Вы — люди князя? Да?
— Да нет же, — перебил его незнакомец, — мы крестьяне, дети!
— Отец! — вдруг вскрикнул Чиа.
— Чиа?! — в голосе незнакомца прозвучало неподдельное удивление. — Это ты, сын мой?! — Он взял Чиа на руки, привлек его к себе, минуту-другую еще пристально вглядывался в лицо сына и затем крепко прижал его к своей груди.
— Отец... как я скучал... мой родной, — бормотал между тем Чиа, уткнувшись в грудь отца и не стыдясь своих слез.
Понятно, что ребята обо всем подробно рассказали абрекам. Отец откровенно гордился своим сыном: «Посмотрите, это мой Чиа!» «Посмотрите, какой герой у меня сын!» «Посмотрите, какой у него друг!» — то и дело перебивал он мальчишечий рассказ. Но не долго они пробыли вместе, отец и сын. Бросив короткий взгляд на небо, отец подозвал к себе одного из своих товарищей:
— Проводишь их до околицы Уархи и возвращайся. Постарайся обернуться до рассвета. А ты, — обернулся он к сыну, — оставайся пока у своего юного друга... Среди моих друзей тоже есть немало абхазцев... Они гостеприимны и надежны... Без меня не покидай дом друга. Дождись меня. Я обязательно навещу вас!..
Спустившись по крутому откосу, ребята вместе с провожатым переправились через горную речушку и вступили в густой темный лес. Ночь здесь казалась совсем непроглядной: обширные кроны огромных деревьев не пропускали ни блеска звезд, ни света Луны. Абрек скинул бурку и снял черкеску — его белая нательная рубаха, мелькавшая меж могучих стволов, была тем ярким пятном, следуя за которым ребята не боялись ничего на свете. Точно у околицы абрек придержал коня:
— Отсюда, ребята, поезжайте одни, тут уже недалеко...
— А ты?
— А я должен вернуться. Только запомните: никто не должен знатъ о нашей встрече. Это может сильно повредить нам, нашему делу... Если кто спросит, скажите, что сами, мол, нашли дорогу... И не забудьте этой ночи, дети, этого доброго дела, которое вы совершили для старого Хабаша. Я уверен, вы вернете жизнь бедному, честному старику... Не верьте, если услышите, что нас называют грабителями! Настанет день, и мы сделаем свободными тысячи таких, как Хабаш!.. Ну, дети, растите и вы честными и верными! Прощайте! — он расцеловал ребят и, повернув коня, с места послал его в галоп. Приятели провожали его восхищенными глазами:
— Как бы я хотел стать таким, как он! Он ничего не боится! — задумчиво промолвил Мадж.
— И иметь бы столько же патронов и всякого оружия, как у него! — поддержал друга Чиа.
Сауна, застоявшись, нетерпеливо перебирал ногами. Мадж понял этот знак, тронул поводья, и конь затрусил вперед. Скоро они достигли большого спуска, за которым каждая тропинка была хорошо знакома Маджу. Он пристально вгляделся в темноту и вдруг радостно воскликнул:
— Он жив, Чиа!
— Кто жив?
— Хабаш!
— Откуда ты знаешь?
— Во-о-он, видишь, апацха, кругленькая, как колобок? У обрыва той высокой скалы? Это и есть его апацха. Видишь, языки костра поднимаются над плетнем? Значит, он жив!
— Он увидит Сауну и больше не умрет, правда? — спрашивал Чиа.
— Правда, Чиа!
Радость Маджа передалась его другу. Нетерпение мальчишек росло. Но они не имели права пустить коня вскачь: так можно было и загнать Сауна, которому порядком доставалось от двух всадников, непрестанно ерзавших и елозивших на его уже уставшей спине. Другой конь, может быть, и не потерпел бы на себе столь беспокойных седоков. Но умный Сауна безропотно нес свою ношу, размеренно шагая по знакомой дороге к апацхе старого Хабаша.
Так и не встретив ни души на всем оставшемся пути, подъехали ребята на ранней зорьке к небольшим, открытым настежь, воротам. Вот тут Мадж и дал волю своим чувствам. «Держись за меня крепче!» — крикнул он Чиа, ладошкой хлопнул коня по шее и Сауна поскакал, дробно стуча копытами, прямо к дверям апацхи.
У самых же дверей Мадж так резко осадил его, что копыта высекли искры, от которых кинулся в сторону пес, даже не успевший залаять, хотя стук копыт и пробудил его от предутренней дремы.
— Всадник! Клянусь, это всадник! — зашептали в апацхе безжизненные губы Хабаша, и все, кто был у его постели, как по тревоге, высыпали во двор, забыв, что младшие должны уступать дорогу старшим: так велико было общее нетерпение узреть того, кого посылал им занимавшийся день.
— Сауна!
— Мадж!
— Откуда?
— Он ведь в Самурзакане!..
— Где ты нашел его?
— О, Мадж... Сынок... Дорогой мой... — слезы закапали из глаз Махател.
— Сперва скажите, жив ли Хабаш? — хотел удостовериться Мадж.
— Жив, дорогой, жив! Его душа не осмелилась noкинуть бренное тело! Ты спас его, теперь он не умрет!
Кто-то бросился к больному:
— Мадж и его друг пригнали твоего коня!
— Я понял... Я слышал... Но надо убедиться, что это именно он, Сауна!
— Хочешь, введем его сюда, прямо к тебе? — столпились соседи у кровати Хабаша.
— Позовите мою старушку!
— Я здесь, — пробилась к нему Махател.
— Ну, что, старая, — оживился Хабаш, — дай-ка мне черкеску!
— Для чего тебе, старый, черкеска?
— Дай ему, Махател, дай, — посоветовали ей.
Хабаш оделся, как на праздник. Он попросил привести в порядок коня, почистить его, оседлать и только потом, поддерживаемый под руки с двух сторон, вышел во двор. Его подвели к коню.
— Ну, что, Хабаш? Сауна, правда?
— Позовите ко мне детей...
— Эго все благодаря Чиа! — Мадж показал рукой на стоявшего рядом друга.
— Дорогие вы мои дети, — только и произнес старик, поцеловав каждого в глаза.
И вдруг, легко отстранив поддерживавших его, он ловко вставил левую ногу в стремя и — словно какая-то неведомая сила подняла и перекинула его тело через коня — точно опустился в седло. Никто не успел даже опомниться. А Сауна же, узнав своего старого хозяина, оборотил к нему задранную морду и только ждал его приказания. Хабаш легонько тряхнул поводьями...
— Он! Точно он, мой Сауна!.. — удовлетворенно произнес старик, сделав полный круг по своему двору. — Вот теперь, Мактат, можно и умереть спокойно!
— Теперь, дорогой Хабаш, тебе надо слезать с коня отдохнуть...
— Нет, я еще должен сказать... Ты слышишь меня, старая?
— Слышу!
— Все мое маленькое хозяйство принадлежит этим детям. Мадж и Чиа — это мои дети, и ты — их мать. А если кто будет против... против... против...
Будто пуля попала в самое сердце Хабаша — он резко подался вперед и грудью налег на холку коня. Женщины подняли крик.. Конь, ощутив сразу же, как друг обмякло на нем тело старого хозяина, недоуменно закружился на одном месте. Вцепившись руками в гриву, Хабаш вытянулся на спине любимого коня. Кровь отлила от его лица, мертвенная бледность разлилась по нему. Остановилось сердце старого Хабаша...
Голосили женщины.
Мужчины молчали, опустив голову, украдкой вытирая слезы.
Мадж и Чиа плакали навзрыд.
Сауна тихо ржал, низко понурив морду, и кружился... кружился... кружился...
ЭРУДИТКА
Верно говорят — мы живем в удивительное время. Век НТР, ЭВМ, космических кораблей, путешествий по Луне, по дну океанов... Мы запросто ездим в разные страны, нас учат читать с небывалой прежде скоростью, из телепередач мы узнаем такое, что нашим предкам и не снилось. Так вот, и неудивительно, что мы стали всезнающими и всегда готовы ответить на любой вопрос — будь это из области науки, или искусства, или литературы.
Вот, например, мой сосед Кан, зоотехник, недавно был в турпоездке по Венгрии. Он приобрел там кубик Рубика, попробовал гуляш, посмотрел, как танцуют чардаш, и теперь он вам о Венгрии может рассказать все! А наш буфетчик Халил ездил в Египет, где купил джинсовые брюки фирмы «Харрис», и как послушаешь его рассказ о египетских древностях — ну, словно поговорил с самим фараоном Тутанхамоном. А впрочем, и ездить не обязательно. Вот у моей соседки есть подписное издание произведений мировой литературы. Двести томов! Правда, я никогда не видел, чтобы она читала что-нибудь, кроме объявлений в местной газете, но судит она обо всех знаменитых писателях не хуже доктора филологических наук. Ничего не скажешь — XX век! Все нынче знают все!
Но к чему это я? А вот такой был недавно со мной случай. Пригласила меня на свой день рождения очень милая девушка Марина — моя институтская однокурсница. Она работает в стройтресте. Стол был отличный, компания собралась замечательная. Все больше ее сотрудники, много рабочих — такие ребята развитые, современные, кто вечернюю школу кончает, кто уже в институте заочно учится. С любым поговорить интересно, только вот как сели за стол, они больше помалкивали: всей беседой завладела одна девица, бойкая такая, по вмени Инелла. Удивительно просто, сколько она всего знала! Только и слышно было: «О, этот роман!», «Да, великолепный фильм, какая тонкая режиссерская работа!», «Ах, эта скульптура!», «Как, вы не слыхали об этом актере? Это же восходящая звезда!».
Рядом со мной сидел мой старый знакомый, профессор-искусствовед, человек весьма скромный и молчаливый. Несколько раз он пытался вставить слово в рассуждения Инеллы, но тут же беспомощно умолкал — это было все равно, что какой-нибудь тоненькой дощечкой преградить путь мощному горному потоку. И тут мне пришла в голову озорная мысль...
Улучив момент, когда Инелла остановилась на миг перевести дух, я как можно небрежнее обратился к ней:
— Простите, а как вам нравится бразильский автор Ауган?
— Ауган? — она на мгновение смешалась и озадаченно посмотрела на меня, но тут же нашлась:
Какой из них — прозаик или сценарист?
— Я имею в виду прозаика. Я и не знал, что есть еще сценарист.
— Конечно, есть. По его сценариям снято много картин.
— Не буду спорить, потому что не знаю его. А вот прозаик мне очень нравится. Особенно его роман «Кунелла Либи». Помните, как здорово описывает он смерть Либи?
— Да, да, только, к сожалению, давно читала, уже многое забыла. Но мне больше нравится его эпопея «Черное зеркало». Вы читали?
От ее самоуверенности я даже на миг растерялся. Мелькнула мысль: а может, в самом деле есть такой роман? Но я продолжал игру.
— Нет, не читал.
— Прекрасный роман! Советую прочесть, не пожалеете. Ему очень удаются женские образы. Главная героиня... Как ее звали... Не помню...
— Не имеет значения, вы меня заинтриговали. Может, дадите на пару дней, я быстро читаю?
— С удовольстием, но у меня этой книги тоже нет. Я ее читала в Ленинграде, у подруги, когда мы ехали в Финляндию.
— Жаль! А ты читал? — обратился я к своему приятелю.
— Отстал я от вас, — сказал он со вздохом. — читал только одно-единственное произведение Аугана роман-сказку — «Лавашино». Написано прекрасно, так чувствуется национальный дух!
— Это я не читала, но когда мы ехали в ФРГ, в поезде шел разговор об этом романе. Он, говорят, читается трудно.
— Ну, этого бы я не сказал. Впрочем, о вкусах не спорят. А вы кем работаете, Инелла Константиновна?
— Я заведую столовой нашего треста.
— О, тем более приятно, что вы так много читаете!
— Что вы, всего не прочтешь. Столько прекрасных книг...
— Не говорите. Вы знаете даже Аугана! Не всякий его знает. Это говорит о вашем прекрасном вкусе.
— Кого-кого, а уж Аугана не знать просто невозможно. Таких писателей — единицы.
— Рад слышать мнение столь компетентного человека! — заметил мой искусствовед, незаметно толка меня в бок.
Инелла снисходительно улыбнулась и спросила:
— А вы кто по профессии?
— Ну, я всего-навсего искусствовед. Кстати, одно время изучал киноискусство Латинской Америки.
— Ах, — вдруг спохватилась Инелла, — я же начисто забыла, что Марина просила помочь ей варить кофе! Вы тут меня совсем заговорили! Извините, пожалуйста! — и она умчалась на кухню.
Мы с приятелем поднялись из-за стола и вышли на балкон.
— Где ты выкопал такое имя — Ауган? — спросил он меня, дав, наконец, волю смеху. — А знаешь, звучит вполне так, что можно подумать, будто есть такой писатель!
— А что тут удивительного? Так звали моего деда, царство ему небесное. А ты откуда взял свое «Лавашино»?
— Утром покупал горячий лаваш!
Вдоволь нахохотавшись, мы вернулись в комнату. Инелла была уже там и рассуждала о творчестве современных художников-абстракционистов.
ЛИШЬ ОДНО СЛОВО
Вахайд Дадынович проснулся в то утро с хорошим настроением. Даже умывался, мурлыча под нос веселую песенку.
Позавтракав, он схватил свой портфель, чмокнул жену, поиграл на прощанье с детьми и поспешил на службу. Вахайд Дадынович не любит опаздывать, к работе относится со всей ответственностью — это в его характере. С таким человеком, сами понимаете, приятно трудиться рядом.
Другой бы начал брюзжать, а Вахайд Дадынович, икогда не терявший чувство юмора, заметив издали переполненный автобус, пошутил: «Ползет наш таракашка!»
Как только автобус остановился, люди стали протискиваться в тесноту салона. Вахайд Дадынович пропустил сначала стариков, потом женщин. В автобусе неимоверно тесно, но ничего не поделаешь, рейс утренний, все спешат, машин не хватает, и это надо понимать.
Автобус уже тронулся, когда на подножку вскочил здоровенный мужчина.
— Вечно он набит битком! Чтоб он сгорел! — ругался здоровяк, начиная теснить рядом стоящих.
— На чем будешь ездить, если автобус сгорит!? — пошутил кто-то.
Но здоровяк шутки не принял и в эту минуту так наступил на ногу Вахайда Дадыновича, что он чуть не вскрикнул от боли и навалившейся тяжести этого верзилы. Он только охнул чуть слышно и решил перетерпеть. А это не так просто! Вахайд Дадынович даже подумал: «Человек почувствует себя очень неловко, будет извиняться при всех, беспокоиться за причиненную боль». И он приготовил ответ на этот случай: «Вы же нарочно. Всякое случается. И со мной так не раз бывало».
А верзила продолжал стоять на ноге Вахайда Дадыновича и не помышлял пощадить свою жертву. Он даже поглядывал вокруг с такой недовольной гримасой на лице, словно на ногу ему наступили.
— Передай на билет, — сунул он под нос Вахайд Дадыновичу медяк. И этого было достаточно, чтобь Вахайд Дадынович в одно мгновение возненавидел наглеца. Но вида не подал, напротив:
— Получите билет, товарищ, — обратился к нему Вахайд Дадынович как можно мягче и, постаравшись улыбнуться как можно мягче, добавил:
— И потрудитесь, пожалуйста, освободить мою ногу, а то, боюсь, от нее останется одна отбивная...
— А ты не суй ногу куда не следует! — не заставил себя ждать с ответом здоровяк.
И вот тут настроение Вахайда Дадыновича испортилось окончательно. На следующей остановке в автобус поднялся молодой человек.
— Передайте, пожалуйста, на билет, — попросил он Вахайда Дадыновича, протягивая монету.
— Сами покупайте! — отрезал Вахайд Дадынович.
— А вам трудно передать? — обиделся молодой че ловек. — Ну и народ пошел!
— Народ! Народ! Где это вы видите народ! Люди были раньше, а этим еще и названье не придумали, — разошелся Вахайд Дадынович.
— Не стригите всех под одну гребенку, — посоветовал миролюбивым тоном какой-то старик.
— Обязательно найдут из-за чего поспорить. Действительно, странные люди стали, — вмешалась в разговор старушка.
Вахайд Дадынович сошел на своей остановке, но настроение его от этого не улучшилось. Тут его останавливает какой-то приезжий:
— Товарищ, где у вас можно купить колбасу?
— Там же, где у вас. Все продукты продаются в гастрономах, — ответил Вахайд Дадынович таким тоном, словно этот человек уже приставал к нему со своим вопросом.
— Какие же грубияны в этом городе! — воскликнул приезжий. — Тут не то, что отдыхать, только нервы портить. — И, увидев магазин, вошел.
— Пожалуйста, колбасы, — раздраженно обратился он.
— Какую вам, здесь несколько сортов?
— Самую лучшую!
— Лучшая та, которая вам нравится больше других.
— Вы продавщица и вам надо знать свой товар.
— Товарищ, сами выбирайте колбасу, тогда я вас обслужу, — и она обратилась к следующему.
Любезности ее как не бывало! Движения ее стали резкими, она уже начала грубить покупателям, и тогда один из них потребовал «Книгу жалоб и предложений». Прочитав о себе пару «лестных» слов, она стала совсем невыносимой.
— Нет у вас получше мяса? — спросила ее солидная женщина.
— Если бы было, висело бы здесь!
— Но ведь вы могли не все вынести? Может еще рубят?
— Хотите — берите, что есть, а нет — и нечего голову морочить!
— Это что, культурное обслуживание?! — возмутилась женщина.
— Нашлась мне культурная!
— Вы обо мне? — возмутилась покупательница.
— Мужа своего учите быть культурным.
— Вы и ногтя моего мужа не стоите!..
Расстроенная, она пришла в поликлинику, где у дверей ее кабинета уже ждали пациенты. Не успела она набросить белый халат, как заходит пациент и спрашивает:
— Вы врач?
— Да, я. А кто же еще? — Садитесь. Она прослушала его и безаппеляционно заключила: — У вас грипп!
— Откуда он взялся, если я не выходил из дому? — удивился пациент.
— Вас никто не спрашивает, выходили вы из дому или нет. Я вам говорю: у вас грипп. Не верите — идите к другому врачу!
— Почему вы так со мной разговариваете? Что я вам плохого сделал? Не меня, а вас нужно лечить... — расстроился пациент и добавил еще несколько обидных фраз, чтоб не оставаться в долгу. Вышел он из кабинета взвинченным до предела. «Надо было мне идти в эту проклятую поликлинику? — сердито думал он. — Может, ей десятку надо было сунуть? Так намекнула бы! Нечего было голову морочить. Где в наше время найдешь порядочных врачей!»
Он с трудом дождался такси.
— Я раньше вас тут стояла, — остановила его женщина.
— Когда я подошел, вас тут не было, — ответил мужчина и оттолкнул женщину плечом.
— Даже если бы оно и было так, вы могли бы уступить женщине! — попыталась пристыдить она его.
— О каких женщинах вы говорите! Сейчас все мужчинами стали! — и хлопнул дверцей машины. — Давай погоняй, чего слушаешь! — скомандовал он шоферу.
— Я вам не извозчик, — возмутился тот...
Вот видите, что значит наступить человеку на ногу, не извиниться, а напротив, еще и нагрубить.
Весь город обошла зараза испорченного настроения Она распространялась быстро, как чума. А ее можно было предупредить. Всего лишь одним словом: «Простите!»
Всего лишь слово, за которое вы не платите денег, но которое так дорого стоит.
ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
— Ни за что! Никогда я не дам тебе согласия на этот брак! — бушевал отец невесты. — Он ворюга, спекулянт, о нем тюрьма плачет горькими слезами!
Дочь-невеста молчала, поглядывая на стоявшую рядом с ней свою хорошенькую подругу с мольбой во взоре: —«Скажи же ему хоть слово в его защиту!».
Увы, подруга не могла сказать ни словечка, потому что отец продолжал надрывно кричать, и прорваться сквозь крик было невозможно.
— Чем он тебя прельстил, этот коротышка с укороченным семиклассным образованием?! Он тебе — не пара! Ты кончила институт, работаешь, пользуешься ува жением сослуживцев... Ушам своим не верю: моя дочь — моя! — хочет осквернить наш чистый дом! Ввести в нашу честную семью жулика!... Рецидивиста!.. Пошли ему отказ, умоляю тебя.
Дочь молчала. Подруга открыла было рот, чтоб сказать свое слово, но отец невесты прошипел: — Прошу тебя, не вмешивайся! Лучше скажи ей, что если она тайком от меня с ним зарегистрируется, то я этого не переживу. Способна довести отца до могилы? Пусть доводит!
И снова на крике:
— И что она нашла в этом уроде?! Да любая обезьяна в питомнике красивее его! Он ее чем-то опоил. Да-да!
Подруга наконец робко промолвила:
— Дядя Лагустан, если он ее чем и опоил, то это только своей любовью!..
— Любовью?! Прошу тебя, не смеши меня! Моя дочь влюбилась в уродину! Знаем мы их любовь! Да известно ли ей, где сейчас ее Ромео?! В Архангельске! Договорился с каким-то водителем рефрижератора. Нагрузил машину мандаринами — и айда спекулировать! Дa его наверняка уже словили и посадили.
— Нет, дядя Лагустан, — так же робко сказала подруга невесты. — Он уже вернулся и даже новую «Волгу» откуда-то пригнал!..
— Кто ему даст новую «Волгу»?! Он все врет, а вы и уши развесили!..
— Нет, нет, дядя Лагустан, — не сдавалась подруга яевесты. — Мой брат не только видел собственными глазами его «Волгу», он даже прокатился с ним в этой голубой красавице!
— Если даже и купил, что это меняет?! — буркнул отец. — Да пусть хоть самолет для нее добудет по блату — все равно не быть его женой. Да и зачем ей самолет, спроси ее. В тюрьму передачу можно и на автобусе отвезти. Еще раз повторяю: тюрьма — это его дом родной!
— А он, между прочим, недавно купил для себя дом! — сказала подруга невесты. — Правда, маленький, одноэтажный. Но очень красивый, на берегу моря. И садик мандариновый при доме.
— Да пусть хоть дворец на берегу океана покупает, с банановым парком впридачу. Я сказал: ни за что! И еще сто тысяч раз готов сказать: ни за что!
— Дядя Лагустан, он так вас уважает, он ведь и вам, и тете Марице кое-что привез в подарок!..
— Мне от этого вора ничего не нужно!.. Марица! Марица! Иди сюда!..
В комнату вошла тихая, кроткая мать невесты.
— Марица, что там привез для нас этот ее подонок? — грозно спросил у жены Лагустан.
— Для тебя кожаное пальто, а для меня дубленку. Я сейчас все тебе покажу.
Она вышла и сейчас же вернулась с прекрасным кожаным пальто в руках и с такой же прекрасной дубленкой.
— Вот, посмотри.
— Кожа, как масло! «Лайка!» — восхитилась подруга невесты. — Наденьте пальто, дядя Лагустан.
— Зачем?! Все равно я не дам согласия.
— Наденьте! Хоть на минуточку!..
— Вот льстивый негодяй! Еще подарки носит! — брезгливо фыркнув, отец невесты натянул на себя пальто и подошел к настенному зеркалу. Марица последовала его примеру и, надев дубленку, встала рядом с мужем.
— Ой, какая прелесть! Как на вас шито, дядя Лагустан и тетя Марица!
— Жулик все может достать! — сказал он со злобой в голосе. — Оно на меня длинновато! — добавил сквозь зубы.
— Пустяки какие! В ателье отдадите — укоротят!
— Ну, как, отец? — спросила кроткая Марица. — Отказать жениху или будем свадьбу готовить?
Отец еще раз оглядел себя в зеркале с головы до ног и промямлил:
— Что я могу сказать, Марица? В конце концов... при чем тут я? Ей с ним жить, не мне! Как-нибудь я переживу эту утрату. Была дочь и нет дочери!..
Он достал из кармана новый платок, вытер cyxие глаза и как был в кожаном пальто, так и вышел и комнаты.
ПАПИНЫ ФОКУСЫ
Фаф пришел с работы домой и застал всех своих деток в сборе. В такие дни они всегда его ждут с нетерпением и в полном милом кворуме.
— Пап пришел, пап пришел! — радостно завопила младшенькая и тут же деловито спросила: — Зарплату получил, пап?
— Получил, доченька, получил!
— Пап, купи мне «Аляску»! У нас в классе все девочки ходят в «Алясках», Сима ходит в «Алясках», Пака и, конечно, Асида — она нарочно, когда я прохожу мимо, выставляет свои «Аляски», чтобы я их видела. Купишь, пап?
— А что такое, собственно, «Аляски»?
— Пап, почему ты такой отсталый? «Аляски», это такие сапоги, красивые и теплые.
— По-моему, таких сапог у нас в городе нет, доченька !
— Их нет, но они есть, пап!
— Не понимаю, что это значит: нет, но есть?!
— Нет в магазинах, а есть на руках или на складах. Их не покупают, пап, их дос-та-ют! Понимаешь? Они стоят 250 рэ.
— Ладно, ладно, доченька, постараюсь, ку... то-есть достать!
— Спасибо, пап. А то все ходят в «Алясках», а я одна, как дурочка, в своих «Сухумках».
— Между прочим, пап, у меня тоже есть для тебя задание, — сказала его средняя доченька, блистательная ученица восьмого класса.— У меня нет пальто!..
— Амина, побойся бога! У тебя есть пальто. Мы его купили в прошлом году, заплатили 320 рэ. Чудесное пальтишко!
— Видно, пап, что ты сам бога не боишься, если так рассуждаешь, — сказала блистательная ученица восьмого класса, — за год в моде произошли серьезные сдвиги. Да будет тебе известно, что все девочки нашего класса носят «Ламу». Одна я, как дурочка...
— Постой, Амина, а что такое «Лама»? Объясни, пожалуйста.
— По природоведению —животное, благородное, а вообще она — пальто. Внизу — широкое, как требует мода.
— Я в магазинах эту «Ламу» что-то никогда не видел!
— «Ламу», как и «Аляски», не продают, ее до-ста-ют, пап! Она стоит всего лишь одну тысячу рэ. На твое счастье она сейчас подешевела.
Тут к Фафу на помощь приходит его сын, студент экономического факультета. Он говорит, с укором обращаясь к Амине:
— Имей совесть, Амина! У тебя действительно ecть прекрасное пальто! Ты в восьмом классе захотела «Ламу», в десятом потребуешь «Пантеру», а будешь студенткой, тогда что, живого тигра подарить?!
— Оч-чень смешно!
— Мы должны понимать возможности наших родителей, сестра. Даже у нашей мамы нет «Ламы», обойдешься и ты без нее. Вот я — другое дело! Я в семье — единственный, студент. Все у нас на курсах ходят в кожаных куртках, один я, как дурачок, в плаще хожу. А я ведь все-таки отличник учебы, сын популярного в нашей республике артиста...
— Купим тебе курточку, сынок, купим... со временем! — говорит Фаф, чтобы улеглись приобретательские страсти его детей и смотрит на жену, которая сидит в сторонке, что-то вяжет и молчит.
— Мать, а что тебе купить? — спрашивает он ее.
— Мне ничего не надо! — говорит она, продолжая свою бесконечную работу. Тогда он, обернувшись к своим деткам, говорит торжественно-декларативным тоном:
— Дети, мы, родители, живем для вас и ради вас. Нам для вас ничего не жалко. У меня к вам лишь одна просьба: составьте список тех вещей, которые я должен достать для вас, чтобы я ничего не забыл и не напутал! Ну, кто будет писать?
— Пусть Амина напишет, как пятерочница! — говорит младшенькая.
Амина охотно соглашается писать. Она берет со стола лист бумаги и старательно своим красивым почерком выводит: «Аляски» —250 рэ, «Лама»— 1 ООО рэ, кожаная куртка — 450 рэ.
Фаф говорит Амине:
— Приплюсуй, дочка, сюда еще 26 рэ квартплаты — коммунальных услуг, 200 рэ — наш семейный бюджет, 2 руб. 50 коп. — мне на новые носки и 3 рэ — маме на стиральные перчатки, ома уже давно их просит купить. Сколько у тебя получилось?
— Пусть это наш экономист посчитает!
— Сосчитай, сынок! — говорит он сыну-студенту.
— Что тут считать — получается всего 1931 рэ 50 коп., — докладывает экономист.
— Теперь, сын мой, вычти из 185 рэ 1931 рэ 50 коп.
— Ну, пап, тут ты что-то загибаешь! Как же можно из такого числа вычесть такое число? Это уже из области высшей математики, а не из арифметики!
— Видишь ли, — говорит папа-Фаф, — моя зарплата выдается мне по правилам арифметики и составляет сумму в 185 рублей. И тратить ее я тоже могу только по правилам арифметики. Как предлагаемую вам задачу решить по правилам высшей математики, я не знаю. Если ты знаешь — подскажи мне!
— Ну, начинаются папины фокусы! — недовольно говорит его сын-экономист.
— Между нами, пап, — пропасть непонимания! — заявляет блистательная ученица восьмого класса и выходит из комнаты. Жена встает и тоже выходит — стирать, в ванную.
— Пап, а «Аляски» ты все-таки купишь? — спрашивает его младшенькая, уверенная в том, что старый фокусник ни в чем отказать ей не может. А он... Он думает о том, что не надо было ему, пожалуй, огорчать своих милых деток своей глупой иронией...
СЛАВА ЗУБОПРОТЕЗИСТАМ!
Сижу в кабинете зубного техника.
— Доктор, у меня в шесть собрание. Если можно, поскорей, пожалуйста... — прошу я его.
— Не беспокойтесь, — обнадеживает он меня и этак лукаво спрашивает: — А что за собрание у вас?..
И я догадываюсь, что он просто пытается отвлечь мое внимание от отливающих холодным блеском инструментов, которые уже появились у него в руках. Я отвечаю ему широкой понимающей улыбкой, как бы давая ему понять, что маневр его мне ясен, и тем самым словно бы обязывая его добросовестнее отнестись к моим зубам. Но в тот же миг моя широкая улыбка вытянулась в кривую гримасу, так как он успел весьма чувствительно стукнуть металлическим крючком по больному зубу:
— Вот именно этим зубом занимались мы вчера, не так ли?
— Ыгы... — только и сумел выдавить я, усиленно закивав головой, чтобы как-то компенсировать свое нечленораздельное мычание.
Да, что там ни говори, а руки у моего протезиста золотые! Всего лишь месяц понадобился ему, чтобы вылечить мой зуб мудрости, который беспокоил меня больше года, но только лишь для того, чтобы затем решительно выдернуть его. Очевидно так надо было! И вот сейчас он ставит мне на это место золотой зуб. Кого волнует, что внутри его, конечно, не золото — главное, как сверкнет он всякий раз, когда я открою рот!.. Позвольте, однако, почему он держит в руках три зуба, тогда как мне нужен всего лишь один?! Но зубной техник умел читать в глазах.
— Да, совершенно верно, — ответил он на мой недоуменный взгляд, зуб-то один, но нужны две коронки, дабы скрепить его с рядом стоящими. — И многозначительно добавил: — У хорошего человека должно быть надежное окружение, не так ли?..
Я согласно прикрыл веки — и тут же снова открыл глаза, ощутив присутствие во рту инородного тела, этой золотой троицы.
— Сожмите челюсти, — наконец приказал он мне, и я послушно стал сводить онемевшие скулы.
Но золотая троица сопротивлялась моим героическим усилиям.
— Те, которые вы поштавили, по-моему, высе, — заметил я и вдруг обнаружил, что и картавлю и шепелявлю одновременно.
— Это с непривычки, — успокоил меня зубной техник, — со временем они встанут на место, и вы будете щелкать ими орехи, как белка!
— Шпашибо и до швидания! — благодарно крикнул ему я, выбрасывая свое тело из зубоврачебного кресла прямо в коридор, так как до начала собрания оставались считанные минуты.
Я все-таки успел к докладу директора, в котором он щедро раздавал всем сестрам по серьгам. Перепало кое-что, весьма внушительное, и мне. Поэтому, когда объявили о начале прений, поднялся лес рук. Кажется, не осталось педагога, который не пожелал бы высказаться, оправдываясь со всей мыслимой (и немыслимой) горячностью. Но наш директор, увы, даже не удостоил их взглядом: он только что-то нашептывал на ухо сидевшему рядом с ним представителю районо.
— Кто еще хочет выступить, — предложил он, обратив внимание, что лес рук поредел так, словно его вырубили подчистую.
Однако под его суровым взглядом никто больше не желал высказываться: ведь все, кроме меня, уже разрядились и теперь сидели довольные собой и своим выступлением. Только я еще мог взорваться, но я старательно стискивал зубы, чтобы — не дай бог! — этот предохранитель не сорвался. Попробуй тут открой рот — поднимут на смех! Во-первых, никто из моих коллег не в курсе того, что я стал картавить и шепелявить одновременно, а во-вторых, представитель районо, который все записывал что-то в тетрадку, я уверен, не упустит случая поинтересоваться, где нашли такого удачного педагога, у которого рот полон дикции. Он и так все собрание не сводил с меня глаз, как будто ждал, что вот, наконец, я поднимусь и открою рот. Конечно, вот сейчас он склонился к директорскому уху и что-то шепнул, мотнув головой в мою сторону. Так и есть — директор привстал и с дежурной улыбкой, подозрительно вежливо, насколько возможно, елейным голоском обратился ко мне:
— Калистрат, а ты ничего не хочешь сказать?
— Нет, — с большим трудом пробурчал я и опустил толову.
Стыд сжигал всего меня. Мне так много хотелось сказать, но я не смел открыть рот. «Выдаешь себя за заботливенького?! — вертелось у меня на языке. — Не на того нарвался! Не ты ли, голубчик, каждое утро опаздываешь на уроки?! Не ты ли целыми днями слоняешься то по свадьбам, то по поминкам?! А кто выписал целую машину шифера якобы для того, чтобы заново перекрыть школьную кровлю, но отправил весь этот шифер своему тестю?! Кто уволил преподавателя географии, чтобы принять вместо него своего родственничка?! А кто... Впрочем, что толку перечислять все это, если я не имею права раскрыть рот».
О, сколько патронов — целый патронташ! И один убойнее другого! С удовольствием выпустил бы я в своего директора, если бы не эти проклятые коронки! Подумав о том, что я мог бы сказать и не сказал, я еще больше расстроился и с досады на себя, на своего зубного техника и покраснел, как рак. А тем временем с места поднялся представитель районо.
— Товарищи!
Он откашлялся и начал говорить о выявленных недостатках в нашей работе, особенно упирая на промах завуча. Это была великолепная лекция на столь новую и актуальную для нас тему о том, что учитель должен учить, ученик обязан учиться, а руководство призвано руководить. Закончил он свою речь, вытянув руку по направлению ко мне:
— А вот глядя на этого человека, товарищи, я радуюсь...
— Калистрат?! — не сдержался, удивленный таким поворотом, директор.
— Да, уважаемого Калистрата... Простите, как ег отчество? — представитель районо повернулся к директору.
— Отчество Калистрата... — смущенно забормотал тот, мучительно пытаясь припомнить.
Бедняжка, как он мог вспомнить мое отчество, ecли всегда обращался ко мне только по имени или по фамилии. Спасаясь, он обернулся к завучу, сидевшему позади него, но завуч лишь беспомощно развел рукам: в ответ на его вопросительный взгляд.
— Ничего, — стараясь поскорее покончить с замешательством, быстро нашелся представитель районо, — он сам назовет нам свое отчество.
И он так тепло, так дружелюбно посмотрел на меня словно я мог осчастливить его, сообщив громогласно, как зовут моего отца. Я не мог обмануть его ожидания, поэтому поднялся... Но рта раскрыть так и не peшился. Только побагровел еще больше от этой неловкости, как ученик, не выучивший урока. Не дождавшись от меня ни слова, представитель районо с новым подъемом продолжал:
— Вот, посмотрите, пожалуйста! Это настоящий учитель! Выдержанный, скромный! Все здесь только тем и занимались, что оправдывали себя, снимали с себя ответственность. А он? А он все собрание сидел и краснел. Я внимательно наблюдал за ним. Ему было стыдно за вас. Он — единственный, кто чувствовал себя виноватым, хотя никакой личной вины за ним нет. Он даже счел нескромным назвать свое отчество. О чем это говорит? О простом человеческом ощущении неловкости. Вот таким и должен быть сегодняшний учитель, ощущающий свою ответственность за всех. Вот поэтому я и вношу предложение, товарищи, назначить его завучем вашей школы.
Представитель районо сделал небольшую паузу и затем спросил:
— Может быть, кто-нибудь против моего предложения? — И он оглядел присутствующих, которые от неожиданности, кажется, потеряли дар речи. Но уже в следующую минуту они все вместе как бы разрешились от бремени немоты:
— Нет, конечно!
— Да что вы!
— Разумеется, не возражаем!
— Мы согласны!
— Он вполне достоин!
— Обязательно!
И т. д.
Так, в результате единодушного мнения моих коллег я оказался, наконец, завучем школы.
Итак, слава зубопротезистам!
ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА
Не столь уж это давняя история, о которой я собираюсь рассказать вам.
Сосед наш держал трех собак: Муру, Мыну и Мишку. Простые дворняги, Мура и Мына были отчаянными псами с жесткой шерстью ярко-рыжего цвета — совсем под стать тому злому огоньку, который без устали плясал в их всегда настороженных зрачках. Стоило им заслышать малейший шорох, как они мгновенно — словно их сдувало ветром — срывались с места и, не разбирая дороги, кидались в ту сторону, наводя какой-то жуткий страх своим леденящим душу лаем. Они верно несли свою караульную службу, и ни один дикий зверь, не говоря уже о домашних животных, не мог — пока хозяева безмятежно спали долгими и темными ночами — переступить охраняемые ими пределы.
Мишка же был прямой противоположностью им: феноменально ленивый был пес. Он любил поспать и не любил утруждать себя какими-либо собачьими заботами, даже лаем. Но зато, когда хозяева его рассаживались за обеденным столом, он верноподанно ложился у порога и жадным взглядом, громко глотая слюну, провожал каждую ложку, которую они подносили ко рту, — до тех пор, пока, наконец, это не надоедало кому-нибудь из них и он не бросал Мишке кость. Мишка ловко подхватывал ее на лету, мгновенно разгрызал и заглатывал, даже не поперхнувшись проклятием, которое одновременно летело вслед этой кости.
Но больше всего любил Мишка, если по соседству играли свадьбу или справляли поминки, — тогда он смиренно трусил за хозяевами, зная наверняка, что вот тут-то и перепадет ему не один жирный кусок. И настолько ленив был он, что, даже заметив соседскую свинью, пытавшуюся пролезть в огород, снисходил только до того, что нехотя тявкал разок-другой, да и то лишь после того, как, верные своему собачьему долгу, Мур и Мына бросались на нарушителя, готовые загрызть его на месте преступления, а тот спасался бегством, зарекаясь когда-либо еще забраться в этот огород, охраняемый столь доблестными стражами.
Мура и Мына еще продолжали возмущенно лаять, а Мишка уже брел — недовольный тем, что ему-таки пришлось потрудиться, — из-под тени одного орехового дерева в тень другого, где он в изнеможении валился на спину, широко раскидывая лапы в разные стороны, затем медленно перекладывался на бок, вытягивал передние лапы и, уронив на них морду, с чувством исполненного долга закрывал глаза. И от того, что он почти все время спал — или в любую минуту готов был заснуть — белки его глаз были всегда красноватыми, а шерсть — от преимущественно горизонтального положения — грязноватой и свалявшейся с неизменно копошившимися в ней мухами, которых ему было лень отогнать, хотя для этого достаточно было просто пошевелить хвостом.
Да, пес этот вызывал всеобщее удивление — так он был не похож на Муру и Мыну, а ведь были они одного помёта. Но на этом, пожалуй, все их сходство и кончалось. Впрочем, случалось им и хлебать вместе из одного корыта, в которое хозяева обычно выливали собачыо похлебку. Но тут Мишка проявлял необычайную расторопность, опережая всех и хватая кусок, что побольше да полакомее. Мура и Мына, собаки умные и очень родственные, как правило, не протестовали — не хотели ссориться из-за похлебки — и хозяева на него не жаловались. А вообще-то собаки в округе не жаловали Мишку, справедливо полагая его товарищем ненадежным и позорящим их славный дворняжий род.
Так и шло время. Мура и Мына проводили свою жизнь в бесконечных собачьих трудах и заботах, безропотно снося и летний зной и зимнюю стужу, но не роняя чести своего собачьего рода. Мишка же целыми днями дремал или грыз что-нибудь, пока Мура и Мына находились на своем посту. Быть может, от того и оказался столь недолгим их собачий век — пришел день, когда поскучнел большой хозяйский двор, и Мишка остался один.
Жив ленивый пес и по сей день. И по сей день бдит он, как и прежде, под сенью то одного, то другого орехового дерева. Здесь навещают его юные дворняги, наслышанные о былых подвигах самоотверженных Муры и Мыны.
— Вы действительно приходитесь им братом? — робко спрашивает кто-нибудь из них, кляня себя за то, что их визит нарушил послеполуденную Мишкину дрему.
— А как же, — важно отвечает престарелый Мишка, — они действительно приходились братьями мне. Мы ведь и жили в одном дворе, этом... Э-э-эх, молодо — зелено, ну, конечно, откуда вам знать, какую жизнь нам довелось вести, сколько опасностей и лишений выпало на нашу долю и как стойко все выносили мы с Мурой и Мыной.
Мишка постепенно распалялся:
— Мы и трудились вместе, и спали рядом, и каждой костыо честно делились друг с другом... Ну, и само собой, конечно, никого чужого и близко к нашим воротам не подпускали. Да-а-а, мои юные друзья, не цените вы, в какое славное время живете: лес кругом повырубали, одни люди теперь кругом — ни тебе барсука поблизости, ни медведя, ни волка. Благодать!
Мишка уже совсем входил в роль:
— Даже паршивого шакала пугливого — и того не встретить. А в наше время... О-о-о, в наше время тут такой дремучий лес стоял, что... Что ни ночь, то два, а то и три волка испытывали на себе крепость наших зубов! Поверите ли, глаз некогда было сомкнуть, набеги целых волчьих стай приходилось отражать. И пусть не всегда выходили мы из таких сражений невредимыми, но слава... О, сладкая слава одержанных нами побед! Она зализывала наши раны, и мы снова становились в строй!
Мишка расходился вовсю:
— Пожалуй, мы и не знали, что значит отступить! Хозяева наши спали спокойно, потому что мы стояли на своем посту! И я завидую вам, мои юные друзья, потому что вы живете в другое время, вы летаете в космос, вас не удивляют там ни спутники, ни ракеты, а мы... Что видели мы? Высунув язык, бегали мы на своих четырех и в дождь, и в снег, и в грозу... А вы... Вы живете в домах со всеми удобствами, а кроме крыши над головой, есть у вас и полный стол, и мягкая подстилка. Чего же еще? Дерзайте, как Лайка, к звездам!..
Мишка быстро уставал — ведь был он стар. Лохматая морда его клонилась на бок, веки смыкались. Caмая смелая из молодых дворняг воспользовалась пayзой:
— Какая жизнь за плечами у вас, дедушка! Ах, если бы вы записали все, что только что услышали мы! Мы напечатали бы это в нашей газете...
— Ну, что ж... Можно, конечно, и записать, если это так уж нужно... Только дайте мне сначала отдохнуть — глаза слипаются... Годы берут свое, и я уже не тот, что был раньше... Эх, молодо — зелено... — и, не оглянувшись даже, побрел, медленно переставляя лапы, Мишка к другому дереву. Там он удобно улегся в тени и через минуту грудь его уже вздымалась мерно и безмятежно.
... Рассказывали мне, что Мишка действительно пишет статью, а она — в этом меня уверили также — обязательно будет опубликована. И новые подробности его героической жизни мы, без сомнения, узнаем из этой статьи.
НАШ МИЛЫЙ УБИЙЦА
Там, где я живу, этажом ниже недавно поселился новый жилец, получивший в коммунальном отделе ордер на освободившуюся в нашем доме однокомнатную квартиру. Средних лет одинокий мужчина, хмурый, с настороженным взглядом, впалые щеки, заросшие многодневной щетиной.
Он оказался каменщиком по профессии, рано утром уходил на свою стройку, возвращался уже в темноте. Ни с кем не общался, держался отчужденно и замкнуто! И вот прошел слух, что новый жилец отбывал наказание за убийство, — оттого, дескать, он такой угрюмый и ни с кем не водит кампанию. Кого он убил и за что — этого никто не знал, но что убил — это уж будьте уверены — святая правда.
В доме с ним никто не здоровался. Все его так и стали звать: «Убийца».
«Я видел сегодня на базаре «убийцу». «Покупал, сельдерюшку». «А я иду из магазина, а за мной, смотрю, он шагает, — «убийца» с авоськой. Так страшно было!..»
Под Новый год я решил устроить небольшую пирушку для всех холостяков, живущих в нашем доме. Сам я женился поздно и хорошо знаю, как скучно бывает холостякам в такие торжественные дни, как канун Нового года, когда душа человеческая особенно нуждается в тепле семейного очага.
Пригласил я на встречу Нового года и нашего «убийцу». Почему я это сделал, я и сам не знаю. Так, пришла в голову блажь и я стал долго раздумывать, а, встретив «убийцу» во дворе, взял и пригласил его к себе на встречу Нового года.
— Спасибо вам! — сказал он, смутившись. — Постараюсь придти!
Узнав об этом приглашении, мои дети удивленно зашушукали: «Наш папа пригласил убийцу!!!»
...Гости явились к одиннадцати часам, все холостяки нашего дома были налицо. Даже Тарик, наш знаменитый чемпион по борьбе «самбо», и тот почтил мою квартиру своим присутствием.
Расселись и занялись кто чем: в одном углу рассказывают по очереди анекдоты, в другом — режутся в нарды. Кто-то бренчит на пианино, кто-то попытался что-то спеть, но после второй попытки к общему удовольствию заявил, что он «не в голосе».
Тарик поминутно поглядывал на часы и громко провозглашал:
— До Нового года осталось столько-то минут!
Вдруг раздался звонок. Я отворил дверь, на пороге стоял «убийца». В новом пиджаке и чисто побритый.
— Прошу Вас, Василий Васильевич! — сказал я, как мог сердечно, — мы вас заждались! Друзья! — обратился я к своим холостякам. — Пришел Василий Васильевич, дайте ему местечко за столом и окажите полное уважение!
— Просим, просим!.. До Нового года осталось пять минут! — выкрикнул чемпион по «самбо». — Всем занять свои места!
Наконец веселая суматоха рассаживания закончилась. Грянул бой часов — Новый год вступил в свой права.
В соседней комнате по-своему его встречали наши дети. Они устроили хоровод вокруг елки, — пели и громко, радостно что-то кричали. И вот тут я поднял тост за здоровье Василия Васильевича. Я был очень красноречив, я сказал, что сосед по-абхазски — «агула», что в переводе на русский значит сердце-глаз, я говорил, что сосед всегда придет на выручку своему соседу в беде, что соседей надо любить и уважать — в общем, вот в таком нравоучительном тоне доказывал, что дважды два — это четыре!
Василий Васильевич от смущения только ерзал на стуле, повторяя:
— Спасибо... Зачем же, не надо!.. Спасибо!.. Спасибо!..
Дети за стеной запели новую веселую песенку. Тарик поднялся из-за стола и сказал:
— A теперь я предлагаю тост за детей, — они ведь сейчас тоже наши, как бы соседи.
И вдруг веселая песенка за стеной оборвалась и сменилась криками ужаса: «Горим!.. Пожар!.. На помощь!..»
Я бросился в детскую. Густой дым валил оттуда клубами. Горела нарядная елка, горели ее электроосветителыше игрушки, пламя жадно пожирало занавески, гардины. Секунда — и уже вспыхнул стенной ковер!
— Ведро! Где ведро! Давайте ведра!
— Звоните в пожарную!..
Кто бы мог подумать, что веселая встреча Нового; тода может обернуться таким ужасным несчастьем!
Я услышал крик: «Спасайте детей». Это кричал Василий Васильевич, он только что вынес из горевшей комнаты нашего младшенького. Ребенок удушливо кашлял.
— А девочка?! — страшно кричала моя жена, — где девочка? Спасите девочку!..
— Тарик, мой Тарик! — отчетливо слышал писклявый голос матери чемпиона.
— Я здесь, маа... — ответил он где-то там, в коридоре.
Приехали пожарные, но пожар удалось потушить до их приезда. Они поднялись на наш этаж и вошли в дымную темную комнату, где только что было так светло и радостно. Они волочили за собой длинную толстую резиновую змею шланга. Один из пожарников вошел в детскую.
— Тут кто-то лежит! — услышали мы все его голос, — хозяева квартиры — все целы?
— Все целы! — ответил я и пошел в детскую. На полу лежал наш «убийца» в обгоревшем пиджаке. В руках у него было зажато пальтишко нашей дочурки.
— Василий Васильевич, вы живы? — сказал я, наклонившись над ним.
— Конечно, жив! — ответил он еле слышно, — а как девочка?
Я не успел ему ничего сказать в ответ — он потерял сознание.
Вызвали скорую помощь. Василия Васильевича отвезли в больницу. Там установили, что он сильно обожжен.
Всю ночь я провел в больнице у его кровати. Утром, когда он открыл глаза, я спросил:
— Василий Васильевич, как вы себя чувствуете?..
— Дети как? — с трудом ответил он вопросом на мой вопрос.
— Все обошлось! — сказал я. — Они пришли все вас проведать, я только что выходил к ним во двор. Вот их гостинцы для вас.
Я положил на его тумбочку кулек с мандаринами, корольками.
— Передайте им мое спасибо! — сказал он и тут я впервые увидел как добрая улыбка робко озарила его хмурое лицо. Потом он снова закрыл глаза.
Через месяц Василий Васильевич вышел из больницы. На лице остался шрам от ожога, но врачи уверяют, что со временем он станет почти незаметным. В нашей семье Василий Васильевич теперь самый близкий, самый любимый человек. Но мои сорванцы за глаза eго зовут «наш милый убийца».
А что касается самого словечка «убийца», то я провел расследование и установил, что это наш чемпион по самбо, когда впервые увидел нового жильца, сказал про него: «Он очень угрюмый, как убийца».
Из «как убийца» досужие кумушки с длинными языками сделали просто «убийцу». А замкнутость и необщительность Василия Васильевича — результат неудачной семейной жизни — укрепили за ним это недоброе и глупое прозвище.
ДОЧЬ ЧЕЛОВЕКА
(Современная притча)
Жил да был один крестьянин. И была у него дочь — неописуемой красоты. И женихов к ней съезжалось свататься — видимо-невидимо, да один другого краше. Но, ослепленный блеском их великолепия, этот крестьянин все не мог никак остановить свой выбор на ком-нибудь из них. И тогда он решил поделиться своей бедой с мудрецом.
— Когда вернешься от меня домой, — дал мудрец ему совет, — запри на ночь в комнате своей дочери ослицу, собаку, индюшку и лису...
— Зачем? Что это мне даст?
— Увидишь сам, когда войдешь к ней завтра утром.
Крестьянин сделал все так, как велел мудрец.
Едва забрезжил рассвет, отец поспешил к дочери.
Войдя в ее комнату, он не поверил своим глазам: пять девушек, пять невест, которых нельзя было отличить друг от дружки, а всех вместе от его родной дочери — так они были похожи: одно лицо, одна фигура, приветливо улыбнулись ему и одновременно поздоровались с ним:
— Здравствуй, отец!
— Кто вы? — только и смог выдавить из себя ошеломленный крестьянин.
— Дочери твои, отец! Неужели нас не узнаешь?! — снова одновременно, как из одних уст, последовал ответ.
Понурив голову, вышел крестьянин из комнаты дочери. Kак же! Была одна дочь — теперь стало пять дочерей! Это хорошо. Но кто из них родная дочь — вот он почему пригорюнился.
Впрочем, не привык абхазский крестьянин огорчаться детям, даже дочерям. Пять, так пять! Тем более что слава о красоте его дочери шагнула так далеко окрест, что женихи по-прежнему обивали порог его дома. И крестьянин махнул на все рукой.
— За кого пожелаете, за того и выходите замуж, доченьки мои! — объявил он им свою волю.
И действительно, очень скоро все они выпорхнули из отцовского гнезда.
Но все это время не оставляла крестьянина мысль, кто же из этих пяти красавиц, которых он так быстро и так удачно выдал замуж, его настоящая дочь?.. И вот, когда не осталось ни одной клеточки в его сердце, которую не поразила бы тоска по чаду его единокровному, решил крестьянин отправиться в неблизкий путь, чтобы навестить родную дочь.
Шел, шел крестьянин и пришел. При виде тестя радости зятя не было границ! И не счесть было зарезанных бычков, овец, кур!.. Три дня и три ночи пировали в этом доме в честь дорогого гостя!
И перед тем, как уже покинуть этот гостеприимный кров, поинтересовался крестьянин у своего зятя: как, мол, не сожалеет он, что ввел в свой дом его дочь? хорошей ли женой стала она ему? матерью — детям? хозяйкой в его хлебосольном доме? под стать ли она ему честью, умом, нравом? доволен ли ею?..
От изумления зять только руками развел.
— Да разве может дочь такого почтенного человека, как вы, оказаться плохой женой?! Я очень доволен ею...
И тут он вдруг осекся. Тень пробежала по его лицу, и это не ускользнуло от внимания крестьянина.
— Что замолчал, сын мой? Не стряслось ли чего? Говори...
— Понимаете, отец... Конечно, она трудолюбива, самоотвержена, предана — ни днем, ни ночью, ни в зной, ни в холод не знает она покоя... Но... Но иногда словно что-то нападает на нее, и она вдруг, без всякой видимой причины как вцепится в меня... Или начнет, простите меня, отец, собачиться... Я, конечно, молчу, ведь она — женщина...
«Нет, та самая собака она и есть!» — в сердцах ругнулся про себя крестьянин.
Но вслух он ничего не сказал — лишь успокаивающе похлопал зятя по плечу, все образуется, и зашагал дальше своей дорогой.
А вела его эта дорога ко второй дочери.
Едва переступил он порог ее дома, как все бросились ему навстречу с радостными лицами. Зять пир закатил — на три дня и три ночи!.. И когда пришло время прощаться, крестьянин отозвал зятя в сторонку и поинтересовался: как, мол, не сожалеет он, что ввел в свой дом его дочь? Под стать ли она ему честью, умом, нравом?
А зять лишь брови вскинул удивленно.
— Ну мыслимое ли дело, чтобы дочь такого уважаемого человека, как вы, да плохой женой оказалась?! Я очень доволен ею, хотя она...
И зять замялся, сник. Подбодрил его крестьянин и услышал:
— Хотя, если сказать по правде, есть у нее один странный недостаток: все как будто бы хорошо, в порядке, но вдруг — ни с того ни с сего как упрется она — ну, что твой осел... И тогда ни кнутом, ни пряником с места ее не сдвинешь! До кнута, конечно, дело не доходило — женщина все-таки! — но и пряник, признаться, не помогает...
«И не поможет, — отметил про себя крестьянин, ибо она та самая ослица и есть!»
И он зашагал дальше своей дорогой.
В третьем доме все повторилось так же, как и в двух первых. И обрадовались ему все несказанно, и пир устроили на славу, и отпускать из-за стола не хотели.
Но поднялся крестьянин, попрощался со всеми и перед самым уходом справился у зятя: как, мол, не сожалеет он, что ввел в свой дом его дочь? хорошей ли женой стала она ему? под стать ли она ему честью, умом, нравом?..
— Помилуйте, — искренне недоумевая, ответив зять, — чтобы у такого человека, как вы, была плохая дочь, в жизни этому не поверю! Она прекрасная жена — и умна, и красива, могут ли быть у меня основания для недовольства?!
Но он вдруг замолчал, отвел взгляд, и крестьянин понял, что и здесь ему предстоит выслушать очередное признание, стоит лишь слегка подбодрить зятя...
— Спасибо, отец, что спросили об этом — сам я ни за что не сказал бы вам... Что меня удивляет в ней, так это частые перемены в ее настроении: все, казалось бы, нормалько, но один какой-то миг — и вот она уже скуксилась. сморщилась, съежилась, свесив голову набок, или, напротив, задрала нос, напыжилась, надулась так важно, как индюшка...
«И не мудрено, индюшка она и есть!» — утвердился в этой мысли крестьянин и зашагал дальше.
Долго ли, коротко ли, но пришел крестьянин к дочери.
Завидев его, все — от мала до велика — высыпали во двор, радостно приветствовали его, под руки завели в дом и начали подготовку к пиру в честь дорогого гостя. Усадили его за стол, не отпускали три дня и три ночи, ели, пили, палили из ружей...
Уже откланявшись, крестьянин отвел своего зятя в сторонку и, по обыкновению, поинтересовался: как, мол, не сожалеет он, что ввел в свой дом его дочь? хорошей ли женой стала она ему? матерью — детям? под стать ли она ему честью, умом, нравом? доволен ли ею?..
И здесь зять был поражен вопросом, и здесь он воздел руки к небу:
— Где это видано, чтобы дочь столь достославного человека стала плохой, никудышной женой?! Я очень доволен ею, отец, и спасибо вам за доверие: язык не повернется слова дурного о ней сказать, но...
Видимо, вспомнив о чем-то, не очень приятном, зять замолчал. А когда крестьянин подбодрил его, продолжал:
— Вы сами спросили меня, отец, и я вам скажу без утайки... Ничем бог не обделил ее, но хитрости, лукавства, пронырливости отпустил ей сверх всякой меры! Ведь если ей что надо, она кого угодно проведет, но у нее чего добиться — напрасный труд... Против ее желания и ласки у нее не выпросишь — отвернется и все, мне же в душу залезет, вывернет ее наизнанку, а своего добьется!.. Знаете, у кого хвост долог, но кто ни за что на него не сядет?..
«Ну, вот я, наконец, и лису проведал», — с облегчением подумал крестьянин.
И еще быстрее, чем прежде, зашагал он вперед. Да и то сказать — ждала его впереди встреча с настоящей дочерью, родной кровиночкой, по которой так истосковалось его отцовское, стариковское сердце. И не шел крестьянин — летел на крыльях...
И так его встретили в доме родной дочери — разве что на руках не носили! Не осталось в ближайшей округе соседа, которого не пригласили бы на пир, устроенный в его честь, да еще самого всякими дорогими подарками осыпали!
И так хорошо, так тепло ему было было в доме родной его дочери, что век бы его не покидал крестьянин, да собираться домой надо было все же: не любила eго хозяйка, когда он задерживался где дольше обычного, ну и, конечно, усадьба заждалась его рук — весна на носу, а у крестьянина день об эту пору год кормит и не простит она задержки ему.
Собрался крестьянин домой умиротворенный, но перед самым уходом решил все-таки спросить зятя: как, мол, не сожалеет он, что ввел в свой дом его дочь? хорошей ли женой стала она ему? матерью — детям? хозяйкой в его хлебосольном доме? под стать ли она eму честью, умом, нравом? доволен ли ею?..
— Прекрасную дочь воспитали вы, отец! — ни cекунды не колеблясь, горячо воскликнул в ответ зять! Да и могло ли быть иначе?! Она прекрасная жена, умная и добрая мать, а уж какая хозяйка — вы и сами видели! Однако, коль скоро спросили вы у меня, не скрою...
То ли передумал зять говорить, что собирался сказать, то ли не пожелал огорчать тестя, только вдруг перевел он разговор на погоду — и солнышко, мол, все сильней пригревает, и земля после зимней спячки просыпается...
— Ну, а дочь-то моя все-таки как? — вернул его крестьянин к тому, что больше его занимало.
— Радоваться бы мне не нарадоваться на нее, отец, да уж скажу вам откровенно... Ну как в одном человеке могут уживаться все добродетели мира с такими отвратительными чертами...
И зять замолчал, видимо, не в силах больше вымолвить ни слова.
— Какими? — поспешил ему на помощь крестьянин.
— Как ревность и жадность! — выпалил зять. И продолжал столь же горячо: — Посудите сами, дорогой отец! Как бы рано я не пришел домой, она считает, что пришел я поздно. Где был? с кем был? зачем был?.. Сколько бы я не заработал, ей все кажется мало... — И, чтобы разрядить грозившую накалиться обстановку, закончил спокойно: — Конечно, пока я терплю, все-таки — женщина...
«Конечно, женщина! — возликовал в душе крестьянин. — И конечно, моя дочь! Ведь на свою кать похожа — как две капли воды!..»
И очень довольный отправился он в обратный путь. Но доротой вдруг овладела им смутная тревога. Тревога постепенно перерастала в сомнение. Сомнение породило истинное смятение: у родной ли доченьки погостил он напоследок?! Он ведь поведение ни одной не нашел предосудительным. Все они люди как люди, и принимали его, как дочери — родного отца... И тем не менее — никуда не денешься: четверых-то «подарил» мудрец. И, надо понимать, совсем неспроста сделал он это... Недостатки? А у кого их нет?! Разве он не знает людей, упрямство которых сродни ослиному? Или, может, перевелись уже напыщенные индюки? Мало, что ли, замечал он лисьих или собачьих повадок? Так ведь нет же... Но тогда?.. Если, однако, в ком-то действительно сидит осел, а в ком-то — индюк, если в одном — лиса, в другом — собака, а в ком-то там еще — еще бог весть кто, то кто же тогда его настоящая дочь, дочь человека?..
НЕУЖЕЛИ?
Его повысили в должности. Совершенно для него неожиданно. В радостном расположении духа Он примчался к Ней и воскликнул с порога:
— Поздравь меня!
— С чем? — спросила Она.
— С новой должностью! Представь себе — захожу сегодяя к самому с заявлением, где прошу освободить меня от работы. — Ты, слава богу, знаешь о наших с ним взаимоотношениях, — и что же: Он встречает меня с улыбкой, протягивает руку и, не дав мне слова сказать, говорит: «Поздравляю вас, дорогой Базала Бадрович, с новой должностью! С сегодняшнего дня вы работаете на моем месте!»
— А куда же Его?
— Перевели еще повыше. Да что мне теперь до этого? Ну, я же им покажу, как надо работать! Всех заменю! Да, да, 80 процентов наших сотрудников — его люди, родственники, друзья, товарищи. Они же совершенно не в курсе того дела, которым якобы заняты. Всех сниму и подберу хороших специалистов. Деловые люди, светлые умы без дела гуляют, а тупицы занимают их места! Это разве справедливо? Это все равно, что на самых быстроногих скакунах возить кукурузу на мельницу, а старых и ленивых лошадей заставлять участвовать в скачках! Вся разница в том, что на скачках видно, — всем! — какой конь первым пришел, а никто ничего не видит... Нет, с завтрашнего дня начнем наводить порядок.
— И ты считаешь, что тебе это удастся?!
— Конечно! Тут главное — проявить принципиальность, инициативу и смелость! Что может меня остановить? Я же теперь начальник! Чему ты улыбаешься?
— Точно так же говорил и Сам, когда его назначили на это место. Но его мечты так и остались мечтами. Даже больше — он утверждал то, что отрицал.
— Откуда ты знаешь, что он собирался это сделать?
— Он сам говорил мне это в день своего назначения. Вот здесь, сидя в этом кресле, в котором сейчас сидишь ты.
— Что ж, тем хуже для него. А я сделаю то, что задумал. При мне во всем будет порядок. Вот увидишь!
— В таком случае начни наводить порядок с меня!
— При чем тут ты?
— Я же теперь твоя секретарша. Но я и твоя любовница. Для порядочного человека это безнравственно. Потом освободи Вику — его дочь. Ты же знаешь, как она работает — только по магазинам да по парикмахерским бегает. Потом сними мужа твоей собственной сестры — ты же сам говорил, что он взяточник, и к тому ты уже пятый год не бываешь у них в доме. Не так ли?
— Что ж, и сниму! Дело важнее родственных связей!
— Но он нужный человек в нашем учреждении. Это он организовал позавчерашний банкет, где мы принимали почетных гостей. А ты ведь тоже там был! Еще и тосты говорил — за дружбу, за честность, за мир...
— Да, но при чем тут он! Его вообще на банкете не было!
— Зато он был «там», где ему нужно было быть, чтобы этот банкет состоялся. Кстати, ты что-нибудь заплатил то, что съел и выпил на банкете?
— Нет...
— Я тоже ничего не платила. И никто не платил. А сидели за прекрасным столом, веселились, гостей принимали на высшем уровне. И все — и гости, и мы — остались довольны! И человека, который умеет все так организовать, ты хочешь убрать?!
— Вот как ты рассуждаешь! Нет, милая, подход должен быть принципиальным! Ты думаешь, что и в дальнейшем так будет продолжаться? Все это я поломаю, у меня будет по-иному, по-честному!
— По-иному? А сколько тебе сейчас лет? 54? Шесть лет всего до пенсии. Так не лучше ли, дорогой просидеть в мягком кресле, которое под тебя подставили, просидеть тихо, смирно, аккуратно, ездить на легковой служебной автомашине, восседать в президиумах, быть в почете, выполнять то, что тебе предложат, не обижать тех, кто тебя поднял на такую высоту, и помнить, что они же могут тебя спустить оттуда с такой же легкостью, как и подняли! А ты со своими капризами!..
— Это не капризы, это необходимость для нашего учреждения! Если я буду поступать честно, если ты будешь поступать честно, и третий, и четвертый, вот тогда...
— Ха-ха-ха!.. Поэт!.. Заладил свое: честно, принципиально! Мы не на собрании, дорогой. Помни одно: надо делать то, что нравится старшим по должности! Так было, так и будет! Только это — верный ключ к долголететнему сидению в мягком кресле, милый!
— Значит, по-твоему, я никаких изменений не смогу сделать?
— Можно, почему же... Скажем, вовремя посылать на пенсию пожилых. Только если они не родственники начальства. Ну... Курьера заставить вовремя приходить работу, поругать уборщицу за плохое качество работы. Вот, пожалуй, и все...
— Чему же я в таком случае радуюсь?!
— Как чему — должности!
— Нет, я не карьерист! Я радуюсь власти, которая позволит мне сделать то, что я должен, обязан сделать!
— Сперва всем кажется так, но потом...
— Нет, не думай, я не из тех!..
— Из тех, из тех, дорогой!.. И ты привыкнешь, жизнь научит, она — хороший учитель. Да и что тебе: должность — есть, машина — есть, почет — есть, так пользуйся всем этим с умом! У тебя есть начальники, жди их решений, а сам живи спокойно и весело. Вот так!.. Мой большой ребенок! — и Она обняла его нежными, теплыми руками...
Потом, лежа рядом с Ней, Он думал: «Неужели и при мне все будет по-прежнему в нашем учреждении? Неужели я буду терпеть все эти привычные безобразия и сидеть, как наш бывший, спокойно? А вдруг меня спросят: а куда же вы глядели? А ведь спросят, спросят обязательно. Такие времена пошли...»
Эта мысль была такой неотвязной, такой травожной, что уснуть ему так и не удалось...
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ...
(Миниатюра)
— Вот беда-то, вот беда... Не было печали — так черти накачали!
— А чего убиваешься так? Что стряслось-то?
— Понимаешь, дали нам новые должности, а распределить их мы не можем!
— Что за должности такие?
— Да наши, пастушеские... Новые должности пастухов.
— Кого же вы пасете?
— Коров пасем, еще — коз... Ну, и свиней, конечно.
— Сколько же вас, пастухов?
— Аккурат, трое и есть.
— Так в чем же трудности ваши?
— А в том, как выгоним утром скот... Тут наши мучения и начинаются. Понимаешь, козы норовят в лесок убежать, коровы тянутся на луг, а свиньи тащат корыту!
— Ну и что? Все верно — так уж испокон веков заведено, а привычка, сам знаешь, — вторая натура!
— Привычка, натура... А ты их собери потом! Надо, чтобы все вместе паслись, — ведь животные же, каждый на четырех ногах, а разбегаются.
— Чему тут удивляться-то?! Так уж их создала природа!
— Природа — природой, а мне — что же?! На части разрываться?
— Почему так, сказал же ты, что вас трое?
— Да, трое. Но у каждого теперь своя должность, своя функция.
— И какая же? Вот у тебя, например?
— Я — Главпастух!
— А те двое?
— Один — Главкостер, другой — Главкотел!
— Н-да... И все же, ты, товарищ Главпастух, взял бы на себя коров, например, Главкостру поручил бы коз, а Главкотел пас бы себе свиней. Понимаешь?
— Понимаю, конечно, отчего же не понять, но ведь должности у нас сейчас совсем другие, другие функции?
— Ваша главная функция, дорогой, это увеличивать поголовье коров, коз, свиней. Конечно, все это животные, все на четырех ногах, но корова — это все-таки корова! А коза — всегда остается козой! И свинья, наконец, есть свинья! У каждой из них, повторяю, свой норов, своя природа, свой образ жизни. И путать, смешивать их, нельзя! Понял?
- Понять-то понял. Но все-таки скажи, как с нoвыми должностями-то быть, а?.. Ведь жалко их, пропадут!
ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ!
Известно, что Бальзаку помогал в его творчестве черный кофе. Великий романист много его пил. Выпьет целый кофейник, сядет за письменный стол и... гениальный роман готов!
Вольтер поступал иначе: он, как передают, опускал ноги в таз с холодной водой и так, босой, по щиколотку в ледяной воде, сочинял свои бессмертные творения.
Пушкин творил гениальные стихи лежа!
Лермонтов говорил сам с собой — это его вдохновляло.
Выйдет, бывало, на «кремнистый путь», скажет с себе: «Выхожу один я на дорогу!» и, пожалуйста, рождается дивное стихотворение.
Лев Толстой для вдохновения катался верхом на своей лошадке.
Бернард Шоу, для того, чтобы написать, очередную пьесу, запирал на ключ все комнаты дома, в котором жил.
Я тоже решил стать великим писателем и, естественно, стал все делать, как они.
Попробовал пить много черного кофе, как Бальзак — довел себя почти до инфаркта.
Попробовал во время писания держать босые ноги в холодной воде, как Вольтер, сильно простудился.
Попробовал сочинять лежа, как Пушкин, но всякий раз как лягу, так и усну.
Стал сам с собой разговаривать, как Лермонтов, — тоже ничего не получилось. Да еще каждый прохожий считал своим долгом бросить мне в спину ядовитую реплику: «Вот чокнутый — сам себе доклад делает!»
Решил верхом поездить, как Толстой. Кричу: «Дайте мне моего верного коня!» А мне в ответ: «Ты же сам сдал своего верного коня в мясокомбинат!»
Пытался запереть хотя бы свою комнату в доме на ключ, как это делал Бернард Шоу — куда там! Ни одна дверь в доме ни на один ключ не запирается!
Так и не получился из меня великий писатель. А, ведь, я все их приемы перепробовал!
ЗАПИСИ В БЛОКНОТЕ
Когда Лита избрали делегатом на одно весьма представительное совещание, злые языки не удержались: «Видно, есть у него рука в центре — ведь он и двух слов толком связать не может...» На самом же деле ничьих козней тут и в помине не было. Просто работал Лит на совесть, был в коллективе на хорошем счету, и те, кто так же трудился с ним рядом, оказали ему доверие, в результате чего и попал Лит впервые в этот большой город.
Многое произвело на него впечатление здесь: и сам город, который, казалось, не стоит на месте, а все время движется, спешит куда-то вместе с людьми и транспортом; и гостиница с удобствами, в которой поселили его, хотя номера и были рассчитаны на двоих; и даже оратор, который открывал это совещание и которому он, вместе со всеми аплодировал долго и стоя; больше
того — даже подарочный блокнот с подарочной ручкой, которые им, участникам совещания, вручали при регистрации.
И все бы хорошо — да вот беда: никак не мог уяснить для себя Лит, о чем же толковали те, кто поднимался на эту высокую трибуну, стоявшую на украшенной сцене. «Наверное, — мысленно успокаивал себя Лит, — говорят они слишком по-ученому», — но из вежливости хлопал им вместе со всеми, украдкой поглядывая по сторонам. Ему нравились большие окна с чистыми стеклами, забранные волнистыми шелковыми занавесями, сквозь которые не проникала асфальтовая духота улиц, почему и было в зале прохладно, как осенью, нравился строго, но красиво и со вкусом расписанный потолок, нравились эти люди, сосредоточенно склонившиеся над подаренными им блокнотами...
И тут вдруг овладело Литом беспокойство: все что-то быстро строчили в своих блокнотах, нетерпеливо переворачивая страницы, в то время как он и не раскрывал больше своего блокнота после того, как получил его и старательно вывел на первой странице имя свое и фамилию. В нетронутой белизне листков почудился Литу немой укор, и он решительно взялся за подарочную ручку, раскрыл блокнот и... Но что писать? О чем? Как тогда, в далеком школьном детстве, заглянул Лит в блокнот соседа справа — и ничего не мог разобрать в нем, буквы ему показались незнакомыми. Заглянул он в блокнот соседа слева — и опять ничего не понял: уж больно мелкий и неразборчивый почерк у того.
Да и не в этом было в конце концов дело — прежде хотел Лит все-таки уразуметь, что же пишут все вокруг него? Если они записывают выступления, то как успевают? Если же записывают что-то другое, то что же? И Лит вновь испытал неловкость. Он попробовал взглянуть на себя со стороны — что могли подумать те, кто сидел рядом или неподалеку, видя что он ничего не записывает. «Наверное, — пришел к выводу Лит, — они думают: откуда же это его, интересно, прислали,
если он ничего не записывает, стало быть, он и не понимает ничего... Позор, — окончательно уверился в этом Лит, — позор навлекаю я тем самым не только на себя, но и на тех, кто послал меня сюда...»
И не додумав до конца мелькнувшую было мысль, Лит, как в омут, бросился в подарочный блокнот, быстро-быстро побежав авторучкой, тоже подарочной, по чистым его страницам. Так, сремя от времени Лит набрасывал несколько строк, озабоченно морща лоб и вперив свой взор в блокнот.
Я насчитал в нем десять записей:
«Три раза со дня приезда мылся я уже в их ванне, их мылом. Молодцы! Воду нагревают горячо.
Сегодня чуть не опоздал на совещание — покупал себе такую же полосатую крепкую рубаху для плантации, как у Биды.
Каких только людей не бывает! Сейчас выступает мужчина, здоровенный, как бык, но с птичьей головкой — с моего места и вовсе может показаться, что этот человек без головы!
Как только ворочусь, сразу же возьмусь за женитьбу Фаратына, а не то скиснет мое вино.
Который же это день теряю я в этих стенах? Сегодня такая чайная погода! Килограммов 70—80 я бы, пожалуй, собрал наверняка — это уж точно.
Сам небольшого росточка, хиленький такой, очень уж бледненький, а учит, как чай собирать! При галстучке, в очках... Дорогой мой, голубчик, ну, неужели ты всерьез полагаешь, что язык чая больше понятен тебе, чем мне?
Сколько же людей в этом городе?! И сколько нужно постелей, чтобы всех их уложить спать?
Ах, какая женщина сидит передо мной сегодня! Шея ее и руки — белые и гладкие, как мел, а как приятна ее едва приметная полнота. Очень скромно держится она — уже не в первый раз встречаю ее за эти дни, но ни разу нe видел, чтоб она разговаривала — все время молчит. Счастливый же человек ее муж!
На грузовой машине с нашитыми бортами везли куда-то бычков. Один из них живо напоминал мне нашу Пеструшку. Мне даже показалось, что он глянул на меня с упреком. Куда-то их повезли? Дай-то бог, чтоб попали они в хорошие руки!
Ур-р-ра-а-а! Объявили, что закрывают совещание! Значит, сегодня же — домой, а завтра утром — на плантацию!»
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
Лежит передо мной голышком младенец. Новорожденный, еще красноватый комочек.
Стучит он беспокойно своими ножонками, хватает ручонками воздух, тревожно сжимая в кулачок свои крохотные пальчики, вертит недовольно из стороны в сторону сморщенное свое личико: что он — живое существо, пока и сам того не понимает.
Неведом ему еще пока вкус хлеба. Не ступали еще ножки на Землю, что родит этот хлеб. Не тонули еще его глазки в бездонной синеве высокого Неба. Не ласкали еще его тельце теплые лучики Солнца. И что есть на нашей планете такая штука — Жизнь, пока и сам он того не знает. И что до него даровали ее многим, пока еще тоже не знает. Как не знает того, что бывает в этой жизни все — и хорошее, и плохое...
Лежит передо мной голышком младенец. Новорожденный. Живой, еще красноватый комочек.
Не произнес он пока еще первого слова: «Мама». Что есть у него человек, которого так назовет он, — и сам он того не понимает. Как не понимает того, что может принадлежать любому другому человеку, который возьмет его. И сердечко его подобно чистому листику бумаги, на котором можно написать все, что пожелаешь, а его язычок открыт любому из языков мира. Но малыш мой пока не имеет даже собственного своего имени. Даже родные братишки и сестренки его не видели пока. И пока ни в одной анкете не заполнена о нем ни одна графа...
Лежит передо мной голышком младенец. Новорожденный, еще красноватый комочек.
Я смотрю на него, в котором обращается моя кровь, и думаю. Каким он будет? И — кем? Какую изберет специальность? И какой авторитет придет к нему? Пока еще не данное ему имя полюбят ли люди? И как далеко узнают это имя? И — далеко ли? Или пределами нашего села ограничится его известность? Как много я хочу знать!
Я хочу знать, что будут носить эти крохотные сейчас ножки — туфли или солдатские сапоги? Что будут держать эти слабые ручонки — мотыгу? авторучку? автомат? Как много я хочу знать уже сейчас. Не скрою: я хочу, чтобы мой малыш жил очень долго. Но еще больше хочу я, чтобы еще дольше жили в народе имя твое и твоя человечность...
Многого же хочу я! Но все это пока не волнует его. Лежит он голышком на белоснежной постельке, сучит ножками, хватает ручонками воздух, пока не смыкаются эти длинные, тонкие реснички, — ему хочется спать. И он засыпает.
Спи, мой родной. Спи побольше. Спи подольше. Спи, чтобы скорее ступили твои ножонки на эту Землю. Что! бы скорее тебя согрело наше Солнце. Чтобы отведал ты, наконец, хлеб-соль. И чтобы сбылись наши мечты и надежды — наши, мамы и папы, мечты и надежды всех людей — мечты и надежды, которые они всегда связывают с появлением на свет каждого из таких, как ты...
ОСТАВАЛАСЬ БЫ ПОЛЯНКА ПРЕЖНЕЙ...
Около нашего дома, у опушки леса, была полянка. Весной распускались здесь красивые цветы. И полянка становилась похожей на яркий, большой, многокрасочный ковер, щедро брошенный к нашим ногам Природой. И, благодарные ей, большую часть своего времени мы, дети, проводили на этом мягком благоухающем ковре.
Босоногие, носились мы безбоязненно по этой полянке, не опасаясь ни заноз, ни колючек. Разве что потревоженная нашей беззаботностью трудолюбивая пчелка, старательно работающая на цветке, вонзит нам в пятку свое жало. Но даже укус этой великой труженицы оказывался в конечном счете целебным.
Мы любили нашу полянку. Утомившись от беготни, кидались с разбегу ничком на этот природный ковер и, распластавшись, зарывались лицом в траву, наслаждаясь запахами земли, перемешавшимися с ненавязчивым ароматом полевых цветов.
Или, закинув руки за голову, устремляли свой чуть поддернутый усталостью взгляд в глубину безоблачного неба, пытаясь уловить хотя бы одну из тех мыслеи, которые беспорядочным роем носились в наших детских головках. А над нами, заливаясь на все лады, пели разноязыкие птицы — лес наш славился густолиственными деревьями, и певчих птиц было в нем редкое множество. Они нас не боялись, а мы их любили.
И зимой эта полянка была нашим излюбленным местом для игр — снег здесь лежал особенно белый и чистый.
Но вот однажды приехал один дядя. Оглянулся и изрек: «Я хочу жить на этой полянке!»
Наши родители обрадовались: «Еще одним соседом будет больше!» А нас, детей, эта новость огорчила: «Как же мы будем без нашей полянки?».
Начал он ставить дом...
Срубил деревья, на которых жили и пели птицы.
Вспахал полянку.
Наша полянка потеряла свою красоту. Даже снег, поваливший с первыми холодами, не скрыл обезображенной Природы — лишь с еще большей силой оттенил рану полянки. Там снег стал похож на грязь.
И я сегодня с болью вспоминаю об этом. Потому что чужой дядя так и остался чужим на полянке нашего детства. Он оказался плохим соседом и нерадивым крестьянином. Зря погубил он столько красивых цветов! Зря вспугнул и лишил жилья стольких певчих птиц! Зря отобрал он любимую полянку у неугомонной, веселой ребятни! Жаль этого щедрого дара Природы! Оставалась бы наша полянка прежней!..
НЕ ВСПУГНИТЕ ЕЕ, ПРОШУ ВАС...
Летает... Летает она...
Как геликоптер, взмывает строго вверх и с одного цветка опускается на другой.
А цветы выбирает самые яркие, самые благоухающие, самые чистые, умытые ранней росой.
И нет никого, кто остановил бы ее:
— Не смей садиться на лепестки! Мои цветы!
Кто это, чем она занята и кому служит — известно всем уже не одно тысячелетие.
Нет, не хвастунишка она — плод ее праведного труда действительно слаще всего на свете.
И не зазнайка: даже повстречав своего хозяина, не дает она знать о себе, и он проходит мимо, так и ocтаваясь в полном неведении, что это была она.
Так и проходит ее жизнь — в трудах и полетах. И все, что наработает — отдает она людям.
Так кто же она?!
Чтобы приготовить сто граммов меда, эта великая труженица собирает нектар с миллиона цветков. А чтобы отыскать медоносные цветы, она способна преодолеть десятки километров.
Вы, конечно, узнали ее, нашу пчелку, абхазянку!
Да по-всему видать, что вырастил ее абхазец, — в него она пошла и своей терпеливостью, своим трудолюбием. У нее даже хоботок больше, чем у други пчел, — это, уж извините, наукой установлено. И то, что она самая миролюбивая в мире, тоже наукой признано — редко жалит. Но — жалит! Сама она не нападает, нет! Жалит, когда защищается. Но при этом погибает и сама. Такая уж судьба пчелиная. Поэтому прошу Вас, не вспугните ее! Не потревожьте! Не заставьте ее покончить с собой! Ведь это — пчела-труженица и живет она недолго!..
Так не лишайте же ее жизни!
Будьте осторожны! Не вспугните ее! Дайте исполнить ей свое предназначение, и она отблагодарит Вас, отдав Вам самое вкусное и самое целебное, что только есть на земле — Мед!
А ОН ВСЕ ЖИВ...
Спросишь его: «Как жизнь?», он обязательно ответит: «Врагу такой жизни не пожелаю». И при этом сделает вид великого мученика, будет говорить с тобой подавленным голосом. Ходит он медленно и коротким шажками, как долго лежавший в постели больной, и непременно сгорбив спину.
На твой вопрос: «Откуда идешь?», он ответит примерно так: «Был у этого проклятого участкового врача, несу какие-то жуткие лекарства. Может, хоть они принесут мне избавленье».
— Никак со стариной не можем расстаться! — скулит он, завидев арбу.
— Целыми днями только пыль поднимают! — бранится, встретив на дороге машину.
— Сгорело б все к черту! Видать и богу мы не угодны! — выходит из себя в жару.
— Надо же такому снегу навалить, это когда теперь расстает! — скрипит он, если зимой в наших краях редкий снежок выпадет и все взрослые и дети играют радостно в снежки.
Ребенок берет портфель и, хлопнув дверью, мчится в школу, боясь опоздать на урок.
— Это когда он выучится и станет мужчиной! Да и выучится ли вообще! — стонет вслед убежавшему ребенку.
— Погибнем с голоду, как собаки. Так нам и следует, ведь и живем не лучше собак! — разоряется он в неурожайный год.
Но, к примеру, год выдался богатый.
— Не к добру это, наверно, война будет. Я ведь говорил, что войны нам не миновать!
Таким он был всегда. Другим я его не помню. Вечно стонет на улице, хотя во дворе у себя, где его никто не видит, он целыми днями копошится, что-то пристраивает. Но стоит ему выйти за ворота, схватится за поясницу, словно она у него переламывается, и идет... Идет и на свадьбы, и на поминки. Он такое дело не пропустит. И обязательно заметит хозяину, что пришел уважить его даже несмотря на свое здоровье.
— Не усидел дома, зная, что у тебя сегодня такая радость, — говорит он соседу. — Да и хозяйка моя прожужжала мне все уши, дескать пойди, хотя бы покажись людям, что ты еще жив.
Затем он садится поближе к костру, где мужчины варят мясо, закроет себе лицо до самых глаз башлыком и то и дело тычет своим посохом в угли. Когда загорается конец посоха, он тычет его в землю, чтобы погасить.
Сколько я его помню, он всегда стонал, не выходил от врачей, избегал в каком-либо общем деле принимать усастие. И скольких прекрасных мужчин пережил! Даже моих ровесников, которые всегда подбадривали его: «Не бойся! Все образуется! Будь мужчиной!» Где эти сердобольные люди? А он все жив... И кто знает, сколько еще переживет?
НО МОЛЧИТ ЕГО МАТЬ...
Он ходит босой по волглой, высокой траве.
— Обуйся, нан, а то — не ровен час! — и простудиться можно! — сказала бы моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Он взобрался на макушку ольхового дерева и срывает виноград. Тонкая ветка прогибается под тяжестью его тела.
— Нан, нан, мой сыночек, слезай, не заставляй свою мать горевать! Что осталось там — пусть остается, пусть это будет долей птиц, не обеднеем, — сказала бы моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Он встает спозаранку, чуть свет, и без маковой росинки во рту отправляется на работу.
— Сынок мой, дорогой, прошу, вернись, замори червячка — еще успеешь проголодаться, без тебя мне кусок в горло не лезет, — сказала бы моя мать, если бь это был я. Но молчит его мать.
Ом пришел домой пьяный, в полночь, промокший до последней ниточки — и как был — рухнул на постель, заснув в одночасье.
— Чтобы капля воды миновала мои губы — кто напоил тебя так, мой сынок? А если — не приведи господь! — ты заболеешь? Что будет с твоей матерью?.. Дай, дорогой, дай я раздену тебя, а ты лежи, не беспокойся... Счастье мое, что дошел ты до дома, а то и упасть мог где-нибудь по дороге и лежал бы сейчас в грязи, поливаемый холодным дождем... Вот тогда бы навечно закрылись глаза твоей матери... — сказала бы моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Он пришел домой со своими друзьями. Перекусил наскоро — чем бог послал.
— Что мой сын, нан, что Вы — все для меня едино, дорогие мои! Ешьте на здоровье, не стесняйтесь, a я сейчас согрею для Вас горяченького... И почаще заходите к нам! Дружите, нан. Хорошие друзья — они как братья, как сестры... На дорогу возьмите с собой мелких орешков и чурчхелу... побалуйтесь... Прошу еще взять!.. — сказала бы моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Он закончил институт и вернулся домой. Но в доме его не было радости и свет в его окошке погас много раньше, чем у соседей..
— Мой сын приехал! С дипломом! Живой и здоровый! Прошу, дорогие соседи, зайдите к нам — посидим, порадуемся вместе, сын мой счастлив будет видеть Вас! Ведь он теперь не только мой, но и Ваш! — приглашала гостей моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Он лежит тяжело больной.
— Нан, нан, сын мой, и почему ты заболел, а не я?!
Что у тебя болит? И — где? Открой свои глаза и посмотри на меня, свет моих очей, я сделаю все, чтобы ты встал на ноги! Раньше должна с этого мира уходить мать, а сын должен жить и жить... Ведь в этом счастье матери. Так и будет, сынок мой. А ты духом не падай. Что тебе приготовить поесть? А чего бы тебе хотелось попить? — хлопотала бы около меня моя мать, если бы это был я. Но молчит его мать.
Молчит!.. Потому что... потому что давно уже умерла его МАТЬ.
ПИСЬМО В ДЕРЕВНЮ
Здравствуйте, любимая тетушка Кукуй!
Дядя Быджгур передал нам, что Вы собираетесь нас навестить. И папа, и мама, и я — все мы очень обрадовались этому. Обязательно приезжайте, тетушка Кукуй, мы все ждем Вас!
Когда мама рассказала нашему знакомому врачу о нашей болезни, он сказал, что в Вашем случае необходимо «хирургическое вмешательство». А когда мама спросила, излечима ли Ваша болезнь, он ответил, что излечима, «согласно статистике, по которой из 10 оперируемых один выживает обязательно». У 9 больных уже «зарегистрирован летальный исход», Вы же будете как раз той десятой, которая, по статистике, должна жить. Вы не бойтесь, папа говорит, что он — очень хороший хирург.
А до Вашей операции мы будем с Вами ходить на море, и неважно, не правда ли, что до него почти 5 километров — ведь автобусы ходят почти регулярно, и пока пролетят эти 20—25 остановок, незаметно пролетит и время. Поэтому непременно приезжайте, тетушка Кукуй, я буду ждать Вас, потому что мама собираемся на отдых, а папу посылают в длительную командировку в Тбилиси что-то там увязывать, и я одна остаюсь дома на целую неделю — потом я уезжаю в пионерский лагерь, в Мюссеру.
Тетушка Кукуй, дядя Быджгур еще сказал, что Вы хотите захватить с собой Кумшара. Прекрасная мысль! Обязательно возьмите его с собой. Жаль, конечно, что младшие мои братишки уже уехали — кто на дачу с детским садом, а кто в пионерский лагерь, тоже в Mюссеру, но без них ведь еще лучше для Кумшара: он один будет играть с их игрушками, и никто помешать ему не сможет, никто их не станет отнимать у него.
Да, вот еще что. Летом у нас, случается, не идет вода, но Вы по этому поводу не переживайте особенно, так как колодец есть во дворе у одного папиного приятеля — это километра за два, два с половиной от нашего дома, и вода в нем вкуснее и лучше всякой водопроводной. Есть еще в этом дворе собака, кавказская овчарка, но Вы ее не бойтесь, хотя она и покусала за последнее время троих, однако с ними ничего не случилось, все обошлось и через полгода раны зажили так, будто их никогда и не было.
Одним словом, тетушка Кукуй, приезжайте все непременно, потому что папа уже пошел за билетом на вокзал, а мама будет ждать Вас — ей должны принести путевку, я же, как Вы сами понимаете, тоже сижу сейчас дома и пишу Вам то, что мне говорят. Мама просит напомнить Вам, что у нас — не лето, а сплошное пекло, и я несколько раз на день бегаю к морю: иного спасения нет, но зато, представляете, какая это благодать — целыми днями не вылезать из воды. Райская жизнь!
Мама говорит, что в больнице тоже сплошной рай: до 10 больных в одной палате. Так веселее. Насчет Bас папа уже договорился — ему обещали уложить Вас в палату, где еще больше больных, значит, будет еще веселее. Короче говоря, уже все подготовлено к Вашем приезду и мы все с нетерпением ждем встречи с Вами. Обязательно приезжайте, тетушка Кукуй, и Кумшара не забудьте взять с собой!
А вот и папа вернулся с билетом! Значит, завтра уедет. О, и маме достали путевку! Э-э, опять в Кисловодск, а она страсть как терпеть не может всякие там санатории. Но — ничего, потерпит. И папа снова отправляется на вокзал — за билетом для мамы, может быть, они уедут вместе. Так что Вы приезжайте, тетушка Кукуй, еще целых три дня дома будет народ — это я!
Сейчас вдруг подул ветер, пошел крупный дождь, по радио синоптики даже град обещают, и мы беспокоимся, как Вы переносите непогоду: если не переждать ее, можно сильно простудиться, а при Вашем заболевании Вам это противопоказано, так как может дать нежелательные осложнения. А еще мама интересуется, как Вы относитесь к операциям вообще: любите Вы их или нет?..
На этом кончаю, дорогая тетушка Кукуй, приезжайте во что бы то ни стало и несмотря ни на что, вместе с Кумшаром, конечно, мы надеемся, что Вам у нас очень понравится.
Любящая Вас племянница,
Кунэлла Куатовна Курыкба».
ЧУЖОЙ ДОМ
Хотя опасность уже и была позади, Кула по-прежнему чувствовал себя неважно. Все еще держалась температура, сон был беспокойным, он то и дело впадал в забытье, бредил. Правая рука в гипсовой повязке безжизненно висела на металлической перекладине, протянутой между спинками кровати. Его жена третий день не отходила от него ни на шаг. Поначалу перепуганная до смерти, теперь она стала привыкать к состоянию мужа.
Ночами Куле снилось, что он в отцовском дворе, и родители его, царство им небесное, живы и в ясный летний день мирно беседуют в тени орехового дерева, и сам он резвится тут же с собачкой, а чуть поодаль телята щиплют травку... Он, и проснувшись, не мог отделаться от этих снов, домысливал их наяву. Вот мать в летней кухне разделывает курицу, тут же трется об ноги кошка-попрошайка.
— Кликни, Кула, отца, мамалыгу буду раскладывать, — велит ему мать.
— Сейчас, сейчас иду, — откликается отец, а сам кого-то усиленно зазывает у ворот на ужин.
В это время голос соседа: «Кула, сбегай на мельницу — или зерна подбрось, или останови жернова, чтоб зря не стирались!»
— Унан* (* Возглас удивления, сожаления), совсем позабыла! — всплеснула руками мать.
Кула вприпрыжку помчался через кукурузник. Ему казалось, что плотные рыжеусые початки доброжелательно кивают ему. У самой мельницы неожиданно для себя он вспугнул стаю воробьев.
— Чтоб вас стервятник унес! — крикнул он в сердцах.
Когда он вернулся с мельницы с полной миской муки, на столе дымилась мамалыга, выложенная из котла. Младшая сестренка нетерпеливо ерзала за столом, ожидая, когда все сядут и примутся за ужин. Отец мыл руки под умывальником.
— Не слишком ли крупный помол?
— Нормальный, очень даже.
— Следите, чтобы жернова не вертелись вхолостую. Мне больших трудов стоило их выщербливать, когда стерлись.
— С кем это ты там у ворот разговаривал?
— Со старшим сыном Мыка. Представляешь, закончил учебу. Инженер он теперь.
— Что? Сын Мыка — инженер?
— Вот тебе и «сын Мыка»! Ты только послушай, как и о чем он говорит! Здесь по его специальности работы не оказалось, так его в Очамчиру забрали. Наш Кула тоже должен закончить институт, только для этого надо прилежно учиться.
От последних слов отца Тыкуа рассмеялась.
— А ты что смеешься?! — огрызнулся Кула на младшую сестру. — Можно подумать, сама отличник! — последнее слово он произнес по-русски.
— Отличница, — поправила его Тыкуа.
— Помалкивай, всезнайка! — дал ей щелчок брат и сел за стол.
— Диа-а!* (* Мама, ма-ам!) — позвала она на помощь мать.
— Без этого вы не можете! Ешьте спокойно — и за уроки. Видали, как сын Мыка выучился?..
Тут Кула открыл глаза. На душе было муторно. Он легка шевельнулся и застонал от боли.
— Что-нибудь нужно?
— Воды, — простонал Кула не то от боли, не то от отчаяния.
Отпив несколько глотков, он пристально посмотрел в глаза жены: чувствовалось, что хочет что-то сказать, но не решается.
— Дать валерьянки?
— Нет...
Ада осторожно поправила ему одеяло и простыню, нежно провела рукой по его голове, сказала несколько ласковых слов. На какое-то время Кула успокоился, словно жена на душу бальзам пролила. Он, по правде говоря, не столько страдал от боли, сколько от тех неудобств, которые вынужден был терпеть. Попробуй три дня неподвижно пролежать на спине (и еще сколько — неизвестно!)! Рукой не шевельнуть — висит как чужая, загипсованная, на перекладине. И все же не потому сейчас он стонет, не об этом его печаль. Стоит не то чтобы заснуть, а слегка вздремнуть, как являются ему отец и мать. Проснется — думы о них не оставляют его. «Не иначе, как я постарел?» — спрашивал себя Кула.
Этой ночью он совершенно ясно услышал, как кто-то откровенно возмущался: «Хай* (* Возглас удивления, возмущения, отчаяния.)! Как бы там ни было... В конце концов хотя бы мать уважил!..» Кула не может разобраться, когда — во сне или наяву — услышал он эти слова. Странно, за эти дни ему ни разу не снилась их городская квартира.
Когда он приехал в город, первое время пошел на стройку, но работа оказалась не по плечу, и Кула при кладбищенском хозяйстве — в цехе, где памятники для усопших делают. Но и там пришлось таскать тяжести, почки разболелись, и снова перешел на другую работу... Много он переменил мест. В последнее время устроился вахтером в проходной на обувной фабрике. По утрам, когда рабочие и служащие приходили на фабрику, он требовал:
— Про-пуск!
И ему протягивали раскрытые книжечки.
В конце дня он требовал:
— Сум-ка!
И каждый предоставлял ему возможность заглянул в овою сумку.
Сказать по правде, Куле льстило, что все беспрекословно ему подчинялись. А некоторые, это из женщин, его даже побаивались. А придет домой — возится с виноградной лозой, которую он посадил у своего балкона на общем дворе. Лоза распустилась и обвила его балкон. Осенью она давала небольшой урожай. К собранному винограду он примешивал сахар и получалось нечто среднее между вином и виноградным напитком. Этим напитком он наполнял бутыль емкостью литров в двадцать и оставался очень доволен: дескать, если кто пожалует, есть что поставить на стол.
Последнее время беспокойным стал сон у Кулы. Каким бы он ни был усталым, как только сомкнет веки так и уносится в родное село. Кула любил, когда в осеннюю слякоть или холодной зимой жарко разгорался огонь в очаге — особенно от дубовых дров: тепло растекалось по всей апацхе. (Отец Кулы тоже признавал зимой только жар от дубовых дров)... А еще Кула любил заготавливать дрова для камина. Сначала пилили ровные, одинаковые чурбачки. Потом — ка-ак дашь топором по чурбачку!.. А он — пополам. Сердцевина золотистая, плотная. И дух от нее такой приятный!..
— Кула — наш главный истопник, — говорила часто мать.
— А как же иначе, мужчина должен уметь разжигать огонь!
Несколько раз Куле снилось, будто его отец, весь продрогший от холода, стоит подле чужого дома, но завидя Кулу, отворачивается... И до слуха доходило: «Ничего святого нет!..»
Отец Кулы был человеком отзывчивым. Он бывает несказанно счастлив, если оказывался полезным кому-либо. Когда ему случалось дать взаймы деньги или что другое, это приводило его в самое лучшее расположение духа. Он и сына учил:
— Надо, чтобы в доме была лишняя копейка. Тогда всегда можно прийти на выручку ближнему. Имея деньги, никогда не отказывай тем, кто в них нуждается.
Кула в этом смысле вышел весь в отца. Прикопил он было однажды деньжат, чтобы корову дойную завести, но пришел сосед и попросил взаймы на лечение ребенка. Как тут отказать?.. Много лет с тех пор npoшло. Деньги пошли впрок, и ребенок этот теперь уже девица на выданье. Хотя разговоров об этом ни Кула, ни его сосед никогда впредь не заводили, но на всю жизнь поселилась благодарность в сердце родителей девушки к Куле, да и ему приятно чувствовать свою причастность к ее выздоровлению...
Но с тех пор, как Кула поселился в городе, больше десяти рублей никому не одалживал. (И то только своему соседу, плотнику Петровичу). Да и сбережений у него никаких нет...
— Бара, — обратился он вдруг к жене. — Знаешь, что я надумал? Даст бог, поправлюсь, в деревню поедем.
— Куда, сказал, поедем?
— В деревню... Каждую ночь мне отец с матерью снятся.
— Поедем, как же. Свечки заготовлю. Когда покойники снятся, надо свечки ставить. Скажу брату — свезет.
— Ты меня не поняла, Ада. Поедем навсегда... Жить.
— Навсегда, говоришь? — переспросила она безучастно, поправляя чулок.
— Да, навсегда. Все возвращаются в отчие дома... Если умру, где меня похоронишь?..
— Не падай духом, ничего с тобой не случится. Если тебе очень хочется, поедем хоть сегодня. Сейчас надо думать о лечении.
Ада была женщина умная. Она прекрасно понимала, что сегодня этот вопрос они не решат. В доме ее слово было законом. Но при этом она никогда не спорила с мужем, не ругалась. Она просто умела создавать такие ситуации, что муж невольно соглашался с ней всегда и во всем. Работа у нее была скромная, незаметная, но нужная людям. Она и здесь себя нашла. Завела знакомых. И сейчас Кулу в основном посещали ее приятели.
Кула лежал с закрытыми глазами. Рад бы заснуть, да думы одолевают. А все началось с того злополучного дня, когда на фабрике появилась новая работница. В тот день с утра, как обычно, он сидел, проверял пропуска, а к вечеру, когда дневная смена столпилась у проходной, тут уж ему было не до сиденья.
— Сум-ка! — он подошел к женщине, которая не внушала ему доверия. В это время новая работница воскликнула по-абхазски:
— Унан, а у него ноги-то целехонькие!
— А кто тебе, дад* (* Обращение к младшим.), сказал, что я безногий? — спросил Кула.
— Ой, провалиться бы мне, он, оказывается, абхазец, — всплеснула руками девушка и выскочила вон.
После этого Кула решил: «Не дело мне, здоровому мужику, торчать в проходной». Для начала устроился подмастерьем, а в три дня раз и в проходной дежурил. А в результате что получилось? Едва не лишился руки...
К вечеру второго дня навестить его в больницу пришла дочка с подружками. Те смущенно жались у двери палаты, а ненаглядное чадо — рослая девица, втиснутая в школьную форму, приблизилась к нему и спросила по-русски:
— Как дела, пап?
— Ничаво, дочка.
С дочерью он вынужден был говорить по-русски. Он часто досадовал на дочь и жену (последняя при всех своих добродетелях имела слабость: предпочитала с дочерыо говорить на ломаном русском языке):
— Позор-то какой — родным языком брезговать! Чем вам, скажите пожалуйста, не пришелся абхазский?
Ада мужу не возражала, не вступала с ним в пререкания: знала, что он отходчив, не способен долго сердиться. Обычно в этих случаях она выговаривала дочке:
— Говори, слушь!.. Говори, бара...
А на следующий день снова можно было услышать:
— Что пальючильа, дочинка?
Сейчас Амила после небольшой паузы, потупив глаза, сказала:
— Пап, посмотри, какие джинсы мне принесли.
При виде фирменных брюк с яркими наклейками на задних карманах Кула молча опустил веки, чтобы не выговорить ей: «К чему тебе брюки! Ты же девушка, да к тому же полная. Брюки безобразят полных!..»
— Папе сразу плохо стало! — подмигнула Амила подружкам и снова обратилась к отцу: — Пап, может, откроешь глаза?
— Оставь отца в покое, Амила! — вмешалась Ада. — Идите домой и займитесь уроками. Сейчас не до брюк, с ними еще успеется, рассмотрим.
— Успеется, успеется, — недовольно повторила Амила и ушла с подружками.
— И что находят в этих брюках наши современные девочки? — недовольно заметил сосед Кулы по палате. В палате они только вдвоем и лежали.
— Мода, — коротко ответила ему Ада.
— И все же... — хотел было возразить ей больной, но воздержался.
В палате воцарилось молчание. Ада что-то перебирала в тумбочке — женщины всегда найдут себе дела...
С возрастом память возвращает нас в детство. Сколько приятных воспоминаний! Отец, бывало, брал собой Кулу полоть кукурузу на дальний участок в Красную Алычу. Придут на поле, сумку с едой подвесят на ветку дерева, а сами — за мотыги. Куле больше всего нравилось делить с отцом обеденную трапезу под сенью граба.
Или вот: Кула сидит на облучке арбы, через верх груженной чалой, и погоняет буйволов. А отец идет впереди арбы, курит, и то и дело оглядывается:
— Да обойду я вокруг тебя, мой маленький Кулкул, ты у меня уже и арбой управляешь!
А то — как в полдень отправлялись на речку купаться. Верхом на лошадях. Скачут наперегонки! Было как-то: лошадь оказалась с норовом, перегрызла удила и сбросила мальчонку. Но, к счастью, обошлось без ушибов.
На речке сами накупаются, лошадей намоют, напоят — и снова поскачут домой.
...Зимой по первому снегу отец раньше всех вставал. Нарубит дров, огонь разведет — и все что-то напевает. Отец, словно дитя, радовался снегу, особенно если он неожиданно за ночь выпадал. А Кула с сестренкой, еще лежа в постели, слышали, как снег хрустит под его ногами.
Дроздики, нахохлившись от холода, сидели подле груши, росшей во дворе.
— Папа, смотри: дроздики! Дроздики!
— Жалко их убивать, дад, они голодные, холодные!..
Отец зазывал кого-то с улицы:
— Пожалуйте к нам, пожалуйте!
А как только огонь хорошо возьмется, кричал:
— Эй, вы там, вставайте, огонь разгорелся!..
— Кула?
— Ди, о бара!* (* И ты, матушка!)
— Иди, нан, тебе же надо уроки делать...
* * *
Ада лежала, заложив руку под голову, укрывшись своим пледом. Куле стало жаль ее. Она брезговала больничной постелью. (Сами больные обычно не брезгуют — им не до этого).
— Почему, Кула, не спишь? — окликнул его сосед.
— Да так что-то! И сплю, и не сплю...
— И ко мне сон не идет. Как ни стараюсь уснуть, все не получается.
— А ты не задумывайся!..
— Видишь ли, моя боль такая, что о ней нельзя не думать.
— Отчего же, у тебя вроде дело к заживлению идет?
— Сын мой в армии служил — ждали со старухой, когда отслужится. А он там женился и остался. Вот и попробуй не думать!
— Это, конечно, худо. Не должен он был так поступать, — сказал Кула и, помолчав, добавил: — Но что делать, коли полюбил...I
— Оно, понятно, не без того, что полюбил. А каково нам на старости лет в одиночестве оставаться?.. Да разве же допустимо?.. Слава богу, не мальчишка. Выучился — офицер. Да и она, понимаешь, единственная дочь.
— Как погляжу, он с ней сюда приедет.
— Когда-нибудь — возможно. Только вряд ли мы дождемся.
— Да-а, тут задумаешься...
Кула чувствовал, что что-то важное, большое уходит от него безвозвратно. Было время, когда его односельчане нуждались в нем. И часто можно было слышать:
— Да умереть нам за тебя, Кула, только ты...
— Мы только на тебя и надеемся, дад Кула...
— Ты должен сделать это сегодня же!..
— От тебя зависит!..
Мысли Кулы перебил сосед:
— Никакое лекарство больному не поможет, если тоска его гложет. Надо прежде тяжесть снять с душки. Разделенное горе легче переносится.
«Все мы горемыки!» — подумал Кула в сердцах, а вслух сказал:
— Знаешь, что я надумал?
— Что?
— Вернусь в деревню. И семью заберу. Не прижился я в этом каменном городе. Зря я здесь торчу. Ни себе, ни обществу не приношу пользы.
— Умно рассуждаешь, дад, умно. Наверно, все же не совсем это так... Квартира ведь есть у тебя?
— Вроде бы есть...
— Двух, трехкомнатная?
— У меня одна, но комната большая.
— Что же они так урезали?.. Верное решение ты принял, вот только сумеешь ли его исполнить...
— Жив останусь — сделаю, как решил.
— Насчет того, что поправишься, сомненья нет. Сейчас не то, что руки сращивают, сердца пересаживают!
Ада все слышала, но сделав вид, что только проснулась, спросила:
— Почему не спишь, Кула?
Старик не то ухмыльнулся, не то кашлянул.
— Предвкушаю свое возвращение в деревню.
— Вот ты о чем. Поехать не мудрено, а жить где? Участок присмотрим? — явно сыронизировала Ада.
— За этим не станет. Сейчас всем дают землю. Не лучше ли государству, если я с его иждивения снимусь и сам себя начну кормить?
— У вас там председателем, по-моему, Заал? — вставил старик.
— Да, он самый.
— Он очень давно возглавляет колхоз. Крепкий руководитель, и в народе пользуется уважением. Да и село у вас известное. Славится трудовыми традициями. Извини меня, но ты, как я погляжу, не совсем понимал, на что себя обрекаешь, когда покидал его. Везде свои трудности, сложности. Нельзя в поисках легкой жизни покидать отчий дом. Так нигде не пристанешь и среди своих чужим останешься.
— Это ты очень правильно заметил, — сказал Кула.
— Вам с утра уколы придут делать, а вы совсем не отдохнули, постарайтесь заснуть, — посоветовала Ада.
— Мы и сами не прочь заснуть, только слишком много у нас болячек и забот, — вроде бы в шутку просипел старик.
* * *
Кула, после того, как выписался из больницы, не откладывая в долгий ящик, упросил своего знакомого (у того была собственная машина) прокатить его в родное село. Тем более, что тот ему обещал: «Ты поправляйся, а я тебя не то, что в родное село, на Луну oтвезу!» Обещать, конечно, легче, чем исполнять обещанное. Когда дошло до дела, оказалось, что и со временем, и с бензином туговато. Но, как бы то ни было, повез он Кулу в деревню.
Давненько не был Кула в родном селе! За это время столько домов понастроили, новых дорог, мостов проложили... Сады, угодья, люди... Вот и центр села. Прежде стояло одно неказистое здание сельсовета, а сейчас здесь целый комплекс: и Дворец культуры, и четырехэтажное здание средней школы, больница, магазин, пекарня, Дом быта...
Кула решил сначала побывать в отцовской усадьбе а потом уже и в сельсовет заглянуть. Но увы... дороги было не узнать: деревьев, росших прежде вдоль обочины, почти не осталось — повырубали. Петляя по склону, она делала такие неожиданные виражи, что Кула усомнился — туда ли они едут. Дома все двухэтажные! Считай, как в городе.
Наконец подъехали к речке, закованной в бетонные берега. Неслышно, словно напуганная кем-то, осторожно несла она свои воды, загрязненные мазутом.
— Будь любезен, скажи, где здесь Ауршба проживают, — обратился Кула к первому встречному. Тот, хотя и не оказался абхазцем, понял, о чем его спросили.
— Вон, на том берегу, первый дом, — ответил он на своем языке.
«Эх-ма! Выходит, я не узнал нашу речку Дзыхуа!..» — подосадовал про себя Кула. А вот и родной двор, где родился и вырос Кула. Только теперь он не такой просторный, тенистых деревьев в нем поубавилось. К ним навстречу бросился презлющий черный пес. Через двор к огороду повела цыплят потревоженная незнакомыми людьми квочка, то и дело заботливо оглядываясь назад.
С балкона акуаски глазели на нежданных гостей дети. Неподалеку от акуаски стояла когда-то посаженнная отцом яблоня, усеянная зрелыми красными плодами.
— Добро пожаловать! — направился к ним хозяин, мастеривший что-то под амбаром, но в то же время во взгляде его читалось: «Откуда он взялся?»
Кула направился в сад к могилам родителей. Но не так-то легко было продраться к заброшенному семейному кладбищу, заросшему колючками и папоротником.
Две одинаковые могилы, два креста... У Кулы сердце разрывалось от жалости к родителям и к себе. Он никогда прежде, как сейчас, не испытывал одиночества. Он плакал, но без слез, как это бывает у мужчин.. Ему казалось, что он слышит взволнованный голос матери:
— О, горе мне! Что с твоей рукой, нан?* (* Ласковое обращение пожилых женщин к младшим.)
— Ты пришел, дад!.. Мы только того и желали, чтобы ты навещал нас... Как же тебя угораздило, дад?.. — послышался Куле укоризненный голос отца.
И сам он тоже мысленно упрекал их: «И вы, родимые, покинули меня, не подумали, кто вашего единственного сына пожалеет, как умирать станет, а как умрет — кто по нем горькие слезы прольет?..»
Родительское счастье в том, чтобы не видеть несчастья детей, чтобы дети приняли как эстафету огонь, в очаге, который зажег когда-то их далекий предок. Чтобы передавали этот огонь из поколения в поколение — родители своим детям, дети своим потомкам, чтобы никогда не погас очаг в родительском доме...
К горлу Кулы подступил комок, глаза наполнились слезами. Он едва удержался от рыданий. Он понимал, что никому здесь не было дела до поздних угрызений его сыновней совести. В родительской усадьбе на него отовсюду веяло холодом.
День был не по-осеннему жаркий. Новый хозяин усадьбы родителей Кулы вынес стулья во двор и любезно предложил Куле и его товарищу отдохнуть с дороги.
— Да прожить тебе, дад, пока почтенные родители не воскреснут. Не огорчайся, жизнь такова, ничего не поделаешь, — попытался он утешить Кулу. — Как у тебя в семье, все живы-здоровы?
— Да, так себе, ничего. Как ты поживаешь? — А про себя отметил: «Вон под той яблоней у отца была коновязь».
— Тоже ничего, как говорится, по-крестьянски. Осень нынче выдалась погожая, слава богу. Урожай собрали сбез потерь.
От конька амбара свисали связки ярко-красного горького перца. Вокруг все те же деревья. И кажется ему, что они смотрят на него, с волнением, захлебнувшись от избытка нахлынувших чувств. У самой ограды ольха в черной осенней бурке из винограда. Бывало, отец во время сбора винограда крикнет с ее макушки: «Кукул, поди сюда, прими корзину!» — чирикнула какая-то птичка в кроне айвы — ее голос тоже показался ему родным, словно матушка ее взрастила. Во дворе остались в основном те же строения, только новый хозяин перекрыл крыши, перебелил, перекрасил стены, окна, двери...
— Ты, должно быть, новую квартиру уже получил?
— Пока нет...
— А что так долго? Или чего ждут от тебя?..
— Вроде не намекали... Собственно, я не спешу, живу в центре, потолки высокие...
Кула украдкой поглядывал на кухню. Ему хотелось войти туда, где отец разжигал огонь в очаге, матушка варила мамалыгу. А еще хотелось подняться в акуаску, заглянуть в детскую, в гостевую комнату, присесть у камина, в котором зимой так ярко горел дубовый жар, постоять в спальне родителей... Но он не мог решиться: а вдруг это не понравится новым хозяевам усадьбы?..
— А что с твоей рукой, Кула?
— Пустяки... — разговор у них не завязывался: словно сырые дрова в очаге — вроде бы разгорится и тут же погаснет.
Сколько раз двери этого дома открывали и закрывали руки матери и отца. Здесь, в этом доме, Кула знает каждый камешек, каждую былинку, травинку, каждый бугорочек. В родном дворе и солнце мягче, ласковее греет. И потому, наверное, вотчина у нас зовется «земля души»?..
— Виноград на той вон шелковице очень сладкий бывал, — Кула показал рукой на дерево, росшее сразу за воротами.
— Да, очень сладкий... — хозяин пристально посмотрел на гостя и добавил: — Тебе бы, Кула, не следовало усадьбу продавать. Ты был единственный у родителей. Единственные сыновья не должны порывать с деревней. Единственный побег от семейного корня...
— Ты извини меня, если бы ты надумал продать свое хозяйство, сколько бы запросил? — неожиданно спросил Кула и покраснел. Такого вопроса не ожидал и хозяин.
— Ей богу, не задумывался. Детишки мои все здесь родились. Сам знаешь, я поздновато женился. Я настолько сроднился здесь со всем, вроде бы всю жизнь здесь прожил. Земля здесь щедрая, добрая, царство небесное тем, кто первым на ней поселился.
— Как-то к нам наведывался один человек, не знаю, какой он национальности, только не абхазец, предлагал, продать нашу усадьбу, мол, хорошую сумму заплатит, — вставила жена хозяина.
— Некоторым купить дом, все равно, что курицу купить. Это тот самый, что Ламшаца дом купил. Он двадцать семь тысяч предлагал, думал, клюну. Не таков я, чтоб на бумажки соблазняться.
«Двадцать семь тысяч! — мысленно повторил Кула. — Я на старые деньги за пять тысяч продал. Если он и согласится продать усадьбу, где взять столько денег?!»
Кула рад бы здесь на лавке растянуться, отдохнуть, настолько он измотан, внутренне изнурен, но увы... Надо уходить. Этот двор для него теперь чужой.
— Пора и честь знать, — сказал он своему «шоферу», а тот и без того сидел как на иголках, все на часы поглядывал. Шоферы, известное дело, всегда спешат.
— Как это, пора?! Не перекусив? О бара, гости уходят! — кликнул хозяин жену.
— Что значит, уходят, у меня мамалыга кипит! — зяйка тотчас вышла из кухни, вытирая мокрые руки о передник.
«Гости!..» Кула, как его ни упрашивали муж и жена, не остался, сославшись, что спешит.
— Хоть по рюмочке поднимите, грешно так уходить!..
— Ему нельзя: он за рулем, а я не пью...
По дороге Кула оглядывал все окрест: «Клочка земли свободного не оставили. Болото и то высушили — ничего не скажешь, зажили люди!..»
— Отец у тебя высокий был? — неожиданно спросил Кулу шофер.
— Отец? Да, высокий был.
— А мать?
— А мать — нет.
— Значит, дочь твоя в дедушку ростом.
— Я и дочь моя ни в кого не пошли.
— Мне очень понравилось место, где вы раньше жили. Там, видимо, мандарины хорошо родятся.
Кула смолчал, ему было не до этого. А тот продолжал:
— А у нас мандарины не принимаются — низина, часты заморозки. Знаешь, какой сорт самый урожайный? Китайский! Плодов на нем бывает, как алычи в урожайный год, и собирать легко: деревья низкорослые...
Во дворе конторы, по одну сторону от ворот, выстроился ряд новых легковых машин. Оранжевые, cиние, зеленые, желтые, красные...
Вот навстречу идет женщина — в одной руке каравай хлеба, в другой — газеты. На лавке под деревом сидят, весело переговариваясь, парни, одетые по последнему слову моды. Кула, конечно же, был неприятно удивлен, что и он, и машина, на которой он въехал во двор, остались для них незамеченными. Они продолжали увлеченно разговаривать, каждый стараясь доказать свое.
— Доброго дня вам, — обратился он к парням.
— Добро и тебе...
— Заал у себя?
— Как знать?..
— Он на ферме был, не знаю, вернулся или нет.
— У себя он, у себя, вернулся, — сказал мужчина, который с какими-то бумагами спускался по лестнице.
Кула, с трудом пересилив себя, поднялся в контору.
В просторной приемной миловидная девушка быстро стучала на машинке, тут же у нее под руками стояли на полированном столе несколько телефонных аппаратов.
— Мшыбзия* (* Здравствуй.), дад, — обратился Кула к девушке.
Та, слегка привстав, ответила на приветствие и продолжала печатать.
— Мы к Заалу Дмитриевичу. У себя он?
— У себя, он сейчас по телефону разговаривает, вы посидите немного, — сказала девушка, указывая на стул.
Куле ничего не оставалось, как подчиниться: сел и стал разглядывать приемную. По стенам развешены написанные маслом картины, мягкие стулья для посетителей стоят. В те времена, когда Кула жил в селе, кабинет председателя был вдвое меньше этой приемной.
— А как он, здоров?
— Вы о ком? О Заале Дырмитовиче? Здоров, не жалуется, — сказала она, не отрываясь от машинки.
Вскоре один из телефонных аппаратов беззвучно подмигнул секретарше. Девушка тут же встала и исчезла за обитой дверью предсельсовета.
«Совсем как у больших начальников!» — не переставал удивляться Кула.
— Входите, — сказала девушка, вновь появившись в приемной.
Кула одернул блузу, затянул ремень, поправил ворот и шагнул за дверь. Он оказался в просторной светлой комнате. В конце длинного полированного стола сидел Заал — лысеющий пожилой мужчина со следами нелегко прожитой жизни на лице. Председатель продолжал разговаривать с кем-то по телефону. Не отрывая трубки от уха, он привстал и, не глядя на Кулу, предложил ему сесть.
— Этот вопрос нельзя решать с точки зрения сегодняшнего дня. Нужен исторический подход, уважаемый. Да, да! — отвечал кому-то Заал Дмитриевич, улыбаясь в трубку.
Куле от этих слов стало не по себе, он даже заерзал на месте.
— Хорошо, подумаем, — пообещал кому-то Заал и, положив трубку на рычаг, повернулся к Куле.
Сразу председатель его не признал: глядел на него, не веря своим глазам. Но в следующее мгновение воскликнул:
— Хох, добро пожаловать! Каким ветром занесло тебя?
В этом «хох» было нечто большее, чем удивление или радость.
— Как вы живы-здоровы, Заал Дмитриевич?
— Отца моего Дырмитом звали... Мы так себе, ничего... Ты лучше скажи, как сам поживаешь?
— Мы тоже ничего себе живем.
— Ничего себе, ничего!.. Слышали, руку-то тебе едва не оторвало. Как она сейчас?
— Страхи уже позади. Заживает. — Кула в подтверждение даже шевельнул кончиками пальцев загипсованной и подвешенной к груди руки.
— Как это случилось, что горожанин вспомнил о нас и приехал?
— Вот видишь, приехал. Во-первых, повидать вас, а, во-вторых, попросить кое о чем. — Как ни старался Кула сказать это непринужденно, но все же покраснел.
— Просить приехал, говоришь? Выкладывай. Если что нам под силу...
— Конечно, под силу... Я с надеждой приехал.
— Чего ты заладил «вы»? Как видишь, я здесь один. Говори без обиняков, что тебе нужно.
— Что мне нужно?.. — Кула запнулся. — В деревню хочу вернуться, Заал Дырмитович. К городу не приспособлен, не вышло у меня. Душа моя здесь осталась... там — только тело мое. Дали бы мне клочок земли, я бы вернулся.
— А-а, вот в чем дело! — председатель словно выпрямился.— Как фамилия твоя?
— Моя?! Я же Кула, Заал Дырмитович!
— Да, Кула! Чем ты занимался у нас?
— Кузнечным делом. Лемеха, лопаты, мотыги... Эх, время-то какое было после войны!..
— Нет, не за того ты себя выдаешь. Наш кузнец теперь горожанином стал! Пятикомнатную квартиру в высотном доме получил. Чешский проект! Машиной обзавелся. Он теперь в конторе служит — чиновник! Назад в деревню напрашиваться не станет! Какая ему охота в земле копаться? Это мы, темнота, здесь застряли! — Заал Дырмит-ипа глубоко затянулся и после короткой паузы уже без иронии продолжал: — Не хотел я его в город тогда отпускать. Оно и понятно: один кузнец на все село. На всю деревню инвентарь ковал. Умолял: дескать, планы срываются. Еще год-два, а там — пересилим трудности... Родителей его просил, чтоб не отпускали. Те и сами были бы рады, чтобы oн их не покидал, да не тут-то было! Сам я тогда только с войны вернулся, рана на ноге еще не зажила — с палкой ходил и на лошадь сесть не мог... Трижды проковылял к нему домой. Уважаемых людей подключил. А я — ни в какую! Плюнул на наши лемеха, мотыги, на наши беды —и в город драпанул. С той поры я дважды с ним виделся. Но чтоб надумал вернуться в село, не думаю.
— Ты насмехаешься надо мной, Заал?
— Ни в коем случае! — Заал стряхнул пепел от папиросы на край пепельницы. — Над человеком не человек смеется, а время. Ты помнишь, что сказал мне, когда я в последний раз пришел к тебе домой?
— Помню...
— Повтори!
— Ни к чему это повторять, и я, и ты прекрасно помним...
— Говорил я тебе: «Куда бы ты ни уехал, все равно сюда вернешься!» Говорил?
— Говорил...
— А память у тебя, оказывается, что надо!..
В это время раздался телефонный звонок. Заал снял трубку, но тут же бросил ее на рычаг.
— Не ожидал от тебя такой встречи, Заал. Мне-то поделом. Но ты человек мудрый...
— Не ожидал, говоришь? Не те времена, голубчик, чтобы церемонии разводить. В глаза одно, а за глаза — дрyroe у нас не принято. Твои бывшие односельчане привыкли правду-матку в глаза резать.
— Слышал про ваши новые порядки...
— Слышал — уже хорошо. Что дальше?
— А дальше то... Если не воспротивитесь, вернусь. Последнее время... Эх, что говорить... Не прижился я там. Что ни ночь — сны...
— Допустим, вернешься. Где жить будешь? Или дом свой надумал выкупить?
— Где у меня такие возможности, чтоб его выкупить!..
— Видишь, как все повернулось. Совершить ошибку в жизни много ума не надо, а поправить ее бывает что невозможно. Это, брат, не орфографические ошибки в диктанте!
— Теперь-то я понял, да...
— Ты в армии служил? — перебил Кулу Заал.
— Служил.
— Допустим, твой взвод принял неравный бой. Ты же спокойно выждал в какой-то воронке исход боя и, когда опасность миновала, с криками «ура-а!» выскочил из своей норы. Как бы в этом случае с тобой обошлись товарищи по оружию? Изменник не только тот, кто перешел на сторону врага!
Кула, не вытерпев, встал.
— Я пришел не потому, что в городе не могу прокормиться...
— Сиди! — прикрикнул на него Заал как на мальчишку. — Нечего было приезжать, если ты думал, что так сходу здесь тебя с распростертыми объятиями и примут. Ты решил вернуться на все готовенькое. В гoроде ты не живешь, а существуешь. Так-то. Город лентяев не кормит. Бетон надо месить, сталь варить... Твоего образования, нет, моего недостаточно, чтоб там прожить. Времена другие! А сейчас ты решил: «Вернусь в родное село. Выйду поутру на плантацию с корзиной, глядишь, к завтраку насобираю ее полную денег. Деньги, мол, здесь на каждом дереве растут. Тряхнешь ветку — посыплются, успевай собирать. А то и рукой можно дотянуться». Вспомни, когда ты уходил, мужских рук не хватало. Некого было на облучок арбы посадить. Одни инвалиды — безрукие, безногие, старики да дети. Уходили в город — не задумывались, а сейчас знать не желаете, чего стоило поднять хозяйство в колхозе. Сердитесь, когда вас попрекают. Видите ли, им неприятно слушать об этом. Разбежались в свое время кто в Ткварчели, кто в Сухуми... Теперь им землицу подавай. Ностальгия... Село родное по ночам снится, тоска съедает... Вышел закон — верно! Но как насчет голоса cовести, а Человеку нельзя жить только по кодексам, дад.
— Я же не в Америку уехал, Заал, и не бездельничал... В городе тоже были нужны люди...
— Тех, в ком город нуждается, я сам туда направляю. Не о них речь. Я о тех, кто в город бежит от нашей сельской жизни. Я ведь тоже бывший майор. Я имел полное право, как и мои товарищи по воинском званию, осесть в городе, по праздникам при всех регалиях с внучатами за руку прогуливаться. Поначалу меня никто за это не благодарил... Но человек долже жить там, где он нужен. Нет такой инструкции, в которой бы указывалось, где кому жить. Но зато ecть совесть, ум и честь — то, что у нас называется одним словом: «аламыс»! Испытание совестью — это самое большое испытание. Ты не выдержал это испытание жизни... — Заала вновь перебил телефон. — Слушаю. Да ну, не может быть! Хай, лучше бы мне умереть! Понял, понял. Вечером буду.
Заал положил трубку и некоторое время подавленно молчал.
— Кто умер, Заал? — пересилив себя, с трудом спросил Кула.
— Швамахь скончался, скоропостижно!
— Неужели! — воскликнул Кула больше из-за приличия. По правде говоря, он позабыл о его существовании. Только сейчас вспомнил, что тот вернулся с войны без одной руки, а на груди орден Красной Звезды красовался... На собраниях часто выступал. Призывал не покидать село. «Ничего, что колхоз должник. Поднатужимся — выплатим долги, на ноги встанем!» Погодя, Кула спросил все же: — А отчего бедняга умер?
— Вам кажется, что мы всегда будем с вами... Мы будем умирать, а вы — приезжать на красноверхих такси, чтобы проводить нас в последний путь, и тут же обратно в город, а вечером еще и поспешите в кино! — И опять телефон прервал Заала. Сказав в трубку несколько слов, он протер запотевшие очки и снова обернулся к Куле:
— Напиши заявление и оставь девушке-секретарше в приемной. На общем собрании рассмотрим. Между прочим, — добавил Заал, — эта девушка — внучка твоего дяди по отцу. Уходя представься ей.
Кула заерзал на стуле. А председатель сельсовета, давая ему встать, спросил:
— Ты женат?
— Да, семейный.
— И дети есть?
— Одна дочь.
— Это по городским правилам. По-абхазски знает?
— Да, говорит... — Язык с трудом повиновался Кулe.
— В общем, как решит собрание... А что ты нужного умеешь, кроме кузнечного дела?.. Теперь кузница нам ни к чему...
— Каменотес я.
— Какой из тебя каменотес, с одной рукой?..
— Я к тому же член партии...
— Ты —член партии?! Жаль, меня не спросили, когда принимали. Рука тебя здорово беспокоит?
— Теперь уже не так, заживает.
— Одним словом, решит собрание. А все-таки, если собрание решит в твою пользу, где тебя поселить?!
— Желательно в Тутовой Роще — это неподалеку от нашей усадьбы.
— Газеты надо читать, Кула. Там чайную фабрику построили.
— Виноват, не знал. Тогда, может, в Ачапара?
— Там завершается строительство птицекомбината.
— Ну да уж ладно, где придется.
— Помнишь старую балку? Сейчас там клочка земли свободного не найдешь. Когда ты и тебе подобные уехали, оставшиеся не зевали: распахали эти плодородные земли... В общем, оставь заявление девушке, заодно познакомитесь — племянница она тебе. Заал стал закрывать ящики стола на ключ, давая тем самым понять посетителю, что пора и честь знать.
— Мы, конечно, виноваты, слов нет, но...
— Вот видишь, как все оборачивается?! Если служащий допустит серьезное нарушение, его можно без работы оставить. Крестьянина работы не лишишь! 3емля — дело такое! Все с земли начинается. Сам знаешь, у тебя ведь в жилах крестьянская кровь течет!..
— Да, конечно... «Можно подумать, других сел нет, кроме нашего, все сюда ринулись!» — возмущался про себя Кула, но вслух поблагодарил Заала, попрощался и вышел в приемную сам не свой.
Секретарша преспокойно сидела и читала какую-то книгу. Кула протянул ей свое заявление.
— Мне сказали, дад, это заявление нужно оставить у тебя.
— Пожалуйста, — сказала она, привстав.
— Как тебя зовут, дад? — спросил Кула.
— Асида.
— А меня ты не знаешь?
— Нет, — ответила девушка, пристально посмотрев на него, и бегло прочла имя и фамилию на заявлении. Лицо ее как-то сразу посветлело, взгляд оживился, встала и предложила ему сесть.
— Видишь, дад, какие времена пошли, с племянниками в конторе знакомимся. Никто в этом, собственно, не виноват, кроме нас, ваших отцов. Я двоюродный брат твоего отца, Кула, детка. Может, слышала? Да нет, где тебе меня знать...
- У нас дома есть ваш портрет, только там вы молодой.
- Помнится, когда наш отец умер, какой-то фотограф нас снимал.
- Верно. Вы на портрете в трауре, а на обороте написано: «Дауа».
- Смотри, как она все помнит! Царство небесное дедушке моему, он меня называл Дауа, — обрадовался Кула.
В это время зазвонил телефон. Асида прервала беседу. Кому-то она отвечала в трубку:
- Пенсию можно было еще вчера получить. Зарплату будут выдавать завтра к вечеру. Не за что.
«Здесь все как в городе стало... При мне, помнится, правление колхоза — председатель, комиссар и счетовод-кассир — размещались в одноэтажном домике».
- Асида, сколько человек нынче в правлении колхоза?
- Это как понять, сколько служащих в колхозе?
- Да, помимо колхозников.
- Восемьдесят четыре человека.
- Вот это да! — удивился Кула. — У тебя какое образование, дад?
- Я заочно учусь, на втором курсе...
- А братья твои чем занимаются?
- Старший — завгар. Младший — служит в армии.
- Счастливого ему возвращения. Где он служит?
- Под Москвой.
- У тебя дедушкины глаза, живи, пока он не возвернется, дад, — сказал Кула, пристально глядя на девушку.
В это время в приемную из своего кабинета вышел Заал.
- Ну, познакомился с племянницей? Хорошая девушка. И работает, и учится. И в город не собирается ехать. — Председатель по-отечески ласково погладил девушку по голове. — Слышала, Швамахь умер? Я туда, - сказал он и пошел усталой походкой.
Асида, пока за председателем не закрылась дверь, не села.
- И мне уже пора идти, дад, — сказал, вставая, Кула.
— Оставались бы сегодня.
— Я бы с удовольствием, дад, но у меня неотложное дело, да и товарищ мой спешит. Дома привет всем от меня передай. Бадра, дай бог ему всего хорошего, я слышу, часто бывает в городе, зашел бы... Не век же нам жить...
Асида проводила его по лестнице до самого низа. В добрых и умных глазах ее светилась жалость к заблудшему двоюродному брату отца. Кула глядел на двухэтажное здание Дома быта, выстроенное из стекла и пластика, но у него не хватило духу сказать, что на этом самом месте стояла раньше кузня, где он трудился в поте лица. Он повернулся к Асиде и с ласковой грустью произнес:
— Оставайся, дад, оставайся...
...«Жигуленок» легко катился по асфальтированной улице. Кула всю обратную дорогу сосредоточенно молчал, как ни старался разговорить его словоохотливый спутник. Село жило вечерними заботами. Загоняли скотину, вернувшуюся с пастбищ. У ворот отдельных усадеб, мирно жуя жвачку, стояли сытые коровы. Хозяйки, а где и хозяин, с подойниками спешили подоить своих коров. Хлопали крыльями куры, устраиваясь на ночь на ветках деревьев... Кое-где ребятишки, забравшись на перелаз, глазели на дорогу.
Смеркалось, когда Кула вернулся домой. Петр с кем-то громко переговаривался на лавке возле дома. Завидя Кулу, вылезавшего из машины, он воскликнул:
— Борисович, ты никак машину купил! (В городе Кула из Беуговича превратился в Борисовича.)
Кула, ничего не ответив плотнику, прошел к себе в квартиру.
Заметив, что муж не в духе, Ада только после ужина осторожно справилась у него, как мол, рука, не болит? Она положила на диван в гостиной мягкую подушку, включила телевизор. Кула растянулся, по обыкновению, и уставился на экран. Но глаза не видели и не слышали ничего из того, что там происходило. Он испытывал такое ощущение, словно побывал на другой планете: все еще находился под впечатлением увиденного и услышанного на селе, под впечатлением происшедших там перемен.
«... Допустим, мне предложат выкупить нашу усадьбу, а выкулать-то нечем! Да и способен ли я вести хозяйство, если даже мне выделят участок?.. Ни денег накопил, ни машины, ни инвентаря... Ничего за душой нет».
Его невеселые размышления перебил голос соседки:
— Все болеет Кула?
— Теперь уже почти здоров, да только слаб еще.
— Хорошо отделался, мог бы без руки остаться.
— Еще бы чуть, и случилась бы непоправимая беда, с тех пор никак в себя не приду. И он человек мягкий, безвольный. Такой стал раздражительный, слова не скажи. А сейчас еще затосковал по деревне. Просто сил моих нет.
— По деревне, говоришь?
— Совсем стал как малое дитя. Среди ночи просыпается — то мать ему приснится, то отец...
— Точно, как мой! С возрастом человека начинает тянуть в родные места...
— А куда тянуться-то? Усадьба-то продана. А так взять участок и построиться — денег нет. Не то, чтобы дом построить, едва на еду да на одежку хватает... А его тоже понять надо!
— Где ты слышала, чтоб кто-то дом с зарплаты построил?
— Хорошо бы, конечно, в деревне хозяйство подсобное иметь. А там, гляди, курочек разведешь, фасоль посеешь... В общем-то всех нас деревня взрастила. Давно ли от земли ушли? Было бы, где на землю ступить, свежим воздухом подышать. Так хочется иногда босиком по траве пройтись, но увы!..
— А моему старший брат отрезал участок. Вдвоем они там ему соорудили времянку. Ездит всякий раз, как свободное время выпадает. Мы поначалу усмехались над ним: тоже, мол, дачник, саженцы везет. А сейчас там такой сад разросся, огород сажает.
— А у моего родных братьев нет. Помочь некому.
В это время раздался голос дочери Кулы:
— Мам, папа телевизор смотрит во сне!
— Тише ты. Разбудишь...
Кула лежал, свернувшись калачиком. Ада укрыла мужа легким покрывалом. Он притворился спящим. Лицо да и вся его поза выражали: «Несчастный я человек. И не от кого мне, горемычному, ждать помощи».
Исцелить его душу сейчас могло только участие. На большее он и не мог рассчитывать...
Спасительным якорем для него была жена, и мысленно говорил ей: «Ты — моя единственная опора, только ты способна заменить мне отца и мать».
Телевизор по-прежнему был включен. Постепенно сон одолел Кулу. И видел он себя в отцовском дворе: навстречу ему, благодушно виляя хвостом, бежал верный пес, а из распахнутых дверей апацхи пахнуло жаром дубовых дров — «маленького солнца», как говаривал отец...
===================
(Печатается по изданию: Ш. Чкадуа. Чужой дом. Повести и рассказы. Сухуми, "Алашара", 1986. С. 3-102).
(Сканирование, вычитка - Абхазская интернет-библиотека.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
