
(Источник фото: http://bookmix.ru)
Об авторе
Федин Константин Александрович
(1892—1977)
Русский советский писатель, общественный деятель. Первая поездка К. Федина в Абхазию состоялась в 1924 г. Впечатления от этой поездки легли в основу двух рассказов «Бочки» (1925) и «Суук-су» (1926). Второй раз Федин приехал в Абхазию через 11 лет — в 1935 г. За прошедшие годы новое заметно вошло в жизнь абхазских людей. Встреча Федина с абхазским колхозником, человеком новой психологии, получила отражение в рассказе «Член делегации», который впервые был опубликован в журнале «30 дней», № 12, М., 1939. Позже все три рассказа были объединены в цикл «Абхазские рассказы». Эти рассказы переведены на немецкий, чешский, румынский языки. Письма К. Федина М. Горькому печатаются по изданию: Конст. Федин. Горький среди нас. Советский писатель, М., 1968.
(Источник: Абхазия в русской литературе. Сух., 1982. С. 366.) |
|
|
|
|
Константин Федин
Абхазские рассказы. Письма
БОЧКИ
С одной стороны — море, с другой — снежные горы. Между морем и горами — равнинная береговая полоса. На ней — горстка низеньких строений. Это — город.
Посредине города — базар. Больше всего лавок с чувяками и сандалиями, как будто этот маленький базар решил обуть весь Кавказ, потом — с башлыками, потом — с вином. Базар не движется. Он стоит, как декорации, приготовленные к представлению. Представление не начиналось, да оно и не начнется.
Чувяки и башлыки неподвижно висят на палках. Бурки вздернуты под крыши лавок и, растопырив плечи, шлют благодатную тень на купцов, сторожащих свои деревянные магазины. Только кучи винограда, наваленные на лотки, ползут на месте: это охмелевшие осы залепили лотки и кишмя кишат в винограде.
У Хасая есть тоже лавка, и он открывает ее каждый день. Но Хасай еще не решил, чем начать торговать, сидит перед пустой лавкой и думает.
Кроме лавки, у Хасая есть дом и вокруг дома — сад. В саду растет виноград, вьется по мушмуле, по инжировым деревьям, по изгородям, по крыше, по чале, не убранной с прошлого года.
Возни с этим виноградом не оберешься, а нынешний год его просто некуда девать. В городе не осталось ни одной пустой посудины, о бочках и говорить нечего.
Хасай нанял абхаза, у которого нет своего сада, собирать виноград.
Условие было простое: половина сбора — Хасаю, половина — абхазу. Тот собрал, что можно было достать с табуретки. Запас вволю вина, насушил, потом бросил.
— А как же наверху? — спросил Хасай.
— Мне больше не надо, — сказал абхаз. — Хочешь, пришлю мальчишек, пусть себе сломят голову.
Но мальчишки не пришли: им было скучно лазить по крыше и деревьям, когда винограду было сколько хочешь на изгородях. А виноград, который нельзя было достать с земли без лестницы, ели осы и птицы, вялил ветер и сжигало солнце. Черт его знает кому еще нужен виноград?
Хасай все еще сидел перед своей пустой лавкой и все думал, что ему начать. Но вот он решился.
Он встал, подошел к осколку зеркальца, зажатому гвоздиками на двери, и внимательно занялся башлыком на своей бритой голове. Когда головной убор сделался похожим на развороченное птичье гнездо, Хасай поставил усики торчком и вышел. Прикрыв за собой дверь, он наколол на нее записочку:
«Ажiдай голюбчик немножка».
Улица была неширока, но Хасай переходил ее долго. Посредине он остановился, взглянул на небо, послушал, как вдалеке сопит море, зевнул и потянулся. Но, погодя, Хасай снова поправил башлык и усы. Видно было, что решение его твердо.
Действительно, он зашагал дальше, величественно потряхивая оборванной штаниной и по очереди выставляя вперед плечи. Через пять минут он перешел улицу.
В куче ползущего винограда дремала голова перса Ибрагима Хаджи Али-оглы.
— Хороший день, Ибрагим, — сказал Хасай, дотронувшись двумя пальцами до плеча перса.
Осы попробовали сняться с винограда и пересесть на протянутую руку Хасая, но тут же попадали назад и закарабкались, липкие и пьяные, как виноградины.
— Ого, — ответил Ибрагим, улыбаясь и расклеивая глаза, — славный денек.
— Я решил, — сказал Хасай.
— Ого, — отозвался перс и достал с прилавка табак. — Покури.
Они, не торопясь, свернули папироски, раздавили в пальцах по виноградине, склеили соком бумагу и закурили. На половине папиросы Хасай показал на виноград:
— Нынче много.
— Ого, — согласился перс, — копейка три фунта, никто не берет.
— Бочек нет, — помолчав, проговорил Хасай.
— У-у-у! — замотал Ибрагим головой.
Потом они долго молчали, докуривая папиросу.
— Я учился у бочара в Сухум-Кале, — начал опять Хасай, втоптав окурок в жеваную виноградную кожицу на земле.
Тогда Ибрагим Хаджи Али-оглы показал все зубы, поднялся, положил ладонь на грудь Хасаю и громко прокричал:
— Я отгадал, что решил Хасай! Угощай! Ого!
Тогда и Хасай показал все зубы, хлопнул Ибрагима по груди и закричал:
— Не отгадал!
— Отгадал!
— Не отгадал!
Так они стояли, с силой хлопая друг друга и крича. Вспотев, они затихли.
— Говори, — предложил Хасай.
Ибрагим прищурился на один глаз и шепнул:
— Хасай будет строить бочки? Угощай!
Хасай мрачно поглядел на Ибрагима, точно хотел его ударить, и скривил рот.
— Пойдем...
Из духана они вышли навеселе и потому двигались довольно быстро. Прощаясь, Хасай сказал персу на ухо:
— Я начну бочку, пожалуй, завтра поутру...
Он добрался до своей лавки. Его никто не ожидал. Он спокойно снял с гвоздика записку, спрятал ее и ушел домой.
С этого дня Хасай приступил к постройке двухсотведерной винной бочки.
Легко сказать — к постройке. На деле это не так просто.
Начать с того, что Хасай давным-давно растерял свои бондарные инструменты. Фуганок он нашел только на другой день, к вечеру, в курятнике. Этим инструментом, вместе с другим хламом, жена Хасая заткнула ямку, вырытую под курятником шакалом, забежавшим полакомиться курочкой. Горбатиком давно запирали калитку вместо скобки, он заржавел, и у него не было ручек.
Два дня Хасай счищал с инструментов ржавчину и прилаживал к ним ручки и колодки. После такого труда Хасай денек отдохнул.
«Эх, вот будет бочка, — думал он, жмурясь на солнце, — вот это бочка!»
Потом Хасай ездил в Сухум-Кале, к бочару, за дубовыми досками.
Ездил он на буйволах, в арбе. Когда по пути попадалась речка или болотце, буйволы сломя голову летели в воду, погружались в нее и часами отдыхали, задрав морды. Хасай, сидя в арбе, смотрел, как дико и печально блуждают шоколадные глаза буйволов, и ему чудилось, что в них отражается громадная круглобокая бочка.
— Вот это будет бочка! — мечтал он.
На пятый день Хасай вернулся с досками и, отдохнув денек, принялся стругать. Его лавчонка наполнялась понемногу стружкой, выраставшей пахучими горами вокруг его ног.
Много раз за день он выходил за дверь, садился на порожек, расставлял ноги буквою Л, и его клонило вздремнуть.
Но тут всякий раз пробегал босой мальчишка и, задыхаясь от жары, вопил на весь базар:
— Фринго! Горячий фринго!
И Хасай думал: «Много ли заработает этот голопятый печеными яблоками? Вот я сделаю бочку, за нее, туда-сюда, сразу возьму пять червонцев...»
Он ставил торчком свои усы и брался за фуганок.
Как-никак дело подвигалось. Через неделю клепка была готова, можно было собирать бочку. Но время шло своим чередом, и Хасай думал: «Недаром я учился в Сухум-Кале, такая бочка, туда-сюда, десять червонцев потянет, одной работы сколько...»
Но коли много работы — не грех и отдохнуть. Хасай прикрывал дверь и накалывал на гвоздик записочку:
«Ажiдай голюбчик немножка».
Так он попал однажды на берег моря. К рейду подходил пароход, громыхая якорною цепью, дымил. Греки-фелюжники, засучив выше колен штаны и выше локтей рукава, скатывали по гальке в море фелюгу. Другая, припрыгивая на волнах, уже подплывала к пароходу.
Хасай лег на гальку и подставил под бороду кулак. «Вот, — думал он, — сколько на свете всякой хлопотни: пришел пароход, поехали к нему фелюги, людей еще каких-нибудь привезут, товары; вот я тоже делаю бочку...»
Пароход незаметно повернулся к берегу бортом и застыл. Первая фелюга обогнула его, скрылась за ним. Вторая подошла к трапу, опущенному с борта, и начала принимать пассажиров и почту.
Вскоре она опять запрыгала по волнам, назад к берегу, а первая все еще не показывалась из-за парохода.
«Наверное, много грузу», — решил Хасай и стал вглядываться в черную точку, которая вдруг будто оторвалась от пароходной кормы и поплыла в море. Потом ее подкинула волна, и точка стала пятном.
Что бы это означало?
Может быть, буй, которого прежде не замечал Хасай? Но если буй, то почему он поплыл? Нет, наверное, что-нибудь упустили с парохода. А вдруг...
Хасай вскочил так, что галька прыснула из-под ног брызгами во все стороны.
Он кинулся вперед и впился глазами в пятно, которое, покачиваясь, уплывало в море.
По ногам Хасая плескались волны, но он не замечал их, он смотрел в море.
Бочка!
По морю плыла пустая бочка! Несомненно — пустая, потому что наполненная бочка не плясала бы по воде поплавком. На сколько ведер может быть такая ерунда? Ведь от берега до рейда не так-то близко. Откуда, к черту, она взялась?
Но что всего хуже: следом за ней из-за кормы парохода выплывала другая такая же бочка, за ней третья, четвертая, тьфу!
Хасаю ничего не оставалось делать, как плюнуть:
— Упустили в море винные бочки, зёвы!
Он огляделся.
К берегу подходила фелюга с пассажирами. Греки соскочили в воду, потянули фелюгу к пляжу, приладили сходни. Люди на берегу, не двигаясь, наблюдали за возней с молчаливым удовольствием.
Фелюжники свели по сходням человека в панаме за руку, как даму — в танце. Человек сделал скачок, чтобы не замочить ботинок, обернулся лицом к морю, подставил под себя вместо сиденья трость и стал глядеть на флотилию бочек.
К нему медленно подошли грек Кота Хеотиди и брат перса Ибрагима — кривой Мемед Али-оглы. Таким образом, чужеземца рассматривали в упор три глаза двух национальностей. Но чужеземец продолжал сидеть на тросточке и внимательно смотреть на бочки.
Известно, зачем мог подойти к приезжему перс Мемед: он, наверное, попросит донести за пятачок чемодан. Но что нужно проныре греку Коте? Хасай не выдержал и направился к чужеземцу.
Ничего. Хасаю доводилось видеть и таких людей: шляпа с желтой ленточкой, резиновый мешок на плечах, чуть не до полу, башмаки, точно на колодках, — не знаешь, как снять.
Вдруг этот человек поворачивает голову и быстро спрашивает грека:
— Бочки есть?
Кота Хеотиди начинает трясти коричневой головой, коричневыми руками, коричневыми коленками, торчащими из дырявых штанов:
— Не-не! Не! Нигде не!
Тогда Хасай подается вперед одним плечом, затем другим и гордо объявляет:
— Заготовил большую партию бочек!
Кривой Мемед расплывается в улыбку и поглаживает себя по животу: ведь Хасай — друг его старшего брата, перса Ибрагима, и Мемед счастлив, что он так гордо сказал о партии бочек. Мемед так же гордо восклицает:
— Ого, Хасай — бочар, какой бочар!
Но чужеземец мельком глядит на Хасая и спокойно отворачивается к морю.
Тут Хасай оглядывает всех по очереди и усмехается себе под нос. Ему охота как-нибудь поддеть чужеземца, и он показывает мизинцем в море:
— Чьи-то бочки поехали кататься, ха-ха!
Но чужеземец хоть бы что: он только поудобней сел на тросточке.
Его спокойствие пугает Хасая. Хасай потеет.
Пароход дает свисток, слышно, как заворчала в клюзе якорная цепь, потом видать, как вышел якорь, как его взяли на крамбол.
И вот, двинувшись, пароход начал оставлять позади себя странный след: из-за кормы выныривали бочки одна за другой. Их было больше дюжины, и они растянулись по волнам правильной цепыо, в голове которой, едва отошел пароход, шла фелюга. Гребцы работали споро, и бочки длинным послушным хвостом плыли за фелюгой к берегу.
Человек в панаме продолжал сидеть на тросточке.
Тогда Хасай не вытерпел. Он набрал в грудь столько воздуху, что она выгнулась колесом. Он подбирал какое-то слово, чтобы разбить одним ударом спокойствие чужеземца. Но такого слова не подобралось, и Хасай изо всей силы кашлянул в панаму:
— Кха-а-а!
Чужеземец вздрогнул и поправил шляпу.
Перс Мемед с гордостью посмотрел своим глазом на Хасая.
А тот чуть заметно передернул одним уголком губ, медленно повернулся спиной к чужеземцу и пошел прочь.
Чем ближе Хасай подходил к своей лавке, тем быстрее становились его шаги. Весь базар замер, глядя, как часто Хасай переставляет ноги.
Вот тут-то и началась настоящая работа. Хасай стругал, колотил топором, колотушкой, резал, точил струги, выколачивал стружку из колодки фуганка. Гром стоял такой, что люди со страхом обходили Хасаеву лавку, точно страшную машину.
Заснул Хасай на стружках, домой не пошел.
Спал он тяжело и во сне видел, как по морю плывет на него панама и в ней торчит тросточка.
Наутро, поев мамалыги, Хасай снова приступил к делу.
Он залез в бочку и стал стругать ее изнутри горбатиком. Некоторое время из бочки торчала его потная голова, затем она скрылась.
Ближе к полдню кто-то почтительно постучал сначала в дверь Хасаевой лавки, потом — еще более почтительно — в бочку. Хасай бросил стругать и высунул голову из бочки. Перед ним стоял человек в панаме.
— Здравствуй, — сказал он, — это здесь заготовлена большая партия бочек?
Он постучал по бочке тросточкой и продолжал:
— Сколько же хочешь взять за посуду? Целковый?
Хасай поправил усы и мрачно глянул мимо головы чужеземца.
— Зачем тебе делать бочку? Бочек у меня много. А со следующим пароходом прибудет еще партия.
Чужеземец вынимает из кармана папиросницу и, видимо, вообще намерен расположиться поудобнее: смотрит, куда присесть.
— Поступай ко мне, Хасай, бондарем, — говорит он. — Эту посуду, — чужеземец опять постукивает по бочке, — я откуплю. Приходи чинить мои бочки. А не то со следующим пароходом приедет мой бондарь...
Тут Хасай по-кошачьи выпрыгивает из бочки, становится грудью к человеку в панаме и широким движеньем руки обводит свою лавку:
— Вот моя лавка, а вон — базар. Гуляй, пожалуйста.
Чужеземец уходит, потом возвращается и говорит, помахивая тросточкой:
— Я пришлю тебе бочку для образца, посмотри, как они делаются.
Хасай рычит.
Вечером он сидит в неподвижности, прикрыв глаза, потом накалывает на дверь записочку, идет в духан.
Там Хасай долго и много пьет исчерна-красного мачжары, проигрывает шесть партий в нарды, поет, зажмурившись и качая головой.
Когда, по пути домой, он заходит к Ибрагиму Хаджи Али-оглы, тот говорит:
— Виноград нынче в цене: дают уже копейку за два фунта. Этак может стать и копейка за фунт. Бочки, Хасай, ого...
Снова Хасай сидит целыми днями перед своей лавкой и снова решает, что начать.
В лавке стоит недоделанная двухсотведерная бочка, с ней еще много возни, а кому, к черту, она нужна?
Пришел опять пароход, привез бочек. Хасаю рассказал об этом Мемед, сам он не ходил к пароходу, ему противно было думать о бочках — как они плывут по морю хвостом за фелюгой...
И вот Хасай принял новое решение. В самом деле, ведь у него в саду осталось еще много винограда, который клюют птицы, портят осы и жжет солнце. Если по копейке
фунт — сколько заработаешь? Стоит только смастерить лестницу и...
Хасай идет в лавку и принимается сбивать с бочки обручи. Когда последний обруч спадает наземь, бочка весело рассыпается.
Хасай садится отдохнуть и подумать, как лучше состряпать из клепки лестницу. К нему подходит Кота Хеотиди. Грек долго не заговаривает, наконец, выгибая коричневые руки и ноги, бормочет:
— Можно богато жить, ух, как богато! Можно наняться к одному человеку жать виноград. Ух, как богато!
— Не заслоняй ветер, — произносит Хасай, приподымая брови.
Кота Хеотиди пугливо бежит прочь... Хасай дремлет у лавки день-другой, решает, что начать. Пожалуй, есть расчет наняться к человеку жать вино. Можно хорошо заработать, больше, чем этой возней с бочкой. Виноград у Хасая неважный, по копейке за фунт не дадут. Да и с лестницей много возни: сделаешь, залезешь на нее, а потом еще упадешь, надо лечиться.
Эх, если бы можно было быть сытым одним виноградом! Так бы и сидел жизнь перед лавкой. А то нужно еще мамалыгу, чурек.
Хасай тяжело вздыхает, завязывает башлык, ставит торчком усики. Потом прикрывает за собой дверь, делает несколько шагов через дорогу и останавливается.
Бурки, башлыки и чувяки неподвижно висят на солнце. Кучи винограда ползут на месте. Хасай возвращается к лавке, снимает с двери записочку «Ажiдай голюбчик немножка», рвет ее и бросает.
Потом идет к персу Ибрагиму Хаджи Али-оглы.
— Хороший день, — говорит он. — Слушай, Ибрагим, если меня спросят, скажи, что я пошел жать вино к этому... который с тросточкой и в резиновом мешке до полу...
Ибрагим расклеивает глаза, тянется за табаком.
— Ого, — говорит он, — покури!..
1924—1925
СУУК-СУ
Какое множество на свете занятий — не перечислишь! Одни доходны больше, другие — меньше, но люди кормятся понемногу, живут.
Греки разводят табак, мингерльцы держат духаны, аджары чистят прохожим сапоги, турок и тот торгует суук-су.
Это унизительно — бегать по столице с бочкой холодной воды за спиной и кричать, надрываясь:
— Суук-су! Холёдный!
Но соскабливать ногтем грязь со штанов проезжих фертиков и смотреть при этом по-собачьи — снизу вверх — еще хуже.
Можно было бы навсегда бросить Сухум-Кале, уйти в горы, завести коня, даже много коней (почему не завести много коней?), если бы не домино! Дьяволовы костяшки!
— Не будь я абхазом, если не отыграюсь! — клянется про себя Измаил.
Взор его мутен, точно у буйвола, в том, как он переставляет ноги, столько мрачности, что кажется, будто он идет на злое дело.
Измаил садится на вывороченный из набережной камень и спускает ноги к воде.
Отсюда, если повернуться, видна вся столица.
Белые и желтые домики бережливо завернуты зеленью садов. Город похож на громадную корзину персиков, переложенных листьями. Персики дозревают на солнце, прикрытые синим небом, и между ними, в неподвижной зелени улиц и садов, копошатся козявки-люди.
Иногда две-три козявки сползут к морю посмотреть на Трапезундские горы. Они призрачны, их очертанье горит серебром, в нем чудится снег и — под снегом — неясная зелень. Может быть, это воздух, а не горы, но они показываются на небосклоне в той стороне, где Турция, где Трапезунд, и все верят, что это — горы. Русские говорят, что их видно перед дождем, греки — что они появляются к погоде, турки не говорят ничего, смеются, бегут по горячему тротуару, кричат;
— Суук-су, холёдный!
Ах, провалиться этому суук-су! Неужели Измаилу ничего не остается делать, как только торговать холодной водой?
Он смотрит с тоскою в море. Там, далеко, откуда встает прозрачная горная цепь, море вытянулось блестящим клинком. Ближе оно голубеет, потом голубизна его начинает просвечивать синевою, потом — зеленью, и вот огромное, все глубже зеленеющее поле широко катится к ногам Измаила. Он видит, как, не двигаясь с места, окунаются в зелень черные рыбачьи лодки и — ближе к берегу — подобно лодкам, показываются и пропадают круглые черные горбы дельфинов. От солнечной дороги, бегущей к Измаилу по воде, а может быть, от зависти к беспечным дельфинам у него мутится в глазах, он слепнет и жмурится. Глядеть дальше на это изобилие света, простора и спокойствия, когда на душе мрачно и тесно, у Измаила не хватает сил, он отворачивается от моря, распрямляется, идет в город.
Набережная кажется ему отвратительной. Под пальмами, приладив к жестким стволам рамочки с образцами своего искусства, дремлют бродячие фотографы. Их аппараты, накрытые черными суконками, напоминают что-то погребальное и неподвижно, таинственно ждут жертвы. Измаилу вдруг становится странно. Он силится вспомнить какое-нибудь заклинанье, молитву, но не находит в голове ничего, кроме домино.
— Да будут прокляты эти костяшки во веки веков! И кофейни, где в них играют! И люди, которые держат кофейни! Во веки веков!
Измаил покидает скупую тень запыленных пальм и выходит на улицу. Она безлюдна, столики, выставленные из кофеен на тротуары, пусты, солнце выжгло в городе всю жизнь. И только по дороге, навстречу Измаилу, быстро шагает белый человек в заморском костюме и широкой шляпе. Осаждая его с обеих сторон, мчатся за ним черномазые оборвыши с криками:
— Почистить, почистить!
Они забегают вперед, кидают под ноги человеку свои сапожные ящики, размахивают щетками, затевают драку. Человек отбивается от них, перескакивает через ящики, широкой, сильной ладонью толкает мальчишек в полуголые бронзовые плечи. Но они наседают на него, цепляются, кричат:
— Почистить!
Измаил внезапно загадывает: если даст почистить башмаки — пойду, не даст — нет.
Взгляд его загорается, он следит за человеком в заморском костюме, как ястреб за цыпленком. Вдруг тот безнадежно машет рукой, круто поворачивает вбок, прислоняется к пальме и подымает ногу. Под эту ногу подкатывают сразу три сапожных ящика и в нее впиваются шесть быстрых, вымазанных ваксой рук.
Тогда сердце Измаила останавливается, глаза перебегают через дорогу, на длинную череду приземистых построек с открытыми настежь широкими дверями, и он срывается с места.
— Пойду!
Как упруги и мягки шаги Измаила! Как плавно раскачивается за его спиной золотая кисточка башлыка! Какую бодрость вливает в грудь Измаила горько-влажное дуновенье моря!
Вот где жизнь — зовущая, точно морской прибой, — за этими широкими, настежь открытыми дверями кофеен!
Измаил приостанавливается у порога.
В кофейне прохладно, запах кофе смешался с табаком, говор и возгласы игроков в домино заглушаются треском костей по мраморным столикам. Это похоже на щелканье счетов в громадном банковском зале.
И как банкиры, важны степенные греки, в снеговых сединах под высокими плоскодонными шапками, с толстыми перстнями на указательных пальцах.
Измаил обходит столики, зажав в кармане двугривенный, который должен принести счастье. Вдруг он вздрагивает и медленно, по-ястребиному, отворачивает свою легкую голову назад, к выходу: за столиком сидит его злейший враг — человек, не проигравший Измаилу ни одной партии в домино, абхаз по прозвищу Тэфик. Измаил не видел его лица, он едва приметил ничтожное движение руки, которая подвинула на столе костяшку, и он узнал пальцы Тэфика. Руки Тэфика выгнуты лодочками, пальцы его быстры, острые кончики их вздернуты вверх — о-о! — об этом чудовище давно уже тоскует хороший абхазский кинжал!
Вон из кофейни!
Но у самых дверей Измаилу преграждает выход человеческая туша, пахнущая жареными каштанами. Измаил подымает глаза. Они упираются в мясистый, оранжевый, точно раздавленный персик, нос. Это — другой враг Измаила. Он мнет занавешенным усами ртом каштановую жвачку и прямо дышит на Измаила:
— Надо отыграться, Измаил, садись!..
И вот Измаил мешает кости на мраморной доске столика, пьет огненный кофе по-турецки, морщит брови. Кости щелкают по мрамору, кости свистят. Партия, другая, третья. Измаил что-то шепчет, Измаил держит счет рябым черноглазым фишкам, у него дрожат ноздри, он стискивает челюсти, он проигрался.
Измаил быстро встает, кидает на стол двугривенный, протягивает партнеру руку, хочет уйти. Но похожий на раздавленный персик нос общительно сопит:
— Знаешь, Измаил, Тэфик стал большим человеком. Он поступил в комиссию... ну, как это... по ликвидации кровной мести. Знаешь, что это? Теперь нельзя резать живот, понял?
Измаил, как конь, косит глазом туда, где сидит Тэфик, выпрямляется, говорит:
— Он не большой человек, он большой ишак! Большой человек...
И он показывает крепко сжатым кулаком, как обращается с оружием настоящий большой человек. Его глаза мутнеют, точно охваченное холодом стекло, поясок как будто туже перетянул его стан, он гордо поднимает голову и, гарцуя, удаляется.
Решено!
Измаил покинул кофейню, чтобы никогда не вернуться в нее. Он сыграл последнюю партию в домино и начал новую жизнь...
Наутро он был в горах. За его спиной вместо башлыка с золотою кисточкой висел бочонок, натуго обтянутый циновкой из чалы. Вокруг пояса было намотано полотенце, в нем лежал толстый граненый стакан.
Измаил зашел далеко в ущелье, гораздо дальше, чем ходили турки. Он не хотел раньше времени попадаться им на глаза. Он отыскал в узкой расщелине камня буйный родник, нацедил доверху бочонок ледяной воды и побежал в город. Ему было приятно ощущать спиною холод бочонка. Он попробовал крикнуть, подражая туркам:
— Холё-д-ный, есть такой делё!
Это развеселило его, он побежал еще быстрее. И правда: чем плохо торговать холодной водой?
Базар в Сухум-Кале шумный, народ теснится на улицах, как в бане, крики торговцев мешаются с воплями ослов, печальные буйволы тупо прокладывают дорогу арбам своими раздутыми, как бочки, боками. От толкотни, от зеленого зноя, плывущего с моря, от солнца и криков люди мечутся с разинутыми ртами, и базар пахнет потом сильней, чем вином и кожей.
В этой бане самый желанный человек — турок с бочонком холодной воды.
— Суук-су, холёдный! — кричит турок. Он бежит, неслышно переставляя ноги в мягких чувяках, смеется, на его зубах играют солнечные зайчики.
— Суук-су!
И вдруг, в самом пекле базара, где от людей подымается пар, как от вареной кукурузы, где от торговца до торговца не дальше, чем в кукурузе от зерна до зерна, вдруг кто-то изо всей мочи заорал:
— Абхаз продает суук-су!
Тогда весь базар на секунду замер, потом мгновенно перевернулся, и все пошло вверх тормашками.
— Абхаз притащил на себе воду, как ишак!
— Абхаз возит воду!
— Что теперь делать туркам, когда абхазы сами бегают с водой по городу?
В кольце этих криков, в кольце людей, с любопытством глазевших па необыкновенного торговца водою, стоял Измаил.
В передние ряды ротозеев протискивались турки. Они смеялись, как всегда, показывая прекрасные зубы, коротким подергиванием плеч поправляли тяжелые, разукрашенные серебром и бубенцами бочки с водою, и нельзя было понять, нравится им история с абхазом или не нравится. А базар все вопил и толкался вокруг Измаила.
Надо было много мужества, чтобы перенести такое унижение. Но Измаил нашел силы улыбнуться и ласково предложил:
— Холёдный!
Тут известный базару купец-армянин, державший лавку стеганых одеял, прохрипел, утирая потный лоб и наматывая нитку с иглою вокруг уха:
— Давай пробовать твой абхазский лимонад!
Измаил торжественно вынул из-за пояса стакан. В бочку с водою была вделана каучуковая трубка, конец которой Измаил держал в руке. Он открыл зажим трубки, и прозрачная струя сильно ударилась в дно стакана. Он налил стакан не жалея, с верхом. Базар притих и сотней глаз смотрел, как одеяльщик глотал воду. На его ухе, точно сережка, болталась игла, он медленно запрокидывал волосатую потную голову назад, глаза его постепенно щурились, пока блаженно не закрылись совсем. Он делал крошечные глоточки, один за другим. Вытянув воду, не открывая глаз, он покачал головою и произнес в тишине:
— Прямо — лед!
Так решилась судьба Измаила.
— Давай еще стакан, — сказал армянин, — твоя вода — не то что у турок или у каких-нибудь татар!..
С этой минуты Измаил нацеживал стакан за стаканом и ему почти не приходилось кричать — суук-су. Пили все: продавцы фринго и кукурузы, духанщики и чистильщики сапог, торговцы жареными каштанами, игроки в нарды — каждому хотелось попробовать воды у абхаза.
Скоро бочка Измаила опустела, и он побежал в горы за свежей водой. В кармане у него позвякивали медяки, он напевал песню.
За полдень базар опустел, торговля пошла тише, и продавцы холодной воды передвинулись в город. По размягченному асфальту улиц они бежали навстречу друг другу, смеясь и без устали выкрикивая свой гортанный призыв.
Измаилу везло и здесь. Его останавливали, хвалили воду, он смеялся в ответ, и в его смехе появилось что-то турецкое — беспричинное, неуловимое.
Незаметно для себя он очутился на набережной. Черные, разинутые пасти кофеен надвинулись на него, и он расслышал переливавшийся треск костяшек по мрамору. Звуки были так неожиданны, что он не сразу узнал их. Он остановился, турецкая улыбка исчезла с его лица, он вытянул шею, и голова опять стала похожа на ястребиную.
Внезапно, за треском костей, он различил явственный шепот:
— Счастливый день, Измаил, счастливый! Сегодня или никогда!
Он обернулся, но подле него никого не было. Он опять вслушался в шум кофеен. Ему почудилось, что шепот крался оттуда:
— Счастливый день!
Измаил облегченно встряхнулся и, кинувшись в кофейню, крикнул совсем не то, что хотел:
— Суук-су!..
Он снял со спины бочонок и поставил его у двери кофейни, на солнце.
Его глаза сами собою отыскали противника: у окна, за пустым столиком, сидел Тэфик. Измаил видел, как Тэфик мотнул ему головой и показал на стул.
Через минуту изогнутые лодочками пальцы Тэфика быстро тасовали кости домино на мраморе. Измаил отсчитал фишки и расставил их перед собою городком. Тэфик вышел, тихо щелкнув костью по столу. Измаил считал очки, затаив дыхание. Он ни разу не взглянул на противника, отвечал осторожно, долго обдумывал ходы и прикупал мало.
Тэфик насторожился, точно почуяв беду, и все крепче и судорожней ломал и крутил пальцы. Вдруг Измаил подпрыгнул на стуле, воинственно закричал и перевернул свою последнюю фишку. Завсегдатаи кофейни повскакали со своих мест. Тэфик стоял бледный. Не отрывая глаз от ломаной линии очкастых фишек, он силился улыбнуться.
— Выиграл! — кричал Измаил. — Выиграл у Тэфика!
Люди столпились вокруг них, побросав кофе и неоконченные партии в нарды и домино.
— Проиграл! — тихо сказал Тэфик. — Тэфик проиграл!
Измаил трясущимися руками смешал кости и вызывающе взглянул на Тэфика. Они опять уселись, но народ уже не отходил от их стола.
И вот Измаилу становится душно, ему кажется, что руки берут и выдвигают не те кости, какие он хочет, десять, двенадцать пар глаз следят за его движениями, он все чаще прикупает.
— Браво, Тэфик! — слышит он чье-то сопенье.
«Это, наверно, тот, с носом», — думает Измаил и сбивается со счета.
Руки Тэфика скользят над столом какими-то птицами. Измаил поднимает на него взгляд и видит, как он спокойно покусывает свои короткие усы.
— Всё, — говорит Тэфик.
— Что — всё? — недоумевает Измаил.
— Проиграл, — отвечает Тэфик.
— Кто?
— Ты!
Измаил смахивает со лба пот и смотрит на стол. У Тэфика нет ни одной фишки.
— Но первую партию проиграл ты, — угрожающе напоминает Измаил.
— А вторую ты, — говорит Тэфик, — и третью ты, и четвертую...
Измаил нацеживает сквозь стиснутые зубы полную грудь воздуха, от напряжения его перекашивает, но он заставляет себя сидеть.
Народ вокруг стола начинает посмеиваться. Измаил проигрывал партию за партией. Он, уже не глядя, видел кривую улыбочку Тэфика, он не мог оторваться от его рук.
— Давай рассчитаемся, Измаил, — предложил Тэфик.
Измаил высыпал на стол серебро и медь. От волнения он не мог считать, и Тэфик ловко перебрал монетки своими отвратительными хищными пальцами.
— Не хватает копейки, — сказал он.
— За мной, — мрачно прохрипел Измаил, вставая и протискиваясь сквозь толпу.
— Постой, постой! — закричал ему вдогонку Тэфик. — Про тебя говорят, что ты торгуешь суук-су? Погоди, я попробую твой товар, будем квиты!
Измаил взвалил на спину бочонок, хотел уйти, но его обступили игроки, бездельники, целая толпа зевак, высыпавшая из кофейни.
— Налей-ка холодненькой, — попросил Тэфик.
Темный от крови, хлынувшей к лицу, Измаил безмолвно налил стакан воды и подал его Тэфику.
И тогда вот что произошло.
Тэфик неторопливо поднес стакан ко рту, набрал полный рот воды, потом вытаращил карие глаза на Измаила. Толпа ждала, что будет. Тэфик надул щеки, сделал шаг вперед. И в тот же миг из его рта с силой вырвалась тонкая прозрачная струя воды и ударила в лицо Измаила.
Измаил окаменел. Вода плеснула его по щекам, по носу, по лбу и весело покатилась за воротник.
Тэфик плюнул в землю, еще ближе надвинулся на Измаила и громко сказал:
— Такой водой моются в бане, а не торгуют на улице!
Толпа разразилась хохотом.
— Он целый день грел свою бочку на солнце! — продолжал Тэфик.
Измаила бросило в дрожь. Весь город смотрел на его унижение! Он разглядел человека с оранжевым носом, как раздавленный персик, одеяльщика с базара, бывшего князя Шервашидзе в калошах, с зонтиком, с седыми царственными подусниками, как у пристава. Греки смотрели на Измаила, шевеля своими толстыми пальцами в перстнях, турки радостно показывали белые зубы.
Измаил поднял к небу руки, потряс ими и с пеной на губах прошипел:
— Пусть будет проклят весь твой род, пусть твоего сына заживо изгложут черви и кости твоей матери пусть растащат шакалы! Клянусь, что Измаил примет смерть не раньше, чем трижды повернет в твоей поганой груди отточенный, как бритва, кинжал! Клянусь, что...
— А-а-а! — закричал Тэфик. — Ты грозишь мне отомстить? Даешь клятву при свидетелях? А закона против кровной мести не знаешь? Ну-ка, пойдем в комиссию!..
Тут турки ощерились еще радостней, и греки чаще зашевелили пальцами, и толпа захохотала, как дьявол.
Измаил кинулся бежать...
Он опомнился только за городом, в широкой долине. Пот лил с него ливнем. Он передохнул и пошел в горы. Бочонок все еще болтался за его спиною. На узкой тропе колючие кусты ежевики стали цепляться за циновку. Измаил вспомнил о бочонке, скинул его с плеч и, не раздумывая, бросил в ущелье.
Потом он забрался на вершину горы. Там он отыскал гладкий округлый камень, вытащил из-за пояса короткий кинжал в посеребренных ножнах и уселся в тени. Вынув кинжал, он попробовал его острие на палец, погладил ладонью камень, поплевал на него и начал точку.
Лицо его было свирепо, он часто оскаливал зубы и стонущим тихим голоском пел песню о добром, бедном абхазе Измаиле и о злодее, чудовище, шакалином выродке Тэфике. Потом он вспомнил, как выиграл у Тэфика партию в домино, как дрожали у злодея руки, и ему стало легче. Он посмотрел вдаль.
К розовому морю скатывались игрушечные домики столицы. Пышная зелень садов заботливо прикрывала землю.
Измаил отдохнул, ветер высушил на нем обильный пот, его клонило в дрему. Он попробовал кинжал на язык, улыбнулся, лег на спину, стал глядеть в небо. Белое облачко проплывало над ним, он вгляделся, ему почудилось, что белые домики столицы убегают в розовое море. Он зажмурился...
Как белое облачко в небе — так Сухум-Кале во вселенной.
1925-1926
ЧЛЕН ДЕЛЕГАЦИИ
Кончался ноябрь. Парк с его слоновыми пальмами в три обхвата, с аллеями вашингтоний в кудрявых волосках на огромных пальчатых листьях, с палкообразными сухими кактусами, с зарослями бамбуков, в которых дышит влажная прохлада, — все эти чудеса из проснувшихся географических атласов еще стояли перед моими глазами, когда я ехал в автобусе по берегу Черного моря в Очамчири.
Перемежались табачные плантации с мандариновыми садами, обработанные, культурные участки сменялись нетронутыми горами. На холмах высились эвкалипты с гладкими, белыми, как мел, стволами. Лопнувшая кора на них скаталась в трубки, покачиваемые ветром, похожие на шелуху, и казалось, что деревья только что отболели корью. Перед домами, поставленными на сваи и окруженными стоячей водой, на сухих проталинах играли дети. Листва садов была как будто натерта маслом и припудрена пылью — такой обремененной она казалась, и в странной неподвижности деревья вдыхали благодатную свежесть моря.
По дороге, навстречу нам, то в одиночку, то караванами, попадались ишаки, груженные свежим табаком. Их сопровождали абхазцы в обычных своих башлыках, хитро накрученных на голову. Изредка женщины проезжали верхом на коне, останавливаясь, чтобы пропустить автобус, снисходительно оглядывая машину с высоты седла.
Перед достраивавшимся вокзалом железной дороги на пыльной площади распутывались грузовые автомобили. Буфет переполняла разновидная публика, стекавшаяся на станцию с высоких гор и с побережной полосы.
Когда я устроился за столом, подкатил автобус. Первым ступил на площадь абхазец в лоснившейся черной бурке с плечами, как рога, поднятыми вверх, в башлыке сверкающей белизны. Бурка не шелохнулась на нем, скрывая его легкие шаги, и было похоже, что он переплывает площадь, стоя в лодке. Появившись в дверях буфета, он на мгновенье заслонил собою вход и медленно повел головою, озирая столы. Все было занято. Чтобы развернуться, абхазец вошел в буфет боком, описал громадную окружность торчащими плечами бурки и удалился.
Через четверть часа я вошел в купе вагона. С дивана поднялся абхазец.
— Не беспокойтесь, пожалуйста.
— Прошу вас, пожалуйста, — сказал он мягко.
Бурка, растопырившись, висела в углу. Коричневая черкеска туго обтягивала абхазца, патронташи на груди готовы были лопнуть, он снял и повесил к бурке кинжал в серебре и пояс.
Приглашая его сесть, я показал на место у окна. Он сделал такой же жест и сказал:
— Вы — старший. По нашему обычаю, вам принадлежит первое место.
Он настаивал на этом с вежливым и непоколебимым спокойствием, и я должен был спросить, сколько ему лет. Он был немного моложе меня, и я уселся к окну.
— Я прямо с поля, не успел даже помыть ноги, — с улыбкой сказал абхазец. — Где здесь вода, не знаете?
Он говорил по-русски хорошо, с тем качким акцентом, по которому легко узнается кавказец. Едва двинулся поезд, он ушел в уборную и вернулся оттуда босой, с обувью под мышкой. Вытянув белые ноги в закатанных выше щикотолок узких штанах, он с удовольствием потер ступнями по ворсистому коврику и принялся заботливо свертывать сапоги с высокими голенищами из нежной темно-зеленой кожи.
— Вы далеко едете? — спросил он многозначительно и тихо.
— В Армению.
— Может быть, вы едете туда потому же, почему еду я? — спросил он еще тише.
— А почему вы едете?
— Я еду на праздник Советской Армении.
Он сказал это торжественно, и тогда доверительность его тона, его почти восторженный и сосредоточенный взгляд, его одежда, как на подбор складная, новая, — все приобрело особый смысл. Он размотал башлык. Его голова была очень хороша — в крупных кудрях, с седыми, гладко выстриженными висками, с коричневым лицом, в котором необычно было видеть одновременно и ласку и надменность.
— Туда, наверно, съедется народ со всего Союза, — сказал он. — А для меня это произошло неожиданно. Я работал в поле, резал табак. За мной прибежали, говорят, надо скорее идти в район, там ждут. Я пошел. Мне сказали, что я поеду от колхозников Абхазии приветствовать Армению. Я председатель колхоза в Лыхнах, слышали? В районе мы составили приветствие, и я побежал домой переодеваться. И потом насилу поспел в Гудауты, на автобус.
Он улыбнулся. Он был счастлив, что не опоздал на автобус, — это было видно, и ему было приятно, что я это вижу. Он вынул из патронташа на груди пустой патрон и достал из него скрученный, как папиросный мундштук, маленький листок бумаги.
— Мне сказали: смотри, не пропустили ли мы чего в приветствии, — тогда ты добавь.
Он бережно раскрутил бумажку, исписанную карандашом, и зажал ее в ладонях, чтобы разгладить. Поглядывая на нее, он продолжал разговаривать, и скоро я узнал его имя, его образование, историю его богатого колхоза и кое-что о табаке, об охоте с соколом на перепелов, об инжире, или винной ягоде, и о многом другом. Он говорил медленно, слово к слову, как будто самая простая мысль требовала от него проникновения.
Перед сном я вышел в коридор размяться, а когда опять заглянул в купе, абхазец держал перед собою листок бумаги и, зажмурившись, неторопливо шевелил губами...
Утром он стоял перед окном и с сочувствием подергивал головой. Насколько хватало глаза, всюду громоздились скалистые горы, сурово стряхнувшие со своих острых плеч всю растительность в провалы ущелий.
— Камень, камень. Как тут жить человеку? — твердил абхазец.
После расточительной природы его родного побережья бесплодие этих вершин и правда удивляло. Но в восклицаниях абхазца я заметил не столько изумление, сколько гордое и словно детское довольство. Строгие пространства раскрывались перед ним, как перед господином мира, которого могущество переносит из одного края земли в другой, и он любуется своим сознанием, что все видимое подвластно ему. Впервые выехав из Абхазии в соседние земли, мой спутник чувствовал себя не гостем, а все тем же хозяином, каким был несколько часов назад на табачном поле своего колхоза.
— Меня тут ожидали, — сказал он мне на вокзале Тбилиси. — Я буду присоединен к грузинской делегации.
Он был еще торжественнее, чем накануне, и говорил с такою приподнятой таинственностью, точно доверял мне государственный секрет. У него блестели глаза, он стал как будто еще больше, его белый башлык и рогатые плечи бурки высоко проплывали над суетливыми толпами платформы. Мы расстались друзьями, взаимно обещая увидаться на празднике в столице Армении.
И вот эта столица. Многоэтажные здания из розового туфа, в колоннадах, воскрешающих цветущую эпоху армянского стиля, подле плоских кровель древнеазиатских глиняных мазанок; железные каркасы и леса строящихся сооружений; озабоченные крикливые автомобили на широких улицах, и рядом с ними, в тесных щелях древних проулков, понурые ослики, задевающие своими вьюками встречных прохожих. Неукротимое тепло юга все еще насыщало город. Сотни гостей, приехавших на праздник, по южному обычаю, не уходили с улицы до поздней ночи, знакомясь с художниками, актерами, архитекторами — армянами, для которых эти живые улицы в эти теплые предзимние ночи — с детства привычная кровля.
Празднества начались с заседания в театре. Быстро сгущалась духота. Непрерывно входили люди, словно состязавшиеся в пестроте своих одежд, уборов, украшений. Кавказ с его вкусом к краскам и причудами форм старался разместиться в стенах, которые ему были слишком тесны. Курды прошли на сцену по дощечкам, перекинутым через оркестр, в бахроме разноцветных платков, намотанных на голову, яркие, как тропические птицы. За ними потоком влились черно-белые широкоплечие дагестанцы. Пришли аджары, черкесы, сваны. И опять, как будто подымаясь над всеми, всплыл на сцену абхазец.
Он показался мне слепком с самого себя: ни одна морщинка не шевельнулась на его лице, ни одна прядь его косматой бурки не дрогнула. Он занял место в ряду других делегатов, его сверкающий башлык, завязанный по-праздничному пышно и замысловато, был виден из всех уголков театра. Он сидел неподвижно.
Когда открылось заседание, когда пролилось слепящее мигание прожекторов на сцену, и все поднялись, и музыку заглушили крики приветствий, я увидел, как улыбка постепенно изменяет лицо абхазца, как простодушие ребенка подавляет его надменные черты, и даже его большие крестьянские руки становятся похожими на детские, неловко, непривычно торопясь попасть в стремительный темп рукоплесканий.
Он сначала увлеченно следил за речами. Говорила Москва. Говорил Азербайджан. Говорила Украина. После каждой речи абхазец, внимательно повернув ухо к председателю, вслушивался, кому предоставляется слово. Потом он опускал взгляд на колени и смотрел в свою записку. Он смотрел в нее недолго, его глаза спокойно прикрывались, губы вздрагивали, он доставал платок и вытирал вспотевшее лицо. Юпитеры безжалостно поливали сцену жаром, дыхание зала закупоривало ее, как бутылку, люди начали снимать с себя тяготившие уборы.
Размотав башлык и поднявшись, чтобы скинуть бурку, абхазец увидел меня. Он закивал мне обрадованно, я пробрался к нему поближе, и он шепнул:
— Много моих слов уже сказали. Но ведь это все — не от Абхазии.
Я согласился с ним.
Когда кончили говорить от имени Грузии и слово предоставили Аджаристану, он обернулся ко мне, и я понял по его взгляду: «Сейчас». Он взялся за башлык, но тотчас отстранил его и старательно вытер платком лпцо. Он одернул черкеску, поправил пояс, положил руку на кинжал. Оратор-аджарец кончал речь. Ему уже аплодировали. Поднявшись, председатель наклонился к микрофону. Вместе со своим знакомцем я взволнованно прислушался к его голосу. Он дал слово Чечне. Потом — Кубани. Потом Ингушетии.
Я сказал абхазцу:
— Напишите записку, чтобы вам предоставили слово.
— Зачем? — спокойно ответил он, подумав. — В президиуме знают, что я тут.
Ораторы сменяли друг друга, заседание близилось к концу, из-за духоты многие гости уходили со сцены, зал редел. Абхазец был неподвижен, одна рука — на кинжале, в другой — скатанный клубком мокрый платок.
Наконец, в гуле музыки, народ стал вытекать из театра на улицу. Я встретился с абхазцем в людской толпе. Он спросил — не устал ли я, и пожелал мне покойной ночи. Его голос был мягок, улыбка по-прежнему ласкова. Он говорил так, будто с ним ничего не произошло. Но мне показалось, что черты надменности стали в нем резче.
На другой день я столкнулся с ним на демонстрации. Он словно хотел избежать разговора со мной, но мы стояли лицом к лицу.
— Я считаю, что это правильно, — проговорил он рассудительно, — что мне не предоставили слова: я вхожу в делегацию Грузии, а ведь от Грузии оратор выступал. Тут народ, как мы с вами думали, со всего Союза.
В его любезной, так располагавшей к нему улыбке мелькнуло что-то рассеянное, разговор у нас не получился, и позже, встречаясь с абхазцем, я не мог отделаться от чувства, что ему неприятно, что я был близким свидетелем его возбуждения и разочарования в театре...
Как-то в кругу товарищей я рассказал о своей встрече с абхазцем.
— Вы понимаете, этот крестьянин, взятый с колхозного поля во время работы и посланный гостем в Армению, — государственный человек. Ведь он огорчился и страдал за свою Абхазию, а вовсе не за себя.
— Но позвольте, — перебили меня, — мы что-то не помним, чтобы на празднике кто-нибудь присутствовал из абхазцев.
— Как же! Такой большой, стройный, в белом башлыке, в бурке, такой красивый человек...
— Красивый человек? — переспросил меня один товарищ. — Да на мой вкус, все, кто там был, — красивые люди...
Мы переглянулись и замолчали.
1938
КОММЕНТАРИИ
Абхазские рассказы
Бочки. — Впервые — «Новый Робинзон», 1925, № 9. Вместе с рассказом «Суук-су» составляет цикл «Абхазских рассказов» (первоначально «Кавказских»), написанных после посещения Абхазии в 1924 году. 22 мая 1925 года Федин сообщал А. М. Горькому: «Пишу «Кавказские рассказы» (кончил пока один) и умиляюсь: прекрасный материал!» * Более подробно об этом же — в письме А. К. Воронскому от 2 августа 1925 года: «...будут у меня скоро «Кавказские рассказы» — четыре или пять, всего листа полтора, м<ожет> б<ыть> немного больше — не возьмете ли их у меня для «Кр<асной> нови»? Рассказы без «политики», вернее — вне политики, хочется дать характер Кавказа, его внешний и внутренний облик, его чувство **.
Суук-су. — Впервые—«Красная нива», 1926, № 31.
Член делегации. — Впервые — «30 дней», 1939, № 12.
* "Литературное наследство", т. 70, стр. 493.
** "Творчество Константина Федина", стр. 384.
(Е. Краснощекова)
(Печатается по изданию: Конст. Федин. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. - Москва: 1970. С. 432-456, 546.)
___________________________________
ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОМУ
Ленинград, 7.ХII.1924
...За Ваше письмо благодарю Вас, дорогой Алексеи Максимович. Оно пришло в то время, когда я кончил роман, и — правда — я обязан ему бесконечно многим, как вам вообще. Я не ответил на него тогда же только потому, что не мог ни о чем говорить, кроме как о своей работе. Думал, что исцелюсь, «изгоню беса», да, видно, ошибся, пишу все о том же, простите... Рассчитывал написать потом с Кавказа, где отдыхал месяца полтора. Но Кавказ обленил меня и развратил до крайности. Я не ожидал ни такой пышности, ни такого безделья. Это не страна, а какая-то пастила, и люди там, как карамель. И — конечно — это не Россия! Мы там даже не гости, а так, какие-то пассажиры: дышим, пока нас не стряхнул под откос возница. Я жил некоторое время в Гудаугах, где к моему дому в сумерки подбирались стаями шакалы и выли всю ночь напролет. Бродил по реке Келасури (под Сухумом) и был в гостях у честных абхазских разбойников, которые платят налоги на украденные табуны скота. Бывал дважды на Новом Афоне, где теперь «совхоз» и несколько престарелых монахов в качестве привратников и «спецов» по виноделию, маслинному хозяйству и пр. Остальная братия рассеялась по свету, не пожелав снять рясу, ловит кефаль, торгует на майдане в Тифлисе и просит Христа ради в Туапсе. Живут. Жил я в Тифлисе, Сухуме, Батуме. Юг был для меня неожиданностью, которая потрясла воображение. Но, проснувшись однажды в вагоне где-то в Орловской губернии (незадолго перед тем я купался в море) и увидев простую, как блюдо, землю, в снегу, под сереньким небом и черную цепочку подвод, дергавшуюся по перепутку куда-то в даль от поезда, — увидев это, я внезапно ощутил такую радость, что чуть не заплакал. И потом выскакивал, раздевшись, па каждую станцию, чтобы постукать каблуками по замерзшей слегка земле платформы и вдохнуть крепкий душок молодого снежка. Как хорошо побывать в чужой стране, когда есть своя!
Ленинград. 7.I.1936
Дорогой Алексей Максимович!
Третьего дня послал вам вторую (последнюю) книжку «Похищение Европы». Невероятно много сил отнял у меня этот роман, и результаты работы, очевидно, не соответствуют израсходованной энергии. Я был занят им пять лет; правда — около двух лет скушала болезнь, вообще понизившая мою работоспособность. Но так или иначе я довел дело до конца и чувствую себя сейчас так, словно перешел сомнительный мосточек через коварное ущелье. Работу я кончил в октябре и тогда же, на радости, отправился на юг, чего до сих пор не решался делать из-за легких. Почти месяц я прожил в Сухуме и успел увериться, что пребывать мне в таких местах не следует: с утра до ночи я должен был приспосабливаться к самым капризным сменам температуры, от жары до холода, к целой гамме влажностей, ко всевозможным оттенкам комбинаций из этих двух факторов, плюс ветер, плюс солнце, плюс бог знает что...
Я решил исполнить давно задуманный план поездки в Армению и двинулся на Эривань. К сухумским капризам термометра прибавились высоты перевалов, высота самой Эривани при умопомрачающей неустойчивости южной зимы. После этого путешествия ленинградская постоянная и равномерно-подлая слякость мне показалась раем, — я действительно почувствовал себя превосходно...
P. S. Вам из Сухума должны послать сборник абхазских сказок. Получили ли? Сказки есть великолепные. Но перевод настолько убог, что зло разбирает смерть как! А ведь в Сухуме можно было найти недурного редактора — есть там такой русский — Новодворский, вполне грамотный человек.
(Печатается по изданию: Абхазия в русской литературе. - Сух., 1982. С. 228-229, 244-245.)
(OСR - Абхазская интернет-библиотека.)
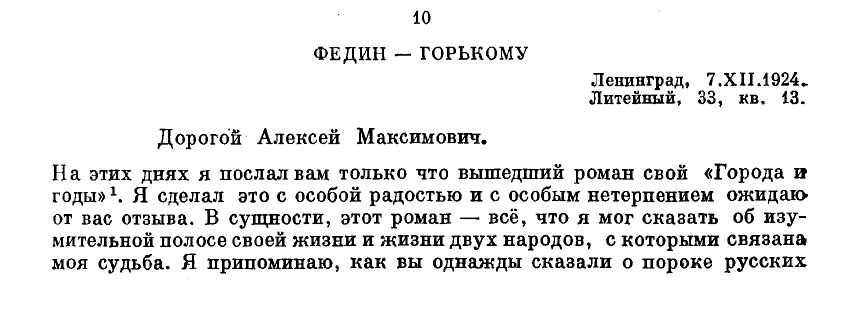

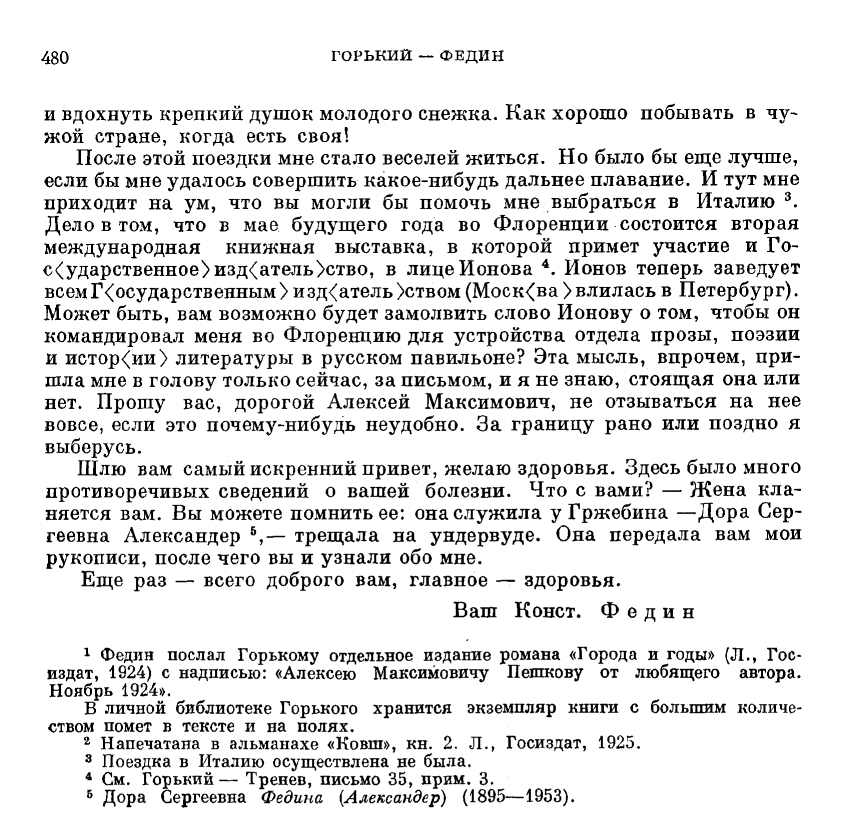
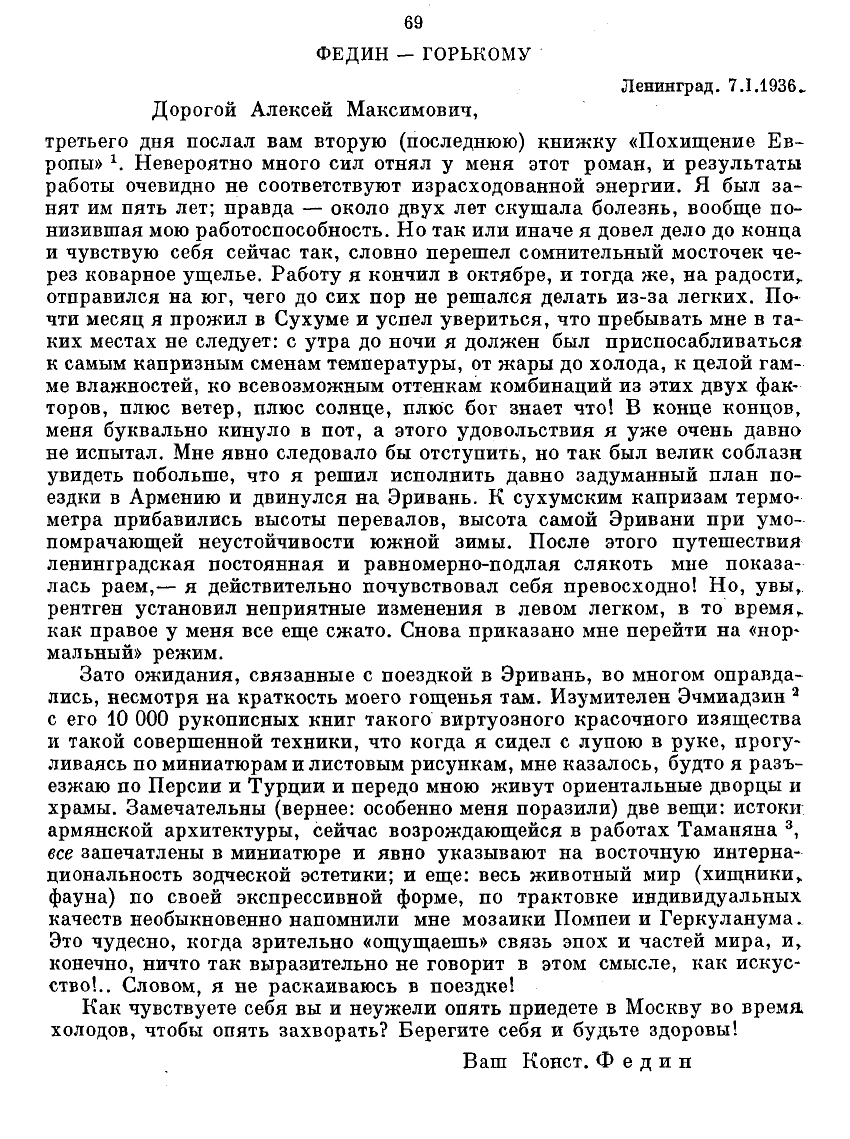
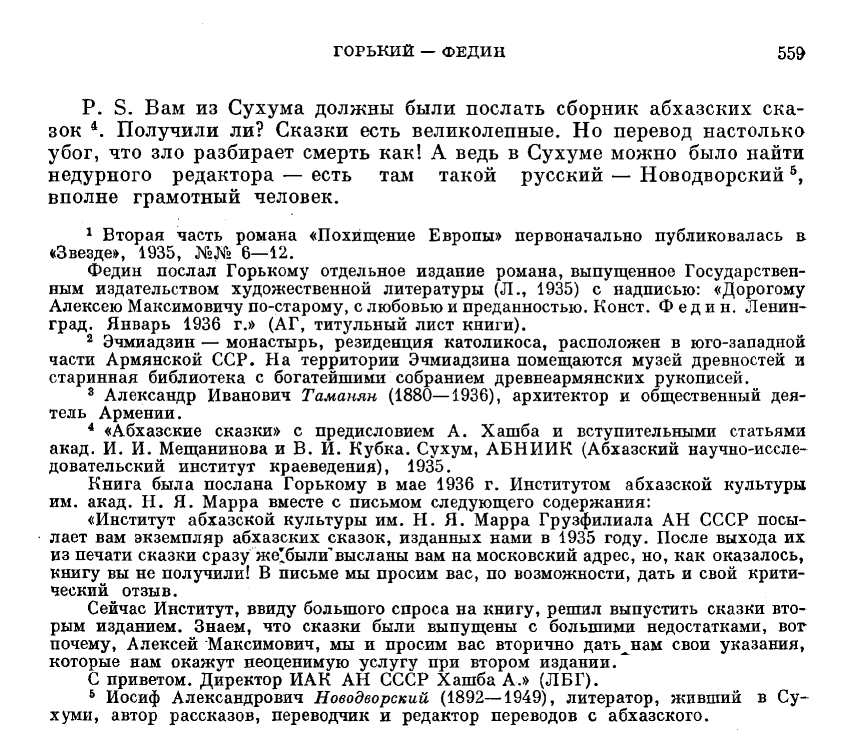
(Источник: Литературное наследство. Том 70: Горький и советские писатели: Неизданная переписка. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.
С. 478—480; 558—559.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
