Александр Товбин
Пицунда
Роман в двух книгах
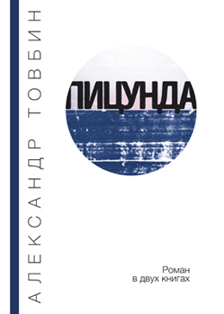
Ландшафтный оазис у моря — реликтовая сосновая роща на мысу, намытом горной рекой. Античное поселение — греческое (Питиус), римское (Питиунт). Византийская провинция с административным центром в Великом Питиунте, последнем приюте Святого Иоанна Златоуста. С XIX столетия — археологическая Мекка; Шлиман мечтал о раскопках Питиунта... Наконец, с шестидесятых годов прошлого века Пицунда знаменита правительственной госдачей, где лишился должности генсека Никита Хрущёв; Пицунда с тех пор и до финиша Советского Союза — модный черноморский курорт, увенчавший все ипостаси дивного места. Сюда, в лучезарную отпускную нишу, осенью, на бархатный сезон, слетались персонажи романа, составленного из двух взаимно дополняющих книг: условно «лирической», свёрнутой в «Я», и «эпической», развёрнутой в панораму лет-судеб. Легенды, сказы, пересказы, байки, споры, диалоги и монологи, исповеди и проповеди, прямая речь автора… Слово — в его многообразии, — оглашённое под реликтовыми соснами, в безмятежной среде, казалось, пробуждало её многовековую энергетику и резонировало с ускорявшимися ритмами будущего: всё вокруг неуловимо менялось, события, принимая неожиданный оборот, набухали темноватой символикой, лирические герои, не замечая того, начинали действовать и говорить в эпических обстоятельствах, а сквозь пестроту идей, тем, личных привязанностей и устремлений, сплетавшихся в повествовании, всё явственнее проступала история одной компании — фанатиков места и критиков времени, которым, как выяснилось, суждено было при смене геополитических вех уйти вслед за ним, невольно подведя черту под советской эпохой. Странная курортная общность, календарно возникавшая из сезона в сезон на берегу счастливого легкомыслия и драматично распавшаяся, оживает в прощальном взгляде. Что это было? Сейчас кажется — роскошное закатное облако, чудом вылепленное из мгновений и разрушенное порывом ветра.
СПб.: Геликон Плюс, 2018
644 с.
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
Псоу, пограничный бедлам: хвост жарко пыхтящих автобусов, у барьеров и таможенных будок – ругань, крики, плач детей, а навстречу – идущие на штурм границы старухи-абхазки с неподъёмными сумками мандаринов. «Добро пожаловать в независимую солнечную…» Наконец тронулись – такое же линялое приглашение вскоре затрепетало над въездом в Гантиади. Холодная Речка, почти отвесный обрыв, ржавые скалы, внизу – железнодорожные рельсы вдоль полосы гальки. Зигзаги серпантина и – долгожданный плавный спуск с выключенным мотором под незабываемый задорно-сладкий, по-кавказски интонированный вокал: «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх, кто повидал, тот не забудет никогда». Да, каждое возвращение в субтропическую Аркадию начиналось с этой бессмертной песенки… Высохшая, с замусоренным бетонным руслом Жоэкуара, пустынная площадь Гагарина, «Рица» с сизыми подтёками на стародавней побелке, «Гагрипш» с базальтовой, некогда торжественной, ныне заросшей бурьяном лестницей – и это главный храм курортного общепита? Облезло-пожухлый рай… Никто не фотографируется у полукружья розоватой парковой колоннады… Вот и вокзал без пассажиров. Валян, Митя, Гешка, Милка, Воля, Любочка, Владик…
Однако не только в автобусе «Аэропорт – Пицунда» на спуске к Гагре с выключенным мотором, но и в Западном полушарии возвращение в мечту начиналось для меня с пошловато-прилипчивой кавказской песенки про море и пальмы, которая, оказалось, покорила и время, и расстояние: отчаянно фальшивя, её распевал Владик, он же – Вла-Дик по кличке «Караул»; после почти тридцатилетней разлуки мы прогуливались вдоль Тихого океана по пляжу в Кармеле.
– Где твоя тетрадка? – оборвав пение, неожиданно спросил Владик.
– В ящике письменного стола…
– Достань и…
– Отработанный пар. Кого теперь могут тронуть терзания семидесятых – восьмимидесятых?
Океан лениво катил валы.
– Здесь какое-то время обитал Стивенсон, здесь дописал он «Остров сокровищ», – не без гордости и даже с нотками краеведческого хвастовства сообщил Владик, блаженно повертев головой. – А вон там, в конце пляжа, на рукотворной скале, есть даже достопримечательность для тебя, один из райтовских «особняков прерий».
И сник:
– А мне тоскливо, сосёт и сосёт, – коснулся груди. – Ил, мне так бывает муторно, так тоскливо.
Прежде, в отечестве, Владик не раскисал…
– Ил, я искал себе приключения, рыпался-трепыхался, чтобы быть не как все, но, решившись эмигрировать, я, получается, поплыл по течению?
Проглотил таблетку, пожаловался, что сердце стало прихватывать.
– Вот если бы я смог телепортировать на этот пляж всю нашу компанию… – поникший, с какой-то виноватой покорностью улыбнулся. – Не подозревал, что меня в райском таком местечке, – повертел головой, на сей раз растерянно, как бы не веря глазам своим, – замучает ностальгия.
– Ты понял, ради чего уезжал?
– Ради свободы, ради богатства, ради этой красоты… – обводяще взмахнул рукой. – Короче, ради всего хорошего, что только мог себе пожелать, и желания чудесно сбылись, однако все калифорнийские достижения мои после обвальных перемен в России словно бы обесценились.
Помолчав, Владик заговорил с детской обидой в голосе:
– Тебе-то, Ил, удалось выкрутиться, ты в своей тетрадке отрефлексировал-отрепетировал ностальгию и – избавился от охоты к перемене мест, участи, приструнил сочинительством собственную судьбу, а я… Я так и не знаю, – смущённо посмотрел мне в глаза, – было ли бы мне легче, если бы я остался.
– Каждому своё. Меня спасла нерешительность.
И тут опять Владик оживился, глаза озорно сверкнули голубизной из тёмных, морщинистых мешочков век:
– Ил, признаюсь в страшном грехе, взятом на душу: это я, искуситель, навязал тебе выбор «ехать – не ехать» и запустил творческий процесс. Я ведь многих из нашей компании, когда надумал слинять, тайно захотел осчастливить, по моей наводке не только тебе присылался вызов.
Вызов? А я гадал, кто тот непрошенный даритель шансов на заграничное преображение…
– Признание, как на исповеди.
– Разве не пора исповедоваться?
Слепило солнце, Владик надел тёмные очки.
КНИГА ПЕРВАЯ
Репетиция ностальгии
набросок к роману
О, жребий сладостный —
у моря ждать погоды.
1. Вызов
И Соснин понимал, что пишется вовсе не роман, пишутся преждевременные мемуары, всё быстрее разматывается, покатившись, клубок его собственной, убывающей жизни. Едва вызов получил, душевные силы (будто пырнули финкой) вытекать стали в невидимую рану-пробоину, и – разматывается, рвётся, торопливо связывается узелками нить дней. А конец её, нити той, без его согласия уже, оказывается, переброшен судьбой куда-то туда, в притягательное, но до озноба пугающее политическое зазеркалье, самоназванное Свободным миром; и совесть напряжена: состоится ли сделка?
Где-то там, в далёких и чудных, пока всего лишь манящих странах при симптомах подобной ломки обращаются к психиатру, а у нас в запой уходят либо, как тонущие за соломинки, за авторучки хватаются, чтобы – писать, писать, изливая на бумагу комплексы, сомнения, мечты.
Мечты?
Вот и сейчас, в открытом кафе у пицундской пристани, повернувшись к выглянувшему из-за тучки солнцу, зажмуривался и видел уже не привычную толчею швартующихся прогулочных катеров, стартующих-финиширующих глиссеров с водными лыжниками в оранжевых надувных жилетах, а призрачные города тех самых далёких и чудных стран. О них он мечтал всю жизнь: с закрытыми глазами гулял по Риму, Парижу, плавал по каналам Венеции. Но! Города-миражи он смог бы обрести, обратив их в реальность, при условии, что потеряет другой город, свой… Есть города, в которые нет возврата?
Да, такая цена: обретение в обмен на окончательную потерю.
Но переживёт ли он столь жестокий обмен?
Изнурительная странность психики: никуда ещё не уехал, не принял даже решения об отъезде, а жизненный ресурс у него, всего-то сорокалетнего, и впрямь будто бы иссякает… Да-да, рана-пробоина, опять этот навязчивый образ! И не исключено ведь, что сама идея закордонного возрождения увянет вскоре как недостойная авантюра, словно в дурном сне, словно там уже, с обманутыми своими надеждами, до конца дней осуждённый мучиться наедине с памятью.
Сосущая тоска по друзьям (ничего не мешает снять телефонную трубку, условиться о встрече), убегающие назад, исчезая в обратной перспективе, бесценные видения, звуки, запахи.
Что за напасть?
Последний просмотр для затуманенных глаз, затихающая музыка, терпкая дегустация, которая вот-вот оборвётся?
Да, всё чаще кажется, что всё, чем был жив, вскоре будет отнято у него…
Был жив – чем-то неуловимым?
Час полёта, и – как обычно, летом в Литве, на Куршской косе: собирай у кромки балтийских волн багрово-жёлтые камушки янтаря, карабкайся на белёсый склон дюны, наслаждаясь свистящей песнью песчинок, которой дирижирует ветер; три часа полёта из простудной питерской слякоти, и – как обычно, осенью на кавказском побережье: хурма, мандарины, столик в кафе у пристани, прохлаждайся под опахалами пальм, лечись йодистой ингаляцией моря.
Да что там лететь куда-то за тридевять земель, пусть в Прибалтику, пусть и в абхазские субтропики!
Наваждение: скучает до слёз по пейзажу, когда смотрит на этот самый пейзаж из своего окна.
Здесь всё меня переживёт, всё, даже ветхие… Да что там сочинённые когда-то элегии повторять! Накануне отбытия на кавказское побережье стоял на лоджии, смотрел на облетевшие деревья с серыми домиками скворешен, жадно вдыхал только что перелетевший залив сырой, с примесью гари и дыма – жгли опавшие листья? – осенний воздух; пожухлая, прибитая дождями трава, дикие утки – изящные утюжки, разглаживающие пруд, и в горизонтальную полоску, как лежачие арестанты, дома, толчея кранов в порту, тусклая рифлёнка залива, а правее и дальше, над наслоениями крыш, сушится золотая пиала купола.
И что же, он, неблагодарный, обменяет это на другие города?
Да ещё, – без навыков диверсанта – сожжёт мосты…
Пока всё, что любит, – в поле зрения, на худой конец, – в нескольких перегонах метро, где-то за углом Гороховой или выгибом Мойки, однако боязно, что вот-вот он утратит сопротивляемость и будут отняты у него эти звенья узорной ограды, эти старые тополя, клонящиеся к тёмной воде, по которой из лета в лето медленно плывёт пух, словно где-то во всемогущей инстанции уже состряпан (ждёт подписи?) акт об изъятии.
Пока – действительно можно смотреть, осязать, дышать.
Но – опять, опять! – кафкианские приставы уже изготовились конфисковать всё то, чем он от рождения владел, как описанное по приговору имущество.
И не стоило ему, оцепеневшему в нерешительности, надеяться, как на авось, на успех воображаемой апелляции, нет-нет, надо было сыграть с судьбой на опережение, чтобы сберечь в слове всё то неуловимое, летучее, что особенно ему дорого. Ну а если всё-таки в последний момент (вдруг сыграет он в поддавки?) схватит за горло судьба – обхитрить таможню и пограничников, увезти в новорожденном тексте с собой… Что и говорить, путаные намерения.
О, ему приспичило с ходу затащить в тетрадку свою всё, что было когда-то с ним, не было, в приступах жадности он не задумывался – поместятся ли, не поместятся в тетрадке громоздкие желания, безразмерные воспоминания, клубящиеся фантазии…
Впрочем, по правде сказать, не только намерения (планов громадьё), но и мотивы мук его были путаными. Вопрос поставлен ребром: или – или, однако чего ради?
Разногласия?
Ну да, на поверхности – разногласия: идейно-политические, экономические, само собой, эстетические, однако общественный темперамент его был нулевым; хотя в студенческие годы ему и шили участие в протестной акции, сам он, относясь к тому мелочному происшествию как к скверному анекдоту, никогда не хотел выходить с суровым (перекошенным) лицом на площадь, тем паче – кого-то (главного из престарелых вождей?) свергать, размахивать знаменем свободы на баррикадах, чтобы в очередной раз одурманивать-одаривать толпы посулами мифической справедливости. Ну а сугубо нравственную стойкость диссидентов, практически на смягчение государственного климата не влиявшую, лишь обсуждавшуюся в кругу Соснина вполголоса, он воспринимал с сочувственным скепсисом – ещё бы, над ним не капало: у него была своя ниша с архитектурой, книгами, Эрмитажем, где он был свободен…
Что же вывело из будничного равновесия?
Ясно: явление почтальона с заказным конвертом…
Никакого вызова он не ждал и мог бы не превращать в экзистенциальную проблему чью-то ошибку, дурную шутку или непрошеную услугу…
Но ведь не стал избавляться от маяты выбора, не разорвал в сердцах провокативный конверт с сургучной печатью и листком отменной бумаги с персональными данными на кириллице и латинскими буквами обратного адреса, не выбросил обрывки в мусорную корзину… Да-да, границы советской империи совместились с новой, идеологической чертой оседлости, а ему – молния сверкнула! – подарен шанс увидеть-таки своими глазами иноземные города?
Провокация удалась?
Он и впрямь мог бы, коль скоро решился бы поднять зад с дивана, увидеть иноземные города?
И – всего-то?!
Увидеть Рим, Венецию – далее по списку – и всё?! Что за трусливая программа-минимум? Он что, улизнуть надумал, не сжигая мостов? Подивились бы рьяные и куда более хваткие и основательные соискатели свободы: несерьёзное и наивное какое-то, если не сказать – детское желание… Чего он всё-таки захотел: участь переменить или всего-то отправиться на экскурсию? Так для исполнения столь куцего желания достаточно ведь превозмочь морально-политическую брезгливость и заверить в райкоме собственную благонадёжность… Но такой унизительный выход из щекотливого положения был бы явно не для него.
Короче, можно долго судить-рядить о принциальности его, крутить пальцем у виска, оценивая-переоценивая те ли, другие странности в мотивах и устремлениях… Ещё короче, тут трудно обходиться без лишних слов.
Шансом, однако, собравшись с духом, следовало бы воспользоваться или всё же – если опять-таки собраться с духом – отказаться от него, чтобы понапрасну не мучиться, а он…
Не зря немая сценка с невзрачным почтальоном, посланцем судьбы, и вручением начинённого динамитом конверта у дверного порога многократно будет им проигрываться, вовсе не зря…
Пугающая проблема выбора – вероятность добровольного прыжка в бездну, где якобы спрятан судьбоносный шанс на преображение, – мало-помалу подменялась раздумьями не о принятии решения – того или этого, но в любом случае способного покончить с неопределённостью, – а о том, напротив, как бы полнее и точнее выразить эту самую стимулирующую неопределённость, своё зыбкое состояние, сумятицу – свои умственные и душевные колебания.
Да, внутренние колебания – воспользоваться ли шансом, отказаться – усиливаясь, росли в цене.
И почтальон с потёртой сумкой на боку воспринимался уже как верховный (мистический?), именно их, колебаний этих, заказчик…
Даже неловко: ставки росли, он сравнивал заштатного почтальона с Заказчиком моцартовского реквиема…
По мере того как вопрос «или – или» покидал плоскость конкретного, требовавшего решимости действия-поступка, а экзистенциальная задача смыкалась с художественной, рефлексия углублялась.
И там, на глубине, было так интересно – рефлексия становилась и темой, и формой, а поисковый челнок мыслей-чувств всё быстрей сновал меж фантомами сознания и реалиями внешнего мира, которые ещё только что были ему до лампочки.
Итак, две задачи в одной, более чем неопределённой. Сценка у порога назойливо маячила в памяти, а мысль, гораздая на увёртки, как бы сама собой, помимо воли Соснина, поставленного перед жёстким выбором, выскальзывала из проблемных теснин в рефлексию, в абстрактные противоречия и иллюзии…
Роман?
Мемуары?
«И из собственной судьбы я выдёргивал по нитке»?
Не в жанре загвоздка, и уж точно не в словечке, сохранившемся в нафталине… Мемуары?
Но ведь за мемуары принято садиться на склоне лет, чтобы позитивно, как бы загодя вкладываясь в гордость потомков, описывать избранные события финиширующей жизни, а избранных спутников её, влиявших и канувших, воскрешать, что называется, в порядке их появления в биографии мемуариста.
Итак, поползла улитка: когда и где родился, кто такие, где жили-поживали, учились, служили – не скупясь на подробности – папа и мама, затем – дедушки и бабушки, фотографии коих по сей день назидательно посматривают со стены на состарившегося внука, ну и конечно, где и как сам учился, кто учителя, чем увлекался и в чём преуспел, в кого влюблялся, на ком женился…
При этом помнить надо было о чуть ли не нормативных требованиях «жизненности» литературного жанра:
Скелет «Я» должен был бы «обрастать мясом»…
А характер «Я» – «развиваться»…
Ну не тоска ли?
И – в его случае – ещё и заведомое лукавство: он ведь и словечка не собирался посвящать папе с мамой, школьным друзьям, соседям, не желал обращать внимание и на социальную паутину – нет-нет, никаких пут; крутите ли, не крутите пальцем у виска, однако для сомнительной чистоты эксперимента он вообще вознамерился поместить «Я» в социальный вакуум.
К тому же застряла в голове острота искушённого сочинителя: «У мемуариста слишком мало воображения, чтобы писать роман, и слишком коротка память, чтобы писать правду…»
Нет-нет, он не знал достанет ли воображения ему, но всё-таки – роман, тем более что хронологическая канва и зависимость от спутников жизни изначально, при промельке замысла, были отвергнуты.
Воображение – под вопросом, и опыта с гулькин нос, разве что школьные писульки; ни стишка, ни рассказика не сподобился сочинить и сразу – роман?
Да, заведомо нероманные обстоятельства, внутренние нероманные установки, и – на тебе, цель: роман!
При том что масштабно-престижное словечко «роман» Соснин, между прочим, и вовсе считал затасканным…
Куда и как ни посмотри – всюду клин.
Главное, однако, в том, что ему, ошеломлённому внезапным вызовом – опять, опять: визит почтальона, заказной конверт с прозрачным, с закруглёнными уголками окошком, в которое вписаны его имя, отчество и фамилия, адрес: кто навёл и прислал, кто?! – пора было бы…
А он топтался на месте.
Да, сшибка экзистенциальной и художественной задач создала для него новую реальность стимулирующих неопределённостей.
Но сколь бы плодотворны ни были колебания, сомнения и прочая, прочая, пора было хотя бы покончить со вздорными поисками жанра, приструнить расшалившиеся нервы, сосредоточиться и – если уж замахнулся: роман так роман – начать наконец писать, причём быстро и энергично, вплетая в эфемерную ткань попутных впечатлений-отвлечений нити какого-никакого жизненного сюжета, ибо вместе с душевными силами в рану-пробоину вытекает время, отпущенное ему время – о, это не отсылка к образу, услужливо подкинутому провидцем-параноиком с тараканьими усами (часы, стекающие со стола, – гениально!), не намёк на струящийся из колбы в колбу песок (кстати, как трогательны и зловещи белёсые ручейки, подтачивающие припухло-сыпучий бок дюны, – ничто не вечно, с нас тоже песок сыплется!).
Его внутренние часы – не механические, не песочные; а если бы такие часы и отсчитывали его земной срок, не было бы у него веры в чудотворную длань, которая, вытянувшись вдруг из-за облака, перевела бы стрелки вперёд, перевернула бы спаренные колбы, когда иссякнут пружинный завод, струя, – приближается цейтнот, надо ускорять престранную игру с силами судьбы и с самим собой, чтобы успеть перелить свой текучий мир хоть в сколько-нибудь пристойную прозу, чтобы попытаться при этом ещё и спасти тех, кого помнит (и значит, спасти себя-бывшего!), из уносящего в Лету потока.
И – вот она, сверхзадача!
Почему бы текстом самим (форма – узор строк, содержание – то, что между строк) не только таможенников-пограничников обмануть, отцедив и растворив затем в мыслях, эмоциях, словах что-то бесценное и ускользающее из всего того, вроде бы материального, что вывезти вообще нельзя, но и…
Эврика! Почему бы не обмануть пространство и время как таковые, перемучившись ностальгией, которая настигнет не где-нибудь и когда-нибудь там, в закордонном будущем, а здесь и сейчас?
Здесь и сейчас перемучиться ностальгией и – зафиксировать тягостно-летучие образы её на бумаге?
Вот ещё и благородная зацепка, оправдание отпущенных дней…
И, возможно, целительное, как иммунная прививка, опережение сочинительством всего того, болезненного, что случится (если случится!) там, по ту сторону занавеса, и прежде всего – настоящей, всерьез, без лицедейства и симуляции, ночной пытки воспоминаниями?
Совсем конкретно: в сознании правят бал время и память, так?
Ну а роман (в идеале) = (равен) сознанию.
И опять, опять, опять: попробуй-ка написать (с натуры?) сознание, да так, чтобы – получился роман…
Роман, а не рабочая тетрадь психиатра.
Пока всё, что приходит на ум – пока, никаких ограничений, свобода! – он доверяет толстой, объёмом 250 листов и форматом 128 х 200 миллиметров тетради ценою 70 копеек. Называется она, тетрадь в тёмно-зелёной коленкоровой обложке, «книгой для черновой записи шариковой ручкой», и выпустила её, книгу-тетрадь, типография «Печатный двор». «Книга-тетрадь, – откровенно сообщается тусклыми буковками на последней странице в выходных данных, – изготовлена из отходов»; ну да, желтоватые, чуть шероховатые страницы с несколькими крохотными щепочками на каждой.
В соответствии с назначением этой многообещающей книги наш престранный курортник и строчит шариковой ручкой в кафе у пристани (когда дождь), под пляжным зонтом (изредка, когда солнце), придирчиво поглядывает по сторонам, о чём-то необязательном – возникшем ли, исчезнувшем – размышляет, к чему-то позабытому, наморщив лоб, возвращается.
Спонтанно возникают наброски, нечёткие зарисовки настоящего-прошлого и даже будущего; забавно – будущему подыгрывали сиренево-лиловые кляксы от капель дождя, заброшенных в тетрадь ветром?
И вдруг – отрывочные, разделённые пробелами абзацы и строки, вовсе теряя привязку к времени, начинают рифмоваться, мысль, ускоряясь и притормаживаясь толчками памяти, кружит в спровоцированных ею же завихрениях, отсылает к истоку; как бы сама собой запускается компоновка; вычёркивания, вставки, сцепки разрозненных, пусть и расположенных на разных страницах абзацев длинными стрелками.
Азарт вольного сочинительства – счастливая безответственность памяти, воображения, глаз, руки!
Начинать же писать всерьёз трудно, очень трудно.
Какими будут первая фраза, первый эпизод?
Как задать ритм, найти интонацию?
Но деятельные сомнения, догадывается, одолеют попозже; пока, будто бы проскочив начало, страница за страницей заманивают в неизвестность белою пустотой, пока – разогрев памяти и воображения, пока – экспрессивная пестрятина набережной и пляжа, мешанина контуров, фактур, красок.
Хорошо!
Столик в углу, у барьера из продолговатых деревянных ящиков с жирными, карминными, словно увеличенная герань, цветами, стебли их – толстые, серебристо-пепельные – напоминают бесстыдно голые стволы эвкалиптов в миниатюре.
За ящиками с карминными соцветиями, в рваном окне живой стены (дикий виноград с плющом), свисающей с бетонного козырька кафе, сквозь тюль дождя – море, роща; на столе рюмка с коньяком – помогает раскачать мысль.
Пижонство, конечно, писать на французский манер в кафе, однако в непогоду – это приятная необходимость; когда дождь усиливается, в лиственное укрытие, под этот нелепо задранный козырёк, залетают брызги дождя, солёная пыль штормящего моря, и паста шариковой авторучки расползается по увлажнённой бумаге, будто по промокашке, лиловатыми кляксами.
А за цветами и колыханиями лиственной занавеси, за выносом козырька, пузыри вздуваются, делятся, скользят наперегонки по лужам, обещая затяжное ненастье, но зато – никаких отвлекающих соблазнов: пиши.
Между тем торопливая – вроде бы отвлекающая от садняще-ускользающей сути – писанина пухнет, бунтует, подбрасывает какие-никакие идеи. Это сложная, без выверенной рецептуры кухня, даже себе самому не объяснить, как из зыбких, аморфных массивов слов интуитивно выстраивается композиция странного – словесно-пространственного? – сооружения, которое и в воображении-то пока в общих чертах не выстроилось, а, как чудится, кренится, пошатывается, ибо для каждого из фрагментов его ещё не найдено единственно возможное место.
Но если – единственно возможное, то стоило ли мечтать-размышлять об открытой форме?
Здесь, пожалуй, своевременно будет отметить, что приведённые выше сомнения (равно как и сомнения, которые с иезуитским смирением дожидаются ниже) не столь новы, как может казаться; пора также предупредить легковерных, что и намерения писать поверх правил хорошего литературного тона отнюдь не новы.
К слову сказать, ещё более века назад прославленный романист, утончённый стилист и прочая, прочая, мечтал: «Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать – это книгу ни о чём, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе…»
С тех пор о написании книги «ни о чём» мечтали многие.
Некоторые даже брались за перо и, случалось – как это не признать? – добивались успеха.
Ему тоже захотелось.
Вот и пишет сейчас в кафе «ни о чём», или, если откровенно, то всего-то о двух всемогущих эфемерных субстанциях: о времени и памяти, точнее – о переживании их, времени и памяти.
Правда, об успехе – ей-богу! – не помышляет.
Итак: умозрительное словесно-пространственное сооружение… Пространственное, ибо внутренним взором он, заложник профессии своей, строит, пропорционирует и – общим взглядом, мысленно кадрируя, – оценивает построенное.
Сколько в тексте будет структурно-смысловых уровней, Соснин не знал, хотя, конечно, основные мог перечислить.
События, сами по себе пусть и незначительные, случайные, ибо не бывает вовсе бессобытийной жизни…
Сюжет, который так ли, иначе увязывает события…
Любая жизнь, если на неё оглянуться, покажется невыдуманным кладезем приёмов сюжетосложения. Надо лишь обладать зоркостью и вкусом, чтобы выбрать; нет-нет, выстрелы и погони с поцелуем в диафрагму в финале не занимали его…
Однако сюжет, даже лихо закрученный, – всего лишь функциональный шпагат, «интересно» перевязывающий пакет смыслов и символических содержаний, при том что он (достойное совместительство) и сам может стать символом – не шпагатом, так розовой шёлковой ленточкой на подарочной коробке, да ещё от радующего глаз бантика не стоило бы отказываться.
Мало того, сюжет, как проводник по событиям и предъявитель случившегося, усиливает связи в каркасе текста-сооружения.
Остальные же смысловые и символические уровни текста событийно-сюжетной направленностью не обусловлены, вольная мысль, путешествуя по двум плотным, но диффундирующим средам языка и времени (какое занудство…) в них преломляется, не забывая при этом, подобно греческому хору, комментировать действие.
Этот комментарий, разрастаясь, и подводит к тайнам пропорционирования.
Что важнее – проблемный потенциал (недурно, а?) или череда событий?
История или ее, истории, трактовки?
И – если не забывать о композиции – стоит ли доверяться ощущению перегрузки, рискованного сдвига уровней-этажей, когда многословие начинает критически нависать над сутью?
Да и элементарный здравый смысл подсказывал, что всё, что дорого ему, в текст не затащить, ведь не всякий комод-мастодонт пролезает в дверной проём.
И между прочим, дошло, что отбор, самоограничение – защитная реакция памяти: нельзя объять необъятное.
Да и время – ограничитель, хотя бы потому, что ограничен земной срок.
А пока суд да дело, время и память, каким-то образом смыкаясь и пересекаясь в сознании и непрестанно расширяя-углубляя его, отфильтровывают поток фактов, картинок-кадров…
Соснину нелегко давалось пропорционирование подвижных словесных масс, но, взявшись за шариковую ручку, он сразу понял, что от обрушения текст спасёт не паническое вычёркивание вроде бы лишних слов, фраз, абзацев, а специальное ядро жёсткости, в полостях которого, прошивая все этажи текста, снуют между первой и последующими фразами лифты сомнений.
Сомнения помимо прочего – это индивидуальная технология нейтрализации диспропорций, уравновешивания, искусного продления-поддержания устойчивости, хотя и хлопотная, небезопасная технология – приходится не только сновать по строчкам вверх-вниз и обратно, но и выбираться из текста, чтобы взглянуть на него снаружи: не прозевал ли перекос, не валится ли?
Да, использовал архитектурные навыки.
Посматривал критично на текст, как на недостроенное здание.
Если устойчивость сохранена – продолжается нагружение, если шатается – выручают сомнения в надёжности последних абзацев, и эксцентриситет, опознанный и пристыженный, исчезает.
Так, прочностные характеристики обеспечены.
А как защитить легко уязвимые нервные ткани новорождённой прозы?
Опережая читательское мнение, можно с показной растерянностью ли, самоиронией выставить напоказ изъяны своего текста, связав авторской осведомлённостью (и откровенностью) руки критиков-потрошителей, которые перед нападением лишний раз задумаются: а вдруг впросак попадут?
Или можно посетовать на несообразительность будущего (воображаемого) редактора, и тогда настоящий редактор притворится, что всё понял: это о дураках, а я – умный.
Если страницу смочили не капли дождя, а слёзы умиления, не вредно будет предупредить, что так и задумано, это, мол, не авторский бзик, а стилевой приём, и тогда его, приём этот, понимающе кивнув, оценят другие.
И развивая успех – если в подзаголовке перед существительным «роман» тиснуть прилагательное «сентиментальный», текст могут разругать за что угодно, но только не за слезливость.
Если же под заголовком кокетливо врезать: «Опыты тавтологии», то решится ли кто-нибудь расписаться в отсутствии чувства юмора, обвинив автора в безвкусном пережёвывании сказанного и пересказанного?
Можно также, к примеру, набрать на титульном листе мелким (чем мельче, тем лучше) шрифтом: «Записки эпикурейца».
Разве рискнут тогда упрекнуть автора в том, что он смотрит на мир сквозь розовые очки?
Вещи надо самому называть своими именами, и тогда…
Короче: увидев слабости прозы и открыто сообщив о них в самой прозе, так ли, иначе обсудив (и осудив) их, погримасничав и посомневавшись, можно слабости превратить в достоинства – культурные читатели в этаком самоуничижительном (кокетливом) новаторстве даже преемственность усмотрят, Стерна ли припомнив, Розанова, Олешу с Катаевым…
Здесь, однако, поджидают свои сложности: критикуя текст свой и, стало быть, себя, раскрывая секреты письма, объясняя (суконным языком) принципы компоновки, ритмики, демонстрируя приёмы, надо бы избежать взаимного исключения смыслов, да ещё хорошо было бы сохранить (как?) аромат, загадочность, а главное – лёгкость и радость до беспамятства затягивающей игры.
Если же отвлечься от текущей конкретики, представить жизнь произведения во времени, то стоило бы заметить, что обнажение литературных кодов не изгоняет художественную тайну, а средствами перекодировки может даже её роль усиливать благодаря замещению функциональных содержаний символическими: сетка фахверка на щипцовых фасадах, к примеру, давно уже превратилась в культурном сознании из конструктивной необходимости в декоративный знак, накладной, примитивно-грубоватый вензель ганзейского процветания, обеспечивающий прежде всего красоту графических членений фасадной стены и лишь попутно, между прочим, по чистому (верят ротозеи-туристы) совпадению – её жёсткость и прочность.
Тетрадка отодвинута… Посматривая на море и облака с рваными зияниями лазури, всё думу думает об индивидуальной технологии сочинительства, не зная как записать свои безответственные раздумья, не зная даже, стоит ли вообще их записывать…
Солнце, как яичный желток, обозначилось за облачной мутью, насквозь просветило плющ, угол кафе затопила нежно-зелёная тень, будто чуть пригашенная плывучая вспышка света.
А пока длилась игра сомнений: может быть, ещё сложнее? Вдруг выдержит? А если так накренится, что не удастся выправить? Снова всё сначала, и так – без конца.
Нагружал текст словами-смыслами, рисковал устойчивостью конструкции, которую изначально хотел видеть сбалансированной, но лёгкой.
Добиваясь открытости и непреднамеренности, а заодно прозрачности, рисковал и вовсе потерей формы: хождение по проволоке без страховочной лонжи, без натянутой внизу сетки, без подстеленной соломки, в конце концов.
И параллельно с рискованной игрой сомнений – невнятное проборматывание, смутное планирование, да что угодно из нескончаемых потуг сочинительства, лишь бы не задумываться всерьёз о стиле-форме, структурной организации строк, страниц. Набегает зыбь необязательных мыслей, провоцируя отдаться внутренним импульсам и бегу шариковой ручки по влажной бумаге: интересно, что напишется через две, три, четыре страницы и на какое слово упадёт, уродливо расползаясь лиловой кляксой, новая капля?
Лукавый вопрос: надо ли о чём-то ещё (разумном, добром, вечном) писать, когда вокруг столько привлекательных мелочей, когда так гладко пишется «ни о чём»?
Узкий длинный листок выхватил ветер из трепетной занавеси плюща… Листок медленно, покачиваясь, спланировал.
Вот и ссылка, вот-вот: ловить ли бороздящий воздух листок, любоваться ли листьями из воображаемого гербария и записывать то, что видишь, думаешь, чувствуешь, как записывал то, что почему-то теребило ум, Василий Розанов, писатель-философ с лавиной пёстрых (порой препротивных) мыслей, занося их в тетрадь где придётся и помечая в скобках: за нумизматикой, на улице, СПб – Луга, вагон. О «чём» же и «как» пишет он? «Шумит ветер в полночь и несёт листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства, вот и решил эти опавшие листы собрать в короба. Зачем? Кому – нужно? Просто – мне нужно. И много всего нужно разного».
Что за гомон и весёлую возню затеяли птицы в виноградно-плющевом занавесе? Взрыхляют мокрые листья, щебет, трели, гам. Прошили-простегали листву солнечные лучи, пятнисто разбросали акварельно-прозрачные зеленоватые тени, и – подожгли рюмку, нетерпеливо заёрзали по пластмассовой столешнице, каменному полу, пористой, из туфа, стене буфета с глянцевой – снятой с вертолёта, – дивной сине-зелёно-голубой панорамой курорта, забрались в пепельницу, высушивают бумагу с кляксами, и можно, позабыв о творческих муках, весело подпевать птицам, созерцать непристойную пляску бликов, радоваться, хлопая в ладоши: дождь прекратился, сквозь клочковатую рвань улыбается солнце, а над блещущими ноздреватыми плитами набережной клубится пар. Хорошо, можно на минуту-другую позабыть о тетрадке и смотреть не без зависти, как за глиссером (выстояв очередь и заплатив рубль) проносятся лыжники.
Одни, новички в спасательных оранжевых жилетах, корчатся в нелепых позах преодолеваемого испуга: напряжение неумелости.
Другие научились держаться на вибростоле воды и, набираясь уверенности, гордо машут знакомым.
Третьи – виртуозы, в руке фал, свободная рука непринуждённо отлетает в сторону на крутых, вспарывающих лыжным плугом волну виражах. Совершенство?
Для прозы, однако, совершенство недостижимо, прозе, оказывается, много всего нужно разного, если же речь о каких-то критериях качества, то нет их, критериев для всех, они сугубо индивидуальны; можно лишь предположить, что прозу всякий раз формирует особое сочетание неумелости-наивности, уверенности-самоуверенности и виртуозности, чтобы всё-всё-всё чудесно срослось: как в жизни.
Вот и несводимость начал, задач, вот и новая разбалансировка целей, спор смыслов и стилей…
Сочетая разные – сущностные и формальные – разности, стоит ли открещиваться от влияний?
Соснин настолько вдруг осмелел, что уже упрёков в подражательности и даже вторичности не боялся, во всяком случае, сейчас. Что будет с его предпочтениями потом – посмотрим, сейчас его идеалом была эклектика.
И ещё.
Отточенность, отглаженность, дистиллированность стиля можно похвалить, попытаться перенять даже, можно над такой зачищающей всяческие шероховатости старательностью и посмеяться… Ох, ветер, музыка из транзистора: листья желтые кружатся, падают, только успевай подбирать, вот один желтовато-зеленоватый еще, но с коричневыми пятнышками листочек и на раскрытую тетрадь опустился.
– Аскольд Васильевич, читали пародию на изумрудный наш… забыл, какое слово-то ещё в заголовке?
– Венок! Только, по-моему, алмазный, а не изумрудный.
– Да, да, правильно, и ещё, кажется, не наш, а мой…
– В-в-верно, и в-вспомнил, н-не венок в-все-таки, а в-венец, не исключено, что это строчка из Пушкина, в-в-впрочем, не р-р-ручаюсь за т-точность, не важно…
– Конечно, Роберт Фёдорович, не в том суть, венок ли, венец, ну так как, вы читали пародию?
– Д-да, о-о-остроумные с-стихи.
– Нет, я имею в виду прозу, всего пять страничек, но остро и точно, убийственная характеристика новомирской псевдосенсации.
– Не у-удивительно, А-а-адочка, эту в-вещицу зарапортовавшегося на с-с-старости лет В-валентина П-п-петровича легко п-пародировать. (Из диалогов в автобусе; перегон Дом творчества кинематографистов – «Литфонд»).
А то, что пишется сейчас, легко пародировать?
Еще бы!
Влияния, разумеется, чувствуются, их не спрятать, только индивидуальность – сильнее. Вот трое – каждый по-своему, но блистательно – разработавших разные пласты языка, умевших в комбинациях слов выявлять их исчерпывающее значение.
А заголовки сами по себе, заголовки?
«Дар», «Котлован», «Мы» – смысловая весомость, ёмкость одного слова, которое делается концентратом-аналогом всей вещи!
Соснину, однако, всё чаще хотелось думать, что «это было, было и прошло», что в пору молодого натиска аудиовизуальной шпаны (квазихудожественного примитива, не способного к самовыражению вне видимой феерии действия) и ослабления слова, писать стоило бы как-то иначе, извлекая затруднённые, неявные звуки…
Нда-а, опять путаные намерения, но – вперёд?
Главное, уже думал он, перепрыгнув через славное прошлое литературы, искать свою точку зрения – откуда выглянуть? Куда заглянуть? – пока контекст не пробудит в инертных фразах символические значения и не сложится (как бы сама собой?) отражённая и преображённая в борьбе мысли и слова форма.
Однако возрастание семантической роли связей между элементами текста не означает отказа от воздействия на восприятие самих элементов, семантику связей лишь надо представить-подать иначе – выделить, не балуя лёгким успехом курсива, а без пререканий поощряя в каждом слове, строчке, абзаце болезненно самолюбивое стремление к выделению, самоопределению… уфф, о чём он?
Перечеркнул несколько мутных фраз.
А о чём думает он (хронически неудовлетворённый собой) сейчас?
О том, что хочет писать не так, как уже писали до него, не так, как писал он сам на предыдущей странице, которую только что закончил (временно одолев себя) и (со вздохом) перелистнул, короче – хочет писать лучше, чем может?
Похвально.
Время идёт, и литературные кудесники психологического анализа, не выдерживая в новом веке конкуренции с психиатрами, бросаются в клоунаду, сатиру или – вот путь! – замыкаются в формальных поисках: комбинаторные игры, словесный поп-арт, пасьянсы из знаков.
И в чести художественная хиромантия – поиск линий жизни на бугристой ладони времени, узоры, узоры, пересечения траекторий передвигаемых внутренними и надличностными силами фигур, эстетическая самоценность судеб.
Поэтизированный блеф прозы с ворсистой фактурой бездействия полнится намёками, завязками ассоциативных ходов, набухающими в тягучей загадочности почками смыслов, смутными обещаниями развернутых, опоясывающих метафор; воздушность прошелестевших ветерком слов и тяжеловесность страниц; ориентированное, казалось бы, напряжение, но – не понять, что именно направляет его и поддерживает: внешне ничего не случается, растёт только ворох сомнительных векселей, мечутся в поисках лучшего места меченные контекстом слова-атомы, множатся, коченея на учиненных беспечным ветерком сквозняках, обрывки каких-то чувств, намерений, состояний создающей и пожирающей нас внутренней жизни, рефлексии. Волнующая, сладкая, как истома, горечь потерь, терпкость прощания (мысленного, слава богу! Посмотрим ещё, случится ли настоящее прощание-расставание), и неожиданно прокалывают острые, с привкусом талого снега в тропиках воспоминания, и прошлое смеётся и грустит, и злоба дня размахивает палкой, и буравит тревогою ожидание предстоящего, а чего ради может понадобиться столько слов – никак не понять истекающему желанием высказаться автору.
О, желания, замах (отваги не занимать) – ого-го!
И рябит в глазах от букв, слов, строк, абзацев, и пока неясно, к чему же приведет компоновка, – вербальное сооружение возводится без проекта; нельзя до дверных ручек спроектировать город, задохнется в скуке, по схожей причине и писать стоило бы на вырост, не боясь разнородности, монтировать по коллажному принципу кусок текста за куском, загадывая, уточняя и ломая свои же схемы, пока не соберётся (спорящий с самим собой?) массив текста и в болезненной адаптации к раскадровкам многосерийного замысла не прорежется композиция… Всё слишком сложно замешивается, чтобы предвидеть, что и как должно получиться, не представить даже, какой к роману подойдет заголовок.
Выбор?
Между жизнями?
Вынужденное (чем?!) прощание?
Протокол ожиданий? (Чего?)
Преждевременные мемуары? (Зачёркнуто.)
Опись потерь?
Колебания в пустоте? (Точно!)
Сентиментальные сновидения? (Плохо.)
Цветные нитки (те, что выдёргиваются из судьбы)?
Нет, нет, всё это скорее сгодилось бы в подзаголовки…
На качелях?
Неслучайные впечатления? (Да, неслучайные!)
Нет, не подходило, не сходилось клином, не присваивало безоговорочно право занять белое поле листа над всем, задать ноту, движение, породить контекст, продиктовать образное строение, завязать узлы, раскроить ситуации, чтобы в вихревом развёртывании текста испытать обратные влияния, впитать, как губка, новые, на ходу догнавшие смыслы, расшириться, разбухнуть, наполниться, вступить в игривый флирт с подзаголовком (если появится), первой, одиннадцатой, последней фразой, системой разбивок, перебивок, отступлений и снова значимо, солидно, царственно застыть на обложке, обнимая, благословляя книгу, но и дразня её тоже, внушая лёгкое недоверие не только ко всему сумасбродно наплетенному в ней, но и к своему, никаким законом не подтвержденному праву на исключительность.
Сначала – впустить призрачный, тающий на глазах туман собственных мыслей в глухие (если повезёт, гулкие) тупики книжных умствований, сплавить глуповатые, сонливо-благоговейные, иногда безвкусно-яркие пейзажи воображения, душевную сумятицу, ужас, неловкость, стыд, половую распущенность и политическую неблагонадёжность, запой, буйное и тихое помешательство, детский негативизм, старческую привередливость, прискорбное отсутствие авторитета, имени, репутации, шаткость эстетических позиций, бескорыстие, интуицию, растерянность, бессилие, малодушную веру в подкрадывающиеся приметы, рассеянную улыбку равнодушно отказывающегося от предписаний врача пациента, звериный аппетит к жизни, искусству, красоте, лакомствам, инфантильность, неприкаянность, скованность духа, подвохи, обманы, правду, ничего кроме правды, игру в правдоподобие, прихоти, хвастливость, шалости, подозрительность, неполноценность, угрызения совести, мнительные оглядки, исключительность, авантюризм, мизантропию, злость, весёлость, шутку, розыгрыш (и ещё раз – розыгрыш!), резонерство, снобизм, эстетство, камуфляж филологических штудий, скепсиса, словоблудия, доверительного тона, жалобных, с мольбой о сочувствии интонаций, безмерного сострадания к самому себе, паломничества в себя, в гнусные бесконечные миры прозябания, раздвоение, растроение, раздробление, самопринуждение, самопожертвование, самообнажение, самоуглубление, самоотречение, саморазвенчание (клякса, ещё клякса)………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… истязание (бичевание), саморасщепление, саморазрушение, самообуздание, самомоделирование, самолюбование, самовосхваление, самоотдачу (цель творчества), самовыражение городского анахорета, терпеливую – по подсказкам и наитию – реставрацию (имитацию) прошлого, препарированные ощущения, меланхолию, продление сладостного умирания души, внезапные чудеса оживления, ловлю флюидов, трансцендентные кошмары и сладкие воспарения, нецензурно-своевольную трансляцию индивидуальных желаний, переживаний, художественную искушенность, тягостную эксплуатацию мифов, чужих строк, всего, забивающего интеллигентскую голову культурного мусора, попытку пробиться зелёными побегами сквозь заложенные давно фундаменты, патологический интеллектуальный эгоизм, солипсизм, демонические пороки, ригоризм и снова – резонёрство и иррациональный гротеск, идеализм, нигилизм, независимость от политической конъюнктуры, поэтической моды, скованность её знанием, декадентскую вседозволенность, восприимчивость, боль, отягощение прошлым и будущим, невесомость в настоящем, непатентуемое умение выманить из темноты, подманить, заманить смутно брезжущий смысл и – поглотить его художественной структурой, считая всё это (скопом и вразнобой) исконным (для себя) условием сочинительства.
Испытал включённость в материал, обрёл понятия (свои, для себя), но едва расширял обзор, пытаясь по-новому, иначе, описать лицо, явление, предмет, как понимал (и то хорошо!), что усвоил не исчерпывающие понятия об объекте, а всего лишь собственный и всегда недостаточный понятийно-языковой аппарат мысли, алчно кидающийся на поиск дополнительных средств выражения, обрекая себя в каждый момент всё начинать заново, чтобы подступаться к замышленному объекту с разных сторон снова и снова.
И ещё об аналогии.
Всякое здание строится по проекту.
А тягучие, кажущиеся необязательными рассуждения о письме, о способах (всегда индивидуальных) преодоления препятствий складываются мало-помалу в проект романа, дополненный ещё и («роман романа»?) внутренне конфликтной пояснительной запиской к нему.
Поисковая обречённость художественного сознания упрямо перетекает в обречённость не достигающего ясности истолкования, единственная (иллюзорная!) возможность которого сообщить что-либо законченное каверзно обусловлена принятием некой системы аксиоматических ограничений. И вот весь творческий пыл растрачивается на их выбор. Слова, слова, полный рот распухшего языка (кляп?), и равносильно это его, языка, отсутствию, немоте: не высказать, не выдохнуть смысл – копятся лишь скучные слова про запас. Надо обосновать как-то выбор ограничений, и никак не перейти к сути, не начать. Увязает в формальных приготовлениях; смысл, идея, форма, содержание, похоже, сводятся к психотехнике самонастройки, к бесконечной заточке карандашей: сломаешь грифель, порежешь палец – событие!
А ещё поджидает философски неотвратимая третья обречённость – общения: поймет ли кто-то сбивчивые твои объяснения?
Так получился заколдованный круг: единственным реальным шагом, который он, оказавшись перед выбором, вопреки сомнениям своим смог предпринять, было заполнение словами этой тетрадки.
Собственно, этот растянутый на отпускные недели шаг и стал его шансом.
И опять двадцать пять: зачем?
Самое время хоть теперь бросить увязающую в невнятице писанину. Если вызов получил – а это факт! – не лучше ли неправильные глаголы учить?
Отпуск вот-вот угробит; что-то настрочил, много, быстро, не без находок, но – продолжать?
Дело вовсе не в том, что (непривычна зеленая паста авторучки, надо бы заменить стержень на фиолетовый) не будут интересны эти посаженные на протёртую философическую подкладку пассажи. Умозрительность, казуистика… Для себя писал, и сколько бы ни морщил лоб, пытаясь выбираться из психологических тупиков, а зимой, всего через несколько месяцев, их, пассажей этих, собрание, вопреки их натужной серьёзности сам сможет воспринять как нечто скоротечное и необязательное, как бумажно-чернильные отходы курортных романов: номера не нужных в городе телефонов, с трудом припоминаемые, уже докучливые подробности (кадрил на пляже? Танцевал на верхотуре в баре «Руна»?) – ну и слава богу, продолжать-то зачем?
И всё неясно, аморфно: месть внежанровой прозы.
Дневник?
Вот именно: облака – с натуры, силуэты зданий – с натуры, пусть и с какими-то добавлениями «по памяти», и конечно, цветные нитки…
Нет последовательности достоверных событий.
Что было, что случилось – так, туман: среда смутных лет.
И сплошь тонкие материи: изнанки, подкладки…
А тонкие материи – неизбежно? – скользкие, точней, ускользающие.
Беллетристика?
Куда там! Нет ничего дальше: сюжет, едва завязавшись, в ожидании занимательных событий провис, интрига, едва наметившись, выдохлась, эка невидаль – типовая ныне бытийная маята: ехать – не ехать и, соответственно, покупать гжель и палех – не покупать.
Эссе?
Такое бессвязное?
Да ещё с перебором громких слов?
Но ведь и не о чистом искусстве речь…
Откровения?
Хватил… Откровения остаются таковыми, пока не выговариваются вслух, пока не доверяются бумаге…
И о чём же художественно насущном, важном способен поведать сумбур индивидуальных сомнений?
Этично ли не претендующий и на толику интеллектуальной значимости стриптиз выдавать за оголение нервов творчества, пружин искусства? Тем более что в нашей ханжеской культуре нет эстетизированной традиции раздевания, хорошо ещё – никто не прочтёт, а то бы засвистели, скрутили и повели, злобно сопя, в отделение, как нудиста с общего пляжа.
Нонсенс: самокритичный Нарцисс глядится в зеркало и остаётся недовольным собой. Сомнительные отношения с соперником-двойником (соавтором? соглядатаем?), попытки спихнуть с себя на себя ответственность. А ещё – конформирующий еретик, торопливый пешеход, прикованный к перекрёстку: все четыре угла манят, во все стороны тянет, а переминаясь, порываясь шагнуть, лишь заносит ногу и стоит на месте – даже жанр письма предпочесть-выбрать не может, пробует разные, имитирует, повторяет (по-своему!), ищет… Но может, эта невнятица и есть его жанр, отвечающий его внутренней сути беспутный путь? Ничего готового, найденного, отстоявшегося; непрерывное, текучее становление, навсегда размягченный костяк смысла; курьёзно захламлённая лаборатория, вызывающее справедливые протесты общественности путешествие на (за?) край искусства – сколько до него было уже самозванных первопроходцев, но, может быть, он свой край ищет?
Да, распогодилось… Надолго ли?
Солнышко продавило плющ, хлынули под козырёк, запрудили кафе прозрачные зеленоватые тени. Море поблёскивает в прорехах колеблемых бризом листьев, и впору вообразить зимнее подведение итогов: он дочитывает затрёпанную тетрадку, а в узком стекле балконной двери артистично организованный мир, брейгелевская идиллия – посеребрённые инеем густые ветви коренастых деревьев, ультрамариновая лыжня, снежный вал, окаймляющий замёрзший пруд, пёстрая круговерть детей-конькобежцев на планшете льда. Подошёл ближе к балконной двери – кадр расползся, с вороватой поспешностью вобрал в себя, что попало, разбросал в пустоте: стучит, болтается на стыках трехвагонный трамвай, пробка у светофора, жирно дымят высокие трубы ТЭЦ за полосатыми коробками… Какой там Брейгель, рядовая иллюстрация к пустырной блочно-панельной скуке, как посмотришь – то и увидишь…
И вполне в этом наборе строк можно при желании увидеть одну из небезинтересных форм познания душевной жизни через художественный опыт, наполненный, с одной стороны, неподдельным (?) чувством и самообнажением мысли, с другой – омертвлением и чувств, и мыслей в мучительных, мнительных, порой тягостно болезненных процедурах конструирования (и автокомментирования) композиции – свободной композиции, ищущей правила.
Какие следствия?
Интересное, итоговое: разлад между Я и творчеством.
Или, допустим, промежуточное и сугубо функциональное – погружение в Я, вполне объяснимое: как иначе, если не наложить пластырь на пробоину изнутри, хотя бы замедлить утечку времени?
Но одно дело, когда Я – это персонаж(герой) текста.
А когда этот персонаж-герой – ещё и автор?
И раздвоение такого, заведомо многоликого автора на Я и ОН, на первое и третье лица, связанные родственными узами (может быть?), усугубляет (сгущает?) в тексте саму художественность, обнажая её родовые признаки – неопределённость, зыбкость, загадочность: автор как существо достоверное (имя, отчество, фамилия и даже адрес – в паспорте) в качестве героя ещё и на свой страх и риск действует в придуманном и, значит, деформированном, «неустроенном» мире…
Наслоения планов изображения?
Пресловутые смешения искусства и жизни?
«Лиризмы», орошающие полынную сушь анализа?
Возможно.
И многое ещё (слова, слова, слова) в том же «противоречиво-промежуточном» духе…
Глоток.
Психологическая игра без правил?
Только не раздвоение автора-героя (персонажа), а как минимум растроение: Я – ТЫ – ОН.
Допустим.
Первый (я) – автор-созерцатель, прильнувший (сострадательно?) к иллюминатору, – заглядывает в операционную.
Второй (ты) – автор-созидатель, собравшийся наконец с духом, натянув перчатки и маску, наклонился над распростёртым телом (героя? Всего текста?), погружает смело в живую ткань скальпель, ловко орудует зажимами, пинцетами и прочим нержавеющим хламом-инструментарием.
Третий (он) – произведенный на свет вольным воображением, взглядом со стороны и конструктивным усилием герой-недоносок: да-да, родовая травма, наследственная ущербность чувств, консилиум (Я и ТЫ) решился на пересадку (души?), однако автор в первом лице (Я) сбежал, испугавшись; жаль, трансплантация срывается, хотя лучшего донора для уникальной операции не найти, у них, разноликих родственничков, ведь потенциальная совместимость сенсорных тканей.
Отшутился?
Итак, схема (Я – ТЫ – ОН) заявлена и тут же скомпрометирована, поскольку не учитывает реальной сложности промежуточных психических состояний при спонтанном обмене лицами – кто знает, меняются ли выражения лиц? – суета переодеваний, но каждый из трёх игроков-лиц пускается на всякие хитрости, чтобы, вживаясь в двух остальных, поочередно вытеснять с доминирующей позиции один вариант своей личности двумя прочими:
я – ты – он
я – он – ты
ты – я – он
ты – он – я
он – я – ты
он – ты – я.
Однако усложнённый танец ролевых масок имеет мало общего с трёхтактными фигурами менуэта.
Сухо: шесть видов взаимодействия (схема – в механическом движении) исчерпывают математическое, но отнюдь не психологическое число перестановок, тем более что схема, теряя или приобретая элементы взаимодействия, постоянно меняет наполнение, так как весомость какого-нибудь лица (я – ты – он) в определенной ситуации становится исчезающе мала.
Не отменить ли их, лица-местоимения, вовсе? Обезличить текст, убрать героя, оставив только импульсы сознания, волнение – а уж чьё сознание, чьё волнение…
Автор ведь не только (распадаясь на Я и ОН) ведёт перекрестный допрос персонажей, не только (распадаясь на Я и ТЫ), как оборотень, вселяется в героя (и текст), чтобы рассмотреть и починить его изнутри, или прикидывает, какие именно поведенческие одежды стоит подобрать в психологической гардеробной, но и в апогее индивидуального просветительства перевоплощается (целиком) в явно свихнувшегося мецената, который вопреки занятости потворствует амбициям сочинителя и зачем-то финансирует (время – деньги) его сомнительные затеи.
Воспроизвести мозаику переходов во всей сложности психологических нюансов вообще вряд ли возможно: ее, такую воображаемую мозаику, образует синхронное сочетание разных уровней и состояний психики, двойные, тройные мысли, чувства и образы, сосуществующие в данный момент в одном, возомнившем себя автором человеке.
А существует ещё ведь метаавтор с неограниченной свободой действий, способный даже уничтожить (?!) структуру внутреннего Я в потоке психических излияний.
Вообще же, суть этого эфемерного Я, раскрывая несколько прямолинейный девиз Соснина (Я – это Я), можно представить и в виде обобщения Я = (Я – ТЫ – ОН), не претендуя, конечно, на строгость формулы и подразумевая, что разноликое выражение в скобках несёт всю количественную и качественную сложность взаимопроникающих психологических переходов.
Впрочем, стоит ли снова вязнуть в рассуждениях? Лучше бросить запутанные отношения героя-автора со своими эфемерными конфидентами и своим созданием – всем текстом там, где клюнула бумагу последняя точка.
Бросить, но не выбрасывать.
Рукописи ведь не горят; когда-нибудь наткнутся случайно в ящике стола и прочитают… Вдруг и этот сеанс интроспекции покажется интересным?
И все психологические ухищрения-превращения автора, этакой ходячей метаморфозы в штанах, нужны исключительно для него самого, для того, чтобы гражданин Соснин, маскирующий смиренным ликом и ординарными паспортными данными своими художника, смог что-то запретное тайно вывезти за кордон?
Что-то?
Ну да, он ведь не знал, что в конце концов у него получится.
Но опять, в который раз: зачем вообще писать, когда есть не подлежащая (лучевому?) досмотру память – никто не отнимет, не обложит пошлиной.
Ах да, самовыражение… Память ведь сама по себе, какая есть – такая и есть; не поднимая глаз на море и небо (свихнулся?), торопливо, сгорбившись, заполнять кривыми кляксовидно расползавшимися строчками эту тетрадь, когда самому зимой она может показаться легковесной макулатурой?
Зимой?
Тёплый ласковый ветерок, в солнечном окошке, пробитом в лиственной завесе, всё ещё блещет море, а он навязчиво – уже в который раз! – вспоминает-воображает зиму…
Ритуально почёсывая затылок – писать или не писать? – он на время забывал про вызов в конверте с прозрачным окошком и, стало быть, про саму проблему выбора: ехать или не ехать?
Но после сеанса сомнений какая-то сила изнутри и будто бы самопроизвольно вновь принималась толкать его, он писал, писал и, чтобы набрать инерцию непрерывной работы и предусмотрительно облегчить начало завтрашнего дня, не записывал сегодня всё то, что уже наметил, – резервировал, как Шахерезада, которая, избегая казни, откладывала на следующую ночь половину сказки.
Роман как игра словами?
Или игровые мемуары не для потомков – для себя?
Пусть – беллетризованный дневник (?), робкая и наглая попытка реставрации и легализации черновика чувств и событий, их бесплотного, скользящего в сновидениях пунктира. Увы, всё, что было, невосстановимо, но надо, если уж ввязался, продолжать: ради иллюзии нерастворимости прошлого, драгоценного мига сделанности, полного исчерпания художественного импульса – донести, освободиться от ноши (замысла? Такого невесомо-неопределённого?) и перед последней чертой (точнее, точкой) вымолить у самого себя индульгенцию.
Какая разница, прочтут – не прочтут?
Надо безо всяких честолюбивых расчётов, без осторожного подстилания соломки писать всерьёз, иначе – зачем?
Остановить мгновения, их череду, но не потому, что они прекрасны, а в знак сопротивления вселенской несправедливости; всё, чем жив, словно куда-то спешит, уносится, исчезает-истекает вдали (и да-да, вытекает в пробоину), никто, кроме него, не пытается мгновения сберечь, а время притормозить или… обратить вспять?
И смакуя горечь, он, словно собиратель осенних листьев, какими-то затуманенными глазами глядит на мир.
И ничего не видит.
И параллельно внутри – вечная игра! Огни. Блёстки. Говоры. Шум… Шум бала. И, как росинки, откуда-то падают слёзы… Это душа о себе плачет.
И пусть – сентиментальщина, мелодрама, Бедная Лиза, Дама с камелиями и прочая, прочая, зачем смущаться, сиротливо прятаться, тайком, уголком надушенного батистового платка промокать покрасневшие, как у кролика, глаза, виновато оглядываясь, шмыгать переполненным чувствительной влагой носом… Ох, нет, нет, не впадать в слезливость, как, впрочем, не надо и симулировать скупость чувств через силу – сжатые челюсти, желваки, волевые подбородки (лопатой), стальные взгляды и прочие регалии сдержанных, немногословных, прячущих душевное волнение в пещерах подтекста настоящих мужчин; он – не настоящий и, между прочим – да-да, реплика в сторону, – ничего, кроме пустоты, не находит в многотомных библиотеках оскоплённой стилистами прозы…
Мешает или помогает ему какой-никакой литературный багаж, к тому же прослоенный киновпечатлениями?
Когда со скрежетом начал раздвигаться железный занавес, запоем читали про автогонщиков, прошедших войну, про уставшего, раненного на войне лейтенанта и – само собою – про их подруг, чарующе угасавших под конец книги (между прочим, он не трепетные страницы походя задевал, а тех, кто ими зачитывался); долой хеппи-энд, несчастье в финале – свидетельство хорошего вкуса и – неотвратимости: бесконечное беспечное счастье невозможно, в предпоследнем абзаце красивая молодая женщина должна умереть. Рок всесилен, но демаскируется он, затачивая косу дряхлой подсобницы, не только в городах с островерхими крышами, не только в щемяще-стерильной белизне и синьке швейцарских Альп, за чистым, в нежных морозных разводах окном; да-да, рок повсеместен, но прицелен, в каждый миг выбирает новый адрес; рок, к примеру, подкрадывается уже к одному из домов на Исаакиевской площади, тому, чей фасад обращён к западному портику собора, и мы в этом вскоре убедимся…
А пока – молча страдающий герой в благородных раздумьях (восковая фигура в литературном музее?) застыл у пуховой постели любимой. Мало ли что может случиться: неудачные роды или тихий печальный конец в палате дорогого туберкулезного санатория. Милые, самовлюбленные и (при гибкой стали мужских доспехов) легко ранимые алкоголики – иные набирались формального мастерства под патронажем властной литературно-салонной дамы – эй, поколение, что вы там (неужто идеалы?) продолжали терять на длившемся у обитых цинком стоек монпарнасских кафе празднике или выслеживая носорогов среди зеленых холмов с видом на снежную шапку Килиманджаро? Похмелье? Да, был ещё маленький роман – его радостно разругали литкритики, посчитали провалом – о любви юной аристократки и бывшего лейтенанта – стареющего, даже умирающего внезапно полковника.
И как, когда свежесть идей и стиля («новаторство») заместились вторичностью, перепевами наскучивших мотивов?
И в итоге ещё одна, хотя и облегчённая, смерть в Венеции, во всяком случае, неподалёку от неё?
Не помню точно, где именно бывший лейтенант в чине полковника умер, и название книги забыл… «Там, за рекой… в тени…» – длинное какое-то название, вялое и невразумительное.
Погорячился…
Невпопад и наспех раздал сестрам по серьгам…
Да ещё просквозила какая-то ущербно-завистливая ирония (что за муха укусила? Вслух бы такое не рискнул сказать).
Однако написал (ляпнул), не покраснев, и – забыл?
Вычеркнуть?
Пересохло горло; глоток.
Предположим, я, простите за нескромность, талант, рассуждал (продолжал ёрничать) после этого неприлично смелого и путаного (смело запутанного?) абзаца Соснин, тогда у меня сразу (кто спорит?) появляется одна сестра – краткость.
Но другая сестра моя – жизнь, а жизнь – как город, в котором таинственно и непреложно сцеплено всё: голоса, мелькания лиц, мотивы чувств и поступков, споры стилей, завораживающая пестрота толпы, и не стоит стыдиться слов, подробностей, умиления, разве красоты и дымы города не одинаково глаза щиплют?
На город можно посмотреть как на свехсложную (и желанную) пространственно-временную модель объёмного литературного текста: сбивающий с толку новичка свободный выбор направлений движения, бодрящий и усыпляющий калейдоскоп впечатлений, случайные и запланированные встречи, поцелуи и расставания на виду равнодушной орды горожан-зрителей, к которой принадлежишь и ты сам, жадно, порой безотчётно впитывая бушующий, дребезжащий, толкающийся и звенящий, гудящий, напевающий и пританцовывающий мир домов и людей, объединивший, преобразовавший и продолжающий преобразовывать множественность миров; фрагмент скруглённой колоннады, срез фасадного фронта, уходящего в перспективу канала, верхушка думской башни – всё вместе, всё непреложно, как на открытке? Да-да, между тем всех нас, праздных, фланирующих по Невскому (по солнечной стороне), или бегущих, опаздывая, вспотевших в транспортной давке и магазинных распрях, услужливо обмахивает веер альтернатив, нашептывая (по инерции) усыплённому ли восторгами, отупевшему рассудку, размягчённым и контуженным чувствам главное, может быть, впечатление: структурное единство разного, цельность.
Предположим.
Но это – город, стихийный и упорядоченный, а при чём здесь литература?
И разве не хромают все аналогии?
Откажемся от «придуманной» компоновки строк, пусть из абзацев непреднамеренно соберётся какой-никакой узор – быть может, текст сделается живым, естественным…
Или присмотримся к опытам авангардистов – вовлечём, к примеру, в компоновку читателей, используем их пожелания: сначала об этом, затем – о том; а вот – варианты конца, на выбор…
Подобные новации почему-то не прижились.
Фокус, однако, в том, что возможность пространственного путешествия по развёртывающейся во времени прозе обеспечивает совсем другой, чисто городской принцип взаимодействия элементарной (в киоске купленной) схемы и самостоятельно постигаемого городского многообразия.
Схема (сведения о плане, топографическая картинка), последовательно дополняясь, усложняясь и реконструируясь по мере узнавания города, хранится в памяти и активно (но незаметно) корректирует наши намерения, пока мы бродим по улицам, смотрим (не глядя) на пышную лепнину фасада, натыкаемся на подсказки афишной тумбы, вздыхаем у дорогой витрины.
Как же – по аналогии с прогулкой по незнакомому городу – воспринимается не написанный ещё текст?
Не успев довериться общей ли схеме, избранным «методом тыка» фрагментам, деталям плана, можно даже незаметно схему сложить-убрать и писать-гулять на свой страх и риск, но также можно мысленно (когда пишешь) увидеть невзначай более подробный рисунок характера или действия, увидеть новый дразнящий намёк на приём и тут же – прикрыть рукой или спрятать от самого себя за спину написанное, и снова писать, и так ли, иначе заводить себя многократно, усложняя игру, развивая схему, меняя её масштабы, степень подробности, широту охвата, заглядывая (условно) то в центр, то в пригороды, овладевая системой лишь намеченных (в городе – замеченных) ориентиров, боясь заблудиться, но решаясь на прогулки по не освоенной ещё странице-местности.
Так пишется (со скрипом) роман или – прыжок через сколько-то сот страниц – уже читается?
Ну да, в самом процессе письма зашифровывается ведь и процесс чтения…
По сути, приступая к чтению спонтанно возникавшего, не следовавшего хрестоматийным правилам письма, мы, словно очутившись в незнакомом городе, интуитивно готовимся к захватывающему путешествию, которое вообще-то вольны начать с любой (даже первой) фразы, самонадеянно почувствовав, что готовы понять тайнопись, и если всё же заблудимся, то не будем звать истошно на помощь, постараемся своим умом сориентироваться…
И визуальные ориентиры дополняются образными, общезначимыми и личными, текст, развёртываясь во времени, наполняясь и заряжаясь символами, связями, смысловыми параллелями, обживается, как городское пространство: дома, двери, окна, дворы, улицы, фонари, аптеки, булочные, трамвайные остановки окрашиваются воспоминаниями, надеждами, отношениями. Путешествуя (читая), мы ввязываемся в диалог с собственным прошлым, каждый раз переносясь в него заново: на этом углу – забегаловка, в которой… Ох уж эти поводы для лирических отступлений… Вон там, за разросшимися деревьями, – стадион, когда-то (клякса)…… ………………… А по той улице в трескучий мороз взад-вперед вдоль ограды чёрно-белого Таврического сада… А там – проходной двор с Литейного на Моховую, промерзавший насквозь, с пухлым инеем на стенах лестничной клетки, флигель снесен, следа не осталось, а старый клён в исчезнувшем закутке светового колодца жив до сих пор, да… ……………… Столько лет вытекло в арку подворотни! Домашняя (для себя?) выставка, абстрактные композиции, струящиеся мазки широкого флейца; и представим: в длинном душном зале Дома культуры Газа стоял перед совсем другой картиной, с зеркалом, вмонтированным в неё ………. ………………………… (клякса, ещё одна), последний раз на этом вернисаже говорил с Лерой – прижалась к плечу, провела рукой по виску, смотрел на неё, смотрел, будто чувствовал……………. И дальше, дальше, на последнем этаже Толстовского дома, в большой комнате с боковым окошком – Лина, угловая тахта с полосатым пледом под книжной полкой и каплановской литографией с каким-то архаичным, бесхитростно счастливым еврейским семейством, циновки на полу, полумрак, за окном дурашливо мечутся по небу НЛО; откинув устало голову, Лина затягивается сигаретой, ярче раздувается огонек; розовый подбородок, будто высвеченные фарами на повороте горной дороги гроты ноздрей, и опять – что-то ищут на груди губы; и никого больше… И валит толпа из «Авроры» сквозь анфиладу мрачных дворов… Что смотрели в тот вечер с Кирой, «Зеркало»?
Всё позади, но, может быть, она помнит?
Позвонить, спросить?
Город полон людей, но город одухотворяют История и женщины, вернее, истории близких женщин. Что Троя (нам!), когда бы не… Да-да, всё так, однако, чтобы решить большую художественную задачу (роман?), ее, задачу, для начала надо бы ограничить.
Как?
Понял это ещё в то мартовское утро с неожиданной, не по сезону, радугой, когда заворочался вдруг эмбрион замысла.
Ограничить – это тоже задача, и, может быть, более сложная, чем задача расширения и охвата.
Но Соснин эти противоречивые задачи объединял, он ведь всегда ставил перед собой предельно сложные (мягко говоря, спорные) задачи, вступал в соревнование (мысленное) только с великими (архитекторами, художниками, писателями), и если в конце концов ничегошеньки не решал и никого из великих не побеждал, ибо так и не касался пером ли, карандашом бумаги, то по крайней мере духовные максимы вкупе с грандиозными замыслами давали бездействию весомое оправдание.
Так вроде бы было с ним и сейчас, здесь: напишет настоящую (?) прозу или… потерпит крах.
Однако уже в то ясное утро с радугой, когда нахлынули смыслы-картины, вызывающе перемешанные с бессмыслицей, почувствовал, что напишет.
А пока – отбор (до полного исключения того, что называют «жизненными реалиями»), в том числе отбор (из чего?) женских портретов, всего нескольких, непохожих, но символически значимых, образно сопоставленных.
Как в романе поэта, где сердце героя разрывали (и разорвали) два разнесённых в пространстве и времени магнита – Тоня и Лара, попеременно меняющиеся местами жизнь и муза?
Нет.
Иначе.
Женщин-амплуа должно бы быть не две (на разрыв аорты), а три, и каждую из них, представляющую треть его самого, стоит поместить в вершину в корне отличающегося от традиционного любовного треугольника.
Чувствуя, что через него одновременно проходит слишком много границ, Соснин жил в среде смутных образов, колеблющихся настроений, желания были изнурительно противоречивы, и, пытаясь приблизиться к познанию своей внутренней жизни, он (ещё одна странность) не находил ей лучшего образного уподобления, чем загадочный трепетный мир колдеровских мобилей – в принципе стационарных, вполне уравновешенных конструкций, которые, однако, вдруг поворачивали лёгкие коромысла и лопасти, принимались беспричинно жужжать крохотными пропеллерами, дребезжать и трепыхаться мембранами или звякать, донося лёгкое дыхание ветерка, какими-то замысловатыми, точно старинные серьги, подвесками, вырезанными из чёрного металлического листа.
Всё, что в порядке подготовки к (главной!) работе говорил, писал, рисовал, проектировал, отражая и выражая свой взращённый в пограничных тревогах характер, несло на себе печать двусмысленности, у каждой буквы и линии дрожал контур; щедро одарённый композиционным чутьём, он тем не менее сомневался в своих способностях, стыдился заурядных фантазий, с опаской придумывая что-то из ряда вон и тайно надеясь на чудесные озарения, боялся самому себе показаться мелким (и недалёким) позёром.
Но едва он, нащупав «приём», уточнив в первом приближении цель, погружался с головой в стихийные противоречия сочинительства, как обретал уверенность, становился жёстким, прямолинейным и, находя себя в схеме-знаке, не задумываясь, жертвовал киселём грёз.
Так и здесь, сейчас, в случае особого любовного треугольника: ход рассуждений был витиеват, а вывод из них – прост.
Чтобы привести в движение художественное сознание, его надо сфокусировать на объекте.
Предположим, такой объект найден (выбран? Создан?).
Тогда он (объект) не сможет существовать в одиночестве, его надо с чем-то сравнивать, определять через другие объекты.
Если костью, брошенной художественному сознанию, оказался мужчина (например, очаровательный любвеобильный циник), то почему бы его не окружить соблазнёнными (и покинутыми? Очень мило) женщинами?
Резонно: роман без любви неполноценен, как откровения евнуха о прелестях оберегаемых им наложниц, – задохнется в занудстве, скуке.
Однако продвинемся дальше: почему двух возлюбленных было бы для романа Соснина мало?
Он избегал обнажённой ситуации выбора, метаний взад-вперёд, напомним – его и до получения конверта с вызовом раздражала простейшая оппозиция «или – или».
Но четыре, пять, шесть… – это уже почти бесконечный, достойный потенции Дон Жуана ряд, а в прекрасном ряду механистичного количественного приращения убывает ощущение качества.
И поэтому возлюбленных должно быть три, именно три: они, разумеется, тоже разнесённые во времени и пространстве, образуют силовое – да-да, треугольное – поле взаимосвязей, в котором и начнёт резвиться создавшее его для собственных фобий и забав художественное сознание.
Сколько возможностей!
Влекущие женщины – зеркала; к ним-зеркалам – Нарцисс оживает, притягивает неизбывное любопытство к себе.
Разве самопознание предосудительно?
Ничуть.
Законспирированная под театр явка, он – резидент, держит в голове агентурную сеть, к нему по очереди (иногда вместе? Ого!) являются, кокетливо заслоняя лица свои зеркалами, которые держат перед собой на вытянутых руках, три восхитительные Маты Хари и показывают (пароль) по одной трети его «Я» (отражённого), а он средствами образного совмещения трёх долей (варианты поисковой комбинаторики) складывает с помощью визитёрш внутренний свой портрет… Попеременно ли, одновременно смотрится он в три зеркала и заодно… О, заигравшись, он ещё и ввязывается в приключения – придумывая сюжет, трудно обойтись без трюков, залётов в прошлое и будущее, прыжков из окон (а верёвочная лестница?), погонь; вчера преследователи накрыли за утренним туалетом, он, взбешённый, с намыленной щекой, не выпуская помазка из левой руки, эффектно отстреливается… Закрутить сюжет, однако, не сложно – потрогал порез от бритья, крест-накрест залепленный пластырем, – куда сложнее подобрать хороших и преданных хотя бы на время агентов, когда отвлекают собственные отражения в зеркалах, однако глазки, фигурка (главное – грудь, талия, ножки) и, конечно, походка.
Отбор – не что иное, как акт создания – выделения из толпы типажей и превращения их в индивидуальности.
Так, отбросим реквизит, мишуру; возлюбленных – три.
Одна воплощает цель, устремлённость, протянутый через всю жизнь, подчиняющий себе побочные, включая любовные, желания порыв.
Другая – цветение, радость кружения в дрожащем, разогретом воздухе минутного счастья, воспринимаемого как постоянное.
Третья – доверие и надежду (на что-то неопределённое, туманное), зависимость от воли и желаний других, отсутствие чёткой ориентированности.
Соснин, конечно, был достаточно искушён, чтобы понимать: душевную жизнь не покрыть условной схемой, конгломератом схем или даже их, многих схем, взаимодействием. Однако его и не волновали задачи романного психологизма, благо их, задачи такие, превосходно решили классики. У него была иная задача.
Короткая, но интенсивная школа абстрактной живописи научила ценить очищенную от «содержаний» форму – цвет, линии, плоскость, фактуру, объём…
Однако слова – не краски, слова при всей многозначности их конкретны: словесная форма обречена играть какими-никакими смыслами.
Мелодично жужжит пропеллер, возбуждающе звякают пресимпатичные безделушки (подвесные мобили аккомпанируют?)… Оттолкнувшись от схемы, изживать её в свободном полёте, чтобы, ощутив вдруг неуверенность и трогательную угловатость эскиза, при достижении подлинного итога (точка: уф! Дело сделано) задрожал (ну да, дрожь – признак жизни) контур каждой детали и всей вещи в целом, а пока – передвигаться по сторонам воображённого треугольника от вершины к вершине, шатаясь (от неуверенности), оступаться в неразбериху треугольного магнитного поля или в периферийные, смежные и удалённые зоны спящего смысла, с мелочным упрямством вспоминать и придумывать: он в тексте уже? Огонёк сигареты, рефлекс на подбородке, цвет и подвижный абрис волос, убегающие за вагонным окном снежные палантины елей, нарезанные кружками огурцы на тарелке, солнечный зайчик (зайчик вышел погулять), да (вдруг охотник выбегает)… А ещё он рассматривает весь текст (как город) с птичьего полёта, шире и дальше трепетного треугольника ограничений, и тут же, опять очутившись в замкнутости этого треугольника, зарывается в подробности, ничего большего, чем сгустки взблескивавших крупиц, не замечает, упираясь то в одну, то другую невидимую точку со слепым упорством крота, который не знает, что ещё поджидает там, за осыпающейся границей хода.
Дал чёрт с талантом родиться! Краткость и жизнь, склочные, в повышенных тонах выясняющие отношения сестрички неразлучны, вцепились друг дружке в волосы, а он разнимает, безуспешно уговаривает, ищет компромиссную основу для перемирия, а время уходит, совещание сомнений затягивается, писать надо, однако, не разняв, не утихомирив – не начать даже.
Поэзия – концентрат; ёмкая, краткая, индивидуальная и вдруг достигающая общезначимых высот формула чувств. Но он-то худо-бедно кропает прозу, терпеливо выводит какие-то значки на странице тетрадки, становящейся быстро черновиком, сравнивает варианты, сокращает дроби смыслов (возводит в куб, извлекает квадратный корень), его увлекает (куда-то) двусмысленный (Лера права!) процесс доказательств, а саму формулу, прозаическую, если он её выведет, он готов будет привести в конце и даже почтительно обведёт формулу рамкой.
Общение со стихами обогащает, но, замечено, с какого-то момента разлагает прозу. Нужна осторожность, тогда стихи помогут, благосклонно что-то подскажут, хотя и у поэзии, оперирующей «единственными» словами и их, слов, единственно возможными порядками, свои трудности. «О, если бы я только мог, хотя б отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти», а тут, не потеряв головы, не восемь волшебных строк написать надо – целый роман, и стоит ли удивляться, что проза, не расставаясь с многословием, порой становится избыточно (?) игровой, умозрительно (?) сконструированной, неоправданно (?) узорной и – с достойной лучшего применения педантичностью – напоказ сшитой белыми нитками.
Так бывает, но не упустим из виду, что с ходу бросающиеся в глаза критикана белые нитки служат автору дразнящим оружием; это своего рода красный плащ матадора, грациозно-ритуальное искусство которого, кстати, так ценил любитель праздников и лаконичного (телеграфного) литературного стиля…
И что с того?
Автор – во всеоружии приёмов?
Ну да, колчан, полный стрел; но – прицельным приёмом больше, приёмом меньше, а в суть никак не попасть…
Не лучше ли сразу поверить, что вопреки своим вкусовым причудам и отсебятине автор тоже что-то когда-то читал из всеми чтимых кумиров, и, отбросив бычье упрямство, стоит всматриваться вместе с ним в события, факты, улавливая их контрасты и аналогии, чтобы (заранее?) увидеть-нафантазировать общий, организующий текст узор смыслов и формальных признаков, в котором всякая чёрточка уже наделена сквозным назначением, – ну да, текст един, всякая мелочь имеет продолжение, рифмовку с чем-то удалённым, сбывшимся или предстоящим, дабы активизировать весь узор гипнотическими повторами значимых элементов, приобщая к тревогам будущего…
Хотя мы, влетая в будущее без оглядки, вытаптывая его, оставляя позади, бездумно превращая в прошлое, каждый раз проскакиваем предупредительные сигналы… Наблюдая за потешной балансировкой прыгающего по волнам лыжника, перечеркнул страницу крест-накрест.
Да, невнятица.
И номер такой не пройдёт, прошлое напомнит в нужный (самый неподходящий) момент о таких сигналах, оставшихся позади, неожиданно впрыгнет на плечи, придавит, пригнёт, заставит вспомнить-ужаснуться и – забросит вперёд новые сигналы-предостережения.
Так-то: в жизни, которой живём, не замечая её, и без всяких умствований всё сцеплено, тайно взаимосвязано и текуче; всё, чем живы, одномоментно протекает в большом времени индивидуального сознания, где нет случайностей, ни одной – всё, что было и есть, любая мелочь, вдохновляющая ли, удручающая – начало, что-то ещё случится, жди продолжения.
Да-да, не грех повторить, так и в городе: по мере развёртывания пространственной композиции происходит сравнение интуитивно ожидаемого с увиденным, подтверждающее или опровергающее сигнал пластического фрагмента-извещателя, и связанное с ним первоначальное предчувствие, в результате чего фонд накапливаемых зрительных впечатлений поэтапно реконструируется, а смена кадра, происходящая при переходе с одной промежуточной позиции на другую (заворот за угол хотя бы) становится визуальным стимулом для дальнейшего движения. Это универсальные закономерности восприятия композиции, работающие как в городе, так и в литературном тексте, без учёта их – не заронить волнение, главное для прозы. Волнение, колокольчик, неожиданный звонок в дверь, а кто за дверью – ха-ха, не почтальон ли? – пока неизвестно, но ожидает встреча, что-то случится, и тревогой надо бы пронизать каждое слово, строчку, факт, событие, сцепив их между собой вопреки пространственно-временным промежуткам, разрывам-пробелам, видимому отсечению связей в наспех собранной схеме: избегать фарфоровых, мешающих пропустить ток волнения изоляторов, не разбивать текст на герметичные отсеки, художественный текст – не подводная лодка, для плавучести нужна глобальная открытость смыслов, образная система сверхпроводимости, света, бегущего по включённым в единую цепь фрагментам. Нет главного и второстепенного, тусклых минут и звёздных часов; изнанка и лицо – продолжающие одна другую поверхности ленты Мёбиуса, фон плавно вывёртывается на передний план, две стороны медали сливаются в одну, третью, всё важно – точка, запятая, точка с запятой… Сшибка и покой, напряжение, интуитивное угадывание сквозной темы и – тайна: как всё же складывается главное впечатление?
Из какого равномерно распределённого словесного материала кристаллизуется решётка поэтики?
Благодаря чему, по словам кого-то из древних, искусство не выговаривает и не скрывает, но – знаменует?
Пытаясь проникнуть хотя бы в прихожую тайны, читал эпический роман, ту его главу, где рассказано о путешествии проданного в далёкую страну мальчика – путешествии тягуче длительном, предначертанном высшим смыслом, узором судьбы, нарисованным Богом; тяжеловесная мудрость отца, тупость и, оказывается, функционально прозорливая враждебность братьев, действенная типология характеров, неспешное, как укачивающий шаг верблюдов, развёртывание спрятанных в тёмном начале начал содержаний, звонок-гонг здесь, сейчас звучит или доносится сквозь века бренчание колокольчика на шее верблюда, которого ведет чувствующий свою избранность мальчик? Предназначение, открытость судьбы в грядущее, звонок… или так настойчиво бренчит колокольчик, неправдоподобно далёкий?
Услышал-таки звонок…
Открыл дверь, удивлённо повертел длинный конверт, в целлофановом, с закругленными углами окошке которого увидел вдруг (обухом по голове?) типографски набранную свою фамилию, имя, странный обратный адрес, странную, словно произносимую с забитой горячим песком пустыни гортанью фамилию отправителя, имя его, выплывшее из библейской, но, выходит, чем-то родственной и ему, атеисту и космополиту, исторической глубины; пугающе многозначительный, выводящий из размеренного чтения манновского «Иосифа…» конверт: вызов.
Сам виноват, искусственно поднял давление; драматизирует любую безобидную ситуацию, вот и выбит из колеи, как на качелях: уехать – остаться, и раскачивается туда-сюда, а ничего не меняется, и литературную задачу поставил себе чересчур сложную, толчёт воду в ступе, даже никак начать не может, опутанный сетью предварительных рассуждений, столько страниц испорчено… Да, придётся вычёркивать, как вычёркиваются сейчас дни. У заключённого хоть есть срок, а ему-то срок не объявлен; загнал себя в угол, жизнь и замысел, всё сильнее подчиняясь необъяснимой самому воле, сжимают тисками. Пора начинать, а он всё ещё не решил с чего, и между тем садистски подкручивает на тисках ручку винта и – не шевельнуться, больно, а время идёт, течёт, сыплется, тикает, метроном отбивает ритм, качается взад-вперёд маятник в полом теле собора, а земля тем временем вертится, не ждёт.
Мне Брамса сыграют – я сдамся, я вспомню упрямую… ……… и кровлю, и вход… ……… полутёмный… и комнат питомник, улыбку, и облик, и брови, и рот… ………… С чего же начать?
Всё просто: ослепляющий солнечный зайчик и – заодно – маятник (Фуко), привязывающий к ритмике мироздания; колебания внутренние («Я» – ещё и мембрана?) и внешние, вечные, но входящие в резонанс с сиюминутными.
Собор – вот и завязка?
Да, собор.
Свой собор?
О, разумеется. О чём же речь?
И этот грандиозный (крупнейший в православном мире?) собор, «присвоенный», «свой», подаренный стечением обстоятельств, не открыточный, принадлежащий всем ахающим и охающим, а именно «свой», начинённый нежданными деталями, будто бы наспех «упакованный», он не смог бы забыть…
Ещё бы, повезло увидеть собор таким, каким не могли увидеть его другие, и если указала ему судьба путь на Запад, роскошный златоглавый собор со всеми его неподъёмными пластическими и декоративными богатствами, представшими перед ним в столь необычном обличье, тоже подлежал бы нелегальному – мимо таможенников и пограничников – вывозу за кордон.
С детства побаивавшийся в незнакомом пространстве темноты Соснин, как бы пересиливая инерционный страх, отставал от группы сокурсников, с которыми направлен был в Исаакий на обмерную практику, и бродил по затемнённому собору один, безотчётно полюбил его, проникся его излучающей цветистый сумрак тайной, начал было считать, что знает этот собор так же хорошо, как мог бы знать его какой-нибудь скоротавший здесь долгую череду дней своих настоятель, или (аналогия с Квазимодо коробила) проще: смутно воображал себя необходимым пусть всего-то на месяц обмерной практики, но живым приложением к собору и продолжением его, чутко улавливающим пульс неподвижности, ритм беззвучных каменных вдохов и выдохов, жутковатые, как крики совы ночью, звуки – скрипы и хлопанье створок, посвисты сквозняков, беспокойное, словно ворочанье спящих в бараке или казарме, копошение голубей.
Действительно, многое успел увидеть в соборе, узнать, запомнить; его переполняли-распирали впечатления, как если бы огромный собор уместился в нём.
Однако вопреки чрезмерностям всего, что уже увидел, узнал, он вдруг спотыкался о порог нового впечатления, обнаруживал в себе восторг и благоговение пилигрима, случайно заглянувшего из солнечного дня во тьму за приоткрытой массивной дверью и ослеплённого великолепием иконостаса.
Соснина, с самоотречением молодости молившегося тогда, по окончании первого курса архитектурного факультета, на новомодную геометричность коробок, вопреки сыплющимся в доверчиво оттопыренные уши предупреждениям о дурном вкусе, отсутствии чувства меры и прочих грехах, якобы отличавших громадину Монферрана от другого, прекрасного и гармоничного (как безоговорочно считалось), с закруглённой колоннадой, воронихинского собора, Казанского, властно притягивали тускло мерцавшие малахитово-золотые внутренности Исаакия, мощные гранёные пилоны главного нефа, волнующее смешение стилевых рисунков в декоративном убранстве, бесстрашные, вроде бы поверх правил – и многозначительные! – наслоения живописи, скульптур, пластических профилей и деталей, позволявшие вследствие демостративных перегрузок композиции вообще отделить это неумеренное пиршество форм от скудных тогда ещё профессиональных представлений Соснина, после разоблачения «архитектурных излишеств» верноподданно замыкавшихся на уютно-р-революционном в те годы идеале строгой и лаконичной, почитавшей простоватые тектонические зависимости, «хорошей» архитектуры.
Да, собор жил сам по себе, в новомодные – единственно верные – правила и нормы, само собою, не вписывался, а растянувшаяся надолго послевоенная реставрация многое ещё скрывала от любопытных глаз в исполинском соборном чреве, лишала его завершённого парадного блеска, но зато и на каждом шагу добавляла что-то к изначальной его безмерности, многократно усиливая в путешествиях по собору загадочность зрелища.
Недостроенная сокровищница?
Недограбленная гробница?
Или – вот и пространственная графика трубчатых железных лесов терялась где-то там, в голубовато-пыльной подкупольной выси, как если бы и впрямь собор ещё только рос, строился?
Или, напротив, разбирался на части, да так, что их, демонтированные части эти, к чему-то тут же пристраивали?
Забыв про тетрадку, море и рощу, забыв даже про рюмку с недопитым коньяком, погрузился в давние впечатления.
…Стоило, однако, сделать неверный шаг в сторону с любой из взаимно перпендикулярных осей симметрии – и мнилось уже, что это не конкретный (уникальный!) собор, зашлифованные камни которого можно потрогать, а изобильный до чрезмерностей собирательный образ собора, сконцентрировавший в себе непостижимое и неописуемое богатство архитектурных форм – как фасадных, так и интерьерных: всё, что когда-то было придумано, вычерчено, отлито, вылеплено, высечено, расписано – вместе, скопом, в антизаконно-причудливой уплотнённости и изукрашенности, причём всё это зримое многообразие хотя и кое-как, словно наспех, но – полностью упаковать не успели? – для пущей таинственности было лишь фрагментарно, там и сям, прикрыто, обёрнуто, занавешено рогожей и мешковиной.
Так всё же строился-собирался собор в восприятии-воображении или разбирался на части?
О, раз за разом он, обходя собор, спускаясь и поднимаясь по лестницам, коллекционируя головокружительные ракурсы, задавался этим вопросом. Формы и красочные пятна мозаик и облицовок пребывали в движении, в непрестанном становлении, как если бы развёртывался вокруг не материальный ансамбль из каменных форм, подчинённых вполне строгому крестообразному плану, а зримая метафора замысла, самого процесса длящегося Творения, сращивавшего пространственные фантазии Монферрана с фантастичной инженерией Бетанкура.
Да, именно так: ощущал, что творение длится сейчас, на его глазах!
Переливающееся в сумраке сверкание драгоценностей, цветовые вспышки, контрастную игру фактур тут и там перечёркивали грубые щиты и раскосы дощатых, в щетине заноз лесов, тире и дефисы перекидных мостиков и тут же, в зрительных наложениях, клети других лесов, трубчатых; роспись арочных сводов, позолоченное руно волюты, зашлифованный малахитовый ствол внезапно выглядывали из прорех в защитных полотнищах рогожи, мешковины, которые, кое-где отцепившись, криво свисали откуда-то сверху, словно древние прохудившиеся знамена, штандарты, или топорщились морщинистым выменем. Он невольно принимался угадывать по блеску позолоты и малахита в дырах рогожи, каковы же они, обёрнутые ею, рыжей рогожей, колонны; и невольно опять-таки думал: а заплатами пустот в красочной клетчатке иконостаса – изымались или добавлялись какие-то элементы изобразительности?
Метафора становления, метафора замысла, метафора вымысла, домысла…
Промысла? Да-да-да, главное в том, что это была метаметафора-метаморфоза.
Но был ли в неудержимом метаморфизме вроде бы статичного зрелища хоть какой-то порядок?
Пышность и изобильность зрелища, загадочное и тревожное (?) сочетание многоцветных камней и позолоты, прямых и упругих линий, дуг лучковых фронтонов, пилонных выступов, карнизов, ниш, фактур порождали самые разные ассоциации и вдруг начинали восприниматься как фантастический натюрморт, каким-то образом скомпонованный не столько из обломков архитектурных форм, сколько… из обломков стилей, и потому Соснин попадал в плен эклектического, а может быть, уже тогда, в середине девятнадцатого века, напророчившего краткий расцвет модерна (и даже постмодерна) разнообразия, порывавшего с монопольно-канонической скукою классицизма.
Впадая в транс от попутных видений, он не мог не увидеть собор иначе, совсем не таким – «законченным» и при всей пышности своей будто бы каноничным, – каким станут вскоре, после реставрации, предъявлять его экскурсантам.
Но тогда ни экскурсантов, ни служителей культа – на везение – не было.
День за днём в полном одиночестве (за компанию со сквозняками) путешествовал он по лестницам и переходам собора, словно по артериям непостижимо-сложного, чудесно окаменевшего организма и лишь ненадолго выбирался из взблескивавшего сумрака на свет божий – загорал на горячих сковородах медных, в изумрудных лишаях патины кровель или вспоминал-таки о рулетке, линейке, карандашах, выполнял урок: забравшись на наружные леса, прислонённые к доверенному студентам-обмерщикам западному портику, прикладывал рулетку к модульону, затем – к промежутку между модульонами, затем проводил на бумаге размерные линии, записывал цифры или, раскатывая по фризу рулон кальки, копировал загадочное посвящение, набранное славянской вязью: «Царю царствующих».
Вскоре, однако, отложив блокнот с обмерными эскизами, зачем-то ощупывал гладкую и прохладную (в тени) поверхность фриза, выступающие из-под фриза вогнутые абаки коринфских капителей, а поднявшись по металлической стремянке, связывавшей разные уровни лесов, в остром углу фронтона машинально проводил пальцем по сходящимся на ус линиям гуськов и полочек. И однажды в этой соблазнительной точке схода, в вершине фронтонного треугольника, его, выскочив из-за спины, неощутимо схватил за руку пушистый солнечный зайчик – схватил, подержал, отпустил, игриво попрыгал на отвесной фронтонной плоскости, потом бесстрашно-весело заплясал над мраморным обрывом карниза, а когда Соснин обернулся, зайчик, соскользнув с модульона, слепяще резанул по глазам – высунувшись из арочного окна последнего этажа дома, темневшего напротив собора, круглолицая девчонка забавлялась с зеркальцем; еле слышно прыснул далёкий смех, проказница растворилась в чёрном омуте комнаты.
И где, где пушистый прозрачный зайчик?
Только что дрожал, прыгал…
Отвлекла: внизу выруливал из виража, огибая угол собора, синий троллейбус, напротив хмурился тёмно-серый фасад, расчленённый рядами арочных, в обрамлении пилястрочек окон, правее – ещё два дома, за ними – кипящие на солнечном ветру бульварные липы и игрушечный Конногвардейский манеж, ещё дальше – макетно-маленький жёлто-белый Росси, блещущая Нева; да, троллейбус благополучно зарулил на бульвар – не пора ли вернуться вовнутрь, в соборные сумерки?
Внешнее, внутреннее?
Или внешнее и внутреннее, лицо и изнанка, подкладка… субстанции, как и поверхности ленты Мёбиуса, перетекающие одна в другую, по сути образуют единство?
Короче, отправлялся за неожиданностями в новое путешествие…
В один прекрасный день, забираясь всё выше, решился на штурм изнутри; это была незнакомая альпинистам попытка проколоть изнутри полую рукотворную гору-сферу и очутиться снаружи: на воздухе, на вершине сферы, у светового надкупольного фонаря, под крестом, на окружавшем фонарь тесном балкончике.
Когда лестница стала уже и круче, отвратительный бордель голубей подсунул ему вместо порога притолоку, он больно ушибся и подумал было, что ещё не поздно обратиться в бегство, спуститься (признав поражение?), но понадеялся всё же, что как-то всё обойдётся с небесной помощью. Упрямо лез и лез ввысь, ещё выше, ещё, духота сгущалась, но пока он ещё мог терпеть, карабкался. Становилось уже невыносимо жарко, он начинал задыхаться, но удушье опередил кошмар заполненной миазмами плавящегося голубиного помёта газовой камеры, и всё же из последних сил – вверх, к бледному струению света; к пропылённым лучам уже ближе, гораздо ближе, чем к клубящейся тьме внизу… Однако как же хочется прыгнуть вниз, броситься, пусть и превратившись в мокрый мешок с поломанными костями… Есть ли шанс выбраться из этой удушающей жаркой тьмы, глотнуть свежий воздух?
И почему – молния в гаснувшем сознании – девчонка из дома напротив, казалось, тонувшего в тени собора, достала его отражённым лучом?
Случайность?
Вновь мелькнула в окне с сияющим кружочком в руке, глаза повторно залепил солнечный зайчик… Прохладный ветерок гулял снаружи, на лесах портика, и перед ним, ослеплённым, вырос густой влажный лес, косо прорезанный голубоватыми лезвиями; за пиками елей возникла в облаке радужных брызг кипящая Ниагара… Удалось вдохнуть полной грудью, и галлюцинации оборвались; пыльный свет струился всё ярче и совсем близко, если бы хватило сил поднять руку, свет можно было бы пощупать, и где-то высоко, за блеснувшим узким стеклом, растеклось уже белёсое небо, а вот и – почему-то чудесно приблизилась – точка подвеса маятника, и вот ещё шаг всего, последний шаг надо сделать из-под паутины металлоконструкций, шаг к небу, и – удача! – не заперта створка, можно вылезти на узенький круговой балкончик, обрамляющий световой фонарик с крестом… Остался-таки внизу раскалённый купол, удалось, пронзив купол изнутри, очутиться снаружи, над макушкой его.
Только что чуть не погиб от удушья, а внизу – ноль внимания: едва различимые, суетливо-равнодушные муравьи, игрушечные машинки, троллейбус…
Шагнул из тёмной вонючей духовки в небо и, захлебнувшись ветром – испугом-восторгом? – присел на корточки. За прутьями решётки плавно, словно мощным выпуклым веером, расходилась вниз и во все стороны золотая сфера, и простирался за ней, за круговым контуром её, Петербург.
Золотая сфера оказалась огромной, невообразимо огромной.
И он был – над ней?!
Был… Это не сон? Не верилось.
Нет!
Не был, не был…
Или всё-таки – был?
Он тогда глубоко дышал и не мог надышаться, а вдыхая-выдыхая, не мог насмотреться. Теперь же, вспоминая умопомрачительное приключение своё, понимал ещё и бесценность увиденного – да, немыслимо было бы обменять это на другие города с другими соборами, пусть по-своему и прекрасными.
В странной неудобной позе, полусидя-полулёжа на узком балкончике, не решаясь встать на ноги, как если бы ему нужна была для сохранения увиденного именно с этой уникальной точки зрения долгая фотовыдержка, не мог отвести глаз от необъятной золотой сферы, неподвижно выползавшей из-под него и – зависнув – падавшей на монохромную мозаику крыш.
А внизу (на дне какого-то другого мира?), на сей раз не ведая о его, вознёсшегося, воодушевлении, медленно, с предосторожностями огибал собор очередной синий троллейбус, маленький-маленький… да-да, маршрут № 14, Смольный – Площадь Труда.
Итак, вокруг исполинской золотой сферы, на вершине которой он очутился, простиралось ячеисто-мозаичное тело города: сплочённые воедино крыши, фасады, дворы-колодцы, фактурные лоскутки парков, рукава рек, пазы улиц.
Отдышавшись, как на вечную свою собственность взглянул на Адмиралтейство с иглой, на Биржу и широченную Неву, на изящный, вытянувшийся выше облаков шпиль Петропавки. А если обойти фонарь, можно было увидеть медный (пятнисто позеленевший) купол другого собора, ультрамариновые купола третьего, колокольню Успенской церкви (ещё была!), и, в который раз обходя фонарь, угадал вдали уличную решётку Васильевского, а куда ближе была арка, выводившая на Галерную… Глубоко внизу – два взгляда в разные стороны – два разделённых собором, отталкивающихся от пьедесталов, чтобы поскакать к Неве, всадника, и где-то на границе с невским устьем – похожие на прозрачных жирафов портовые краны; романтичная ржавчина доков, стальной блеск залива, остров, там же, на продолговатом острове, снова собор…
Придя в себя, всё ещё жадно всматривался, будто знал, что первый опыт этого восторженного кругового обзора станет последним.
Город напомнил лёгкие на плакате в медицинской энциклопедии. Город был тогда ещё компактным и мускулистым, контуры его словно размывались полями и лесами, акварельно истаивавшими на границе с небом – там, куда противоестественно вытянулась теперь хлипкая, серо-грязная панельно-блочная плевра, вытянулась, уползла даже за круговой горизонт, где снова из топи непроходимых луж, на пустырях намытой пульпы, среди свалок и обломков бетонных плит зачем-то продолжал тягостно расти город, совсем иной, отказавшийся от своей исторической уникальности, как бы отслоившийся от самого образа Петербурга – величественного, исключительного, блистательного, постыдно такой же, как все новейшие бескрайние «застройки» из белёсо-серых брусков и торчков, дыряво-полосатых, словно картонных, вопреки отличиям – одинаковых, равномерно засорявших территорию, с рубероидно-битумной безнадёжностью плоских крыш, чахоточными рощицами телевизионных антенн…
Из будущего, которое уже давно стало прошлым, вернулся на ветреную вершину купола.
Тогда вокруг городских лёгких, разделённых на две половинки Невой с чёрточками мостов, действительно был резервуар зелени, дышалось вольно, жизнь удачно так стартовала – вырвался (чудом, но и не без собственных усилий) из удушающей тьмы на свет, увидел город сверху – весь город, обнимающий этот вознесённый в небо крест и узкий круговой балкончик под ним, эту огромную золотую сферу.
Но почему же так засвербило?
Вероятно потому, что в тот самый день с дразняще-слепящим солнечным зайчиком и мучительным подъёмом на золотой купол принималась искать свой петляющий и пунктирный путь наша история…
Обжигающе-приятным показался глоток паршивого коньяка; ещё один листок плюща спланировал на страницу…
И опять, опять – жанр?
Действительно, за мемуары обычно садятся на склоне лет, причём главным образом люди известные, даже знаменитые, обременённые знаниями и мастерством в прославившем их деле, знакомствами, а то и дружбами с другими знаменитостями; люди, пережившие эпохальные потрясения и волею судьбы удостоенные священного сана летописцев: их молчание считается подозрительным, им следует поскорее высказаться, все, открыв рты от любопытства, ждут, что они скажут, и всему готовы поверить: беспроигрышная позиция – писать на проценты с известности.
Впрочем, не стоит завидовать.
Рассказы одних знаменитостей о встречах и беседах с другими знаменитостями, молниеносные подмены (с ловкостью фокусника) лавровых венков терновыми, разнооттеночные намёки, мелкие уколы любви, трогательно дозированный мышьяк иронии и… Даже покаянно бухнувшись на колени, мемуарист, обречённый играть роль положительного героя, подчиняясь давлению амплуа, никогда не забывает оставаться самым умным, порядочным, смелым, находчивым, тогда как его близкие великие (гениальные!) друзья, конечно, люди прекрасные, но (как он благодаря прозорливости своей давно понял) с милыми чудачествами, слабостями, им свойственно ошибаться, правда, по пустякам, так, временные заблуждения – не смогли, не сумели, не успели, несвоевременно очаровались или разочаровались, с кем не бывает?
Бывает, только не с автором-мемуаристом – живым, благополучным, знающим, что из-под могильных плит не вышлют опровержений, и потому – безнаказанным, чувствующим себя вне подозрений.
Несимпатичная получается позиция, хотя, конечно, прибыльная.
Прибыльная, но всё-таки уязвимая.
У знаменитостей обычно много знаменитых друзей, и они все тоже за мемуары в свой час садятся, чтобы написать о тех, кого все знают, но о ком хотят знать ещё больше: что сказал, чем отобедал, где и в какой компании выпивал, кого любил, презирал, с кем и когда подрался, пользовался носовым платком или чужой накрахмаленной скатертью – все друг про друга, впадая в маразм, пишут, все на виду, всех обожают и изучают, преследуют и исследуют, обижаются, переиздают, нарушают и восстанавливают справедливость, честь и достоинство, цитируют с мюнхгаузенской убеждённостью, смело запутываются в противоречивых оценках и запускают свару: кто прав? Кто виноват? А ты кто такой? Клубок тел, куча-мала, не разнять.
А потом пыль оседает; угощая друг друга последними щипками и тумаками, отряхиваются, потирая шишки, улыбаются виновато, мирятся, а равнодушное время, пристрастно отбирая факты, расслаивает честолюбивых драчунов по категориям-номинациям: столпы нации, пламенные революционеры, гордость культуры, корифеи науки, провидцы, рупоры, знаменосцы.
Остальные, которые не рупоры, жили-были, любили, писали, пили, но шли не в ногу, не улавливали ритм – второй сорт, явно помельче.
Соснин не ко времени брался за свои так называемые мемуары: средний возраст, куда спешить?
Сам не знаменит, надежд не оправдал (пока?), те, кто его окружал и о ком можно было бы рассказать, тоже никакими геройствами не успели прославиться: люди как люди, кому они, кроме самого рассказчика, интересны?
В том и преимущество писания для себя – никто не осудит, не усомнится в правдивости, не встанет на защиту какого-нибудь обиженного кумира.
Во-первых, кумиров у него нет.
Во-вторых, какая обида вообще могла бы возникнуть, если он никого и ничего не собирался оценивать: прав, виноват, нашёл, потерял.
Ему не чьи-то изъяны важны, не елей, а лица, словно и не связанные с реальностью, не связанные между собой, но проросшие через его судьбу.
Всё прочее – до лампочки. Мемуары, где есть только мемуарист? Ну да, сказка про белого бычка: автор-мемуарист (он же – романист) со своим «раздробленным» (на три лика) «Я» в писаной торбе, да-да, все лица – фас, профиль, три четверти – «Я».
Нонсенс!
А что? Нонсенс как жанр…
Отрешённый и опустошённый, едва слыша, как перебирает-просеивает гальку уставший прибой, бредёт в перерыве между дождями по безлюдному пляжу…
И вспоминает, вдыхая влажный пряный октябрьский воздух субтропиков, мартовское утро с морозцем и, как ни странно, с радугой – утро, когда шёл к метро, а раздумья ни о чём и обо всём сразу расплёскивались, выплёскиваясь из растревоженного сознания.
Что всё-таки это могло быть…
Спонтанное портретирование сознания?
Или всего-то – мешанина из смутных предчувствий?
Тогда ещё не получил вызова, но испытал опережавшую рутинный эпизод «доставки корреспонденции» интуитивную встряску и неожиданное чувство готовности, которое не знал тогда, к чему приложить; теперь-то он понимал, что внезапный напор противоречивых импульсов и картин, словно взявшихся ниоткуда, призван был расшатать внутренний мир, чтобы перенастроить его. Это и стало отправной, «толчковой» точкой, а уж явление почтальона с конвертом – лишь достоверное (оформляющее) следствие того внутреннего толчка…
В то утро (до вызова) словно предугадал нынешнее своё состояние, тасуя картинки ночных кошмаров и обыденной яви, невольно производя критическую инвентаризацию своего «Я»: попутных идей, ощущений, допущений, желаний; к тому же тот насыщенный смутными страхами и надеждами внутренний, казалось, спонтанно изливавшийся монолог был какой-то подоплёкой всего того, ещё непрояснённого, что сейчас (после вызова) он так хотел написать и, значит, хотя бы отчасти прояснить.
Монолог, произнесённый не вслух, произнесённый про себя, про себя…
И… внутренний гул беспокойно оповещал его в то утро на пути к метро о поджидавших его творческих передрягах?
Да, и раньше нечто похожее на эмоциональное оповещение-предупреждение с ним бывало, но – перед важным архитектурным проектом.
А в то мартовское утро взбаламученных чувств и беспричинных страхов, выходит, перед проектом романа?
Выходит, так.
В том-то и фокус – романа про себя!
И значит, романа про своё время и про свою память?
И вдруг: чтобы справиться с сосущей пустотой одиночества вовсе не обязательно выгодно выглядеть на чужом фоне; он ведь не перед историей пытается оправдаться, как знаменитые мемуаристы, а перед собой, и чтобы искупить смутную вину, никаких не надо аплодисментов, наград, ропота, гонений, усмешек – только бы, поднявшись над биографией, вот-вот разломающейся на «до» и «после», оправдаться перед собой, сказать (опасаясь пафоса) о том, чем, хотя и пустой, переполнен.
Но – старая заунывная песня! – сказать сложно.
Размышлявшие об искусстве и помнившие об аристотелевском мимесисе нередко (и почему-то не опасаясь прямолинейности) уподобляли искусство отражающему действительность зеркалу.
Только (не всё так просто) не стационарному зеркалу, с неразборчивостью зеваки запечатлевающему, что попадётся, а зеркалу, способному двигаться, колебаться, поворачиваться, отбирая фрагменты действительности, достойные отражения.
Скорей всего, именно на такое волшебное зеркало остроумно и ненавязчиво намекал родившийся здесь и всю взрослую жизнь проживший там двуязыкий романист, когда уже на первой странице «Дара» писал о дрожащем, ломающемся, покачивающемся в такт шагов вместе с берлинским небом и ветвями платанов дубликате внешнего мира в зеркальной дверце переносимого грузчиками через тротуар платяного шкафа.
Впрочем, не без остроумного намёка на метафоричность выписанная житейская сценка и образ искусства как отражателя жизни сошлись вполне закономерно.
Пытаясь, однако, следовать определению искусства, с которым трудно было бы не согласиться, Соснин не мог представить себе причудливо пританцовывающий зеркальный механизм, перед которым, чтобы получить искомое отражение, должно было каким-то способом располагаться, как перед фотокамерой, его, Соснина, апатичное, возбудимое, холодное, расплавленное (какое ещё?), простуженное, лихорадящее из-за им самим взбитой температуры сознание.
Да-да, не привычный внешний мир отражался, а непостижимый индивидуальный внутренний объект – сознание!
Эгоистически опрокинутого в себя Соснина сейчас мало занимала окружающая действительность как объект, на который, очнувшись (о, вдохновение!) от летаргии обыденности и удивившись, умилившись, поразившись, кладёт глаз художник.
Вот писал, например, пейзажист из окна мастерской своей пасмурную, с баржами, Сену на фоне серого (бурого) Нотр-Дама или – переместившись в пространстве – слепящий бирюзой и бликами Неаполитанский залив.
И что же?
Перед пейзажистом были «объекты» натуры, и тот, волнуясь, дрожа от восхищения, пропуская через магический кристалл внешние свето-цветовые сигналы, заворожённо накладывая на холст трепетные мазки, преображал эти реальные объекты индивидуальным видением, пока они, став отражениями в зеркале искусства, не повисли на нейтральной стене музея.
Ещё раз: по сути, были два объекта: один – действительность, другой – зеркало, то есть фактически сам художник со всеми трепетаниями и всплесками его бесконечно сложного внутреннего мира.
Эфемерное «А», дрожа от волнения-возбуждения, отражало относительно неподвижное, материальное и лишь в кое-каких контурах и оттенках (тень, свет, облака, лазурь) меняющееся «Б». Классически ясная, ещё Аристотелем предложенная схема взаимодействий искусства и жизни; настройку её, конечно, можно варьировать, меняя фокусировку, но принципиальный смысл её не изменится, и это – главное.
Соснин же, избегая классически ясных схем, чувствовал, что на сей раз придётся расплачиваться за идею-казус дорогущей ценой, ибо он угодил в какую-то безнадёжную, затягивающую, как водоворот, историю: два объекта («А» и «Б») упрямо совмещались в одном; причем совмещение происходило в самом Соснине, и этим странным гибридом (действительность + её вибрирующее отражение) оказывалось его и без того перегруженное, донимаемое аритмичными импульсами, да ещё – какая неосмотрительность! – превращаемое в динамичную систему зеркал сознание.
Его лечить надо, а тут неразложимая на простые элементы задача: отражать, оставаясь объектом отражения; зеркало, поставленное напротив зеркала?
Заколдованный круг, оказывается, и не круг вовсе, а заколдованная (неразмыкаемая) ловушка замысла; тиски художественных обстоятельств зажали, не шелохнуться, но хоть мысль ещё могла двигаться и вот – беззвучный щелчок – попалась в свой же капкан: психологическая головоломка.
Картина как произведение искусства и, стало быть, как образное отражение действительности, и она же, картина, – как натуральное зеркало?
Ну да, и на кой ляд тут вопросительный знак…
А если иметь в виду не образный отражатель, а буквальный, если это – картина-зеркало…
Или – зеркало как картина?
Ну да! Хлопнул ладонью по лбу, вспомнив.
Загадка зеркала издавна – правда, как-то издали – интересовала его, теперь же он столкнулся с нею вплотную. Лицом к лицу лица не увидать, но он увидит, иначе – не написать, все усилия будут напрасны, если сейчас не определить для себя, что искусство, а что жизнь, как одна реальность, натуральная, отделяется в восприятии от другой, иллюзорной, как проникают они, разные реальности, одна в другую – быть может, по законам диффузии?
Думал, строил предположения, однако размышления продвинула знакомая картина, которая поразила даже просвещённую публику на полуофициальной и шумной, как всё полуофициальное, выставке художников-нонконформистов; ну да, Дом культуры имени Газа, петля очереди, внутри – толчея вокруг непризнанных гениев, вспышки блицев.
Феномен отражения, его многомерности, конечно, не разгадал, но увидел волнующую дилемму в новом ракурсе, подсказавшем ещё один, и не исключено, что решающе важный, опорный образ.
Зеркало – картина в картине?
Нет ничего более двусмысленного и неблагодарного, чем пересказывать живопись, но придётся.
На чёрном фоне, фронтально – четыре большие угреватые, с блуждающими по лысинам бликами, почти одинаковые головы; четыре почти одинаковых, отличающихся лишь лёгкими, кривящими тонкие губы гримасами, лица-маски, попарно повернутых к центральной оси (горизонтальный формат), в надежде увидеть её, вертикальную ось, хотя бы боковым зрением.
Перед ними – покрытый белой скатертью стол, перед каждой из голов-бюстов – по серебряному подстаканнику, в руке у каждого из сидящих за столом в скрюченных пальцах маленькое зеркальце, в котором – тщательно выписанное тончайшей кисточкой отражение подстаканника.
Тревожно, неприятно даже.
Однако чем же их, четверых, так притягивает незримая ось симметрии?
А вот чем: между парами отглаженных лессировками физиономий в картину, в чёрный её фон вставлено – по оси симметрии – настоящее, в настоящей латунной рамке зеркало – реальный предмет-отражатель, встроенный по прихоти художника в живопись. Зеркало как картина в картине: в зеркале то замирает, то движется переменчивое осколочное отражение бегущей в никуда жизни, которое – той же прихотью художника – в восприятии сращивается с изображением, меняя в каждый момент впечатление от написанного краской. В картине рождается симбиоз станковой живописи со случайными отражениями в зеркале; симбиоз этот отменяет и без того хрупкую границу между изображённым и подлинным.
Эка невидаль, скажут (кто скажет? Неужели потянуло на диалог?), такая граница – условность, а каждый потребитель искусства где хочет, там её и проводит в индивидуальном сознании…
Только здесь – иначе: реальный предмет-отражатель (зеркало) вмонтирован в традиционно, по сути, с тщательностью старых мастеров выписанную фигуративную композицию, сюжет которой (кощунство – сюжет в живописи!) задаётся и развивается, по-видимому, волнующей игрой многократных, непрестанно обновляемых отражений; активно взаимодействуя со статичным полем картины, они (каждый раз с невольным участием улавливающего замысел живописца зрителя) создают целостный и изменчивый, динамичный образ.
Парадоксальный сюжет дробления и – одномоментного – созидания-ускользания вещного мира не случайно волновал многих.
Уже упоминавшийся платяной шкаф с берлинским небом и ветками платана в зеркальной дверце – символическое (?) начало романа, – пересекающий, покачиваясь, тротуар, когда шкаф от мебельного фургона к парадному дома несут грузчики, лишь задаёт зыбкую тему.
А вот, к примеру, её развитие в другом романе – оголение желаний и нервов в призрачном, теряющем материальные очертания интерьере: двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отражённая в нём кровать, та же кровать в шкафном зеркале…
Или:
В трюмо испаряется чашка какаоКачается тюль, и – прямойДорожкою в сад, в бурелом и хаосК качелям бежит трюмо.
В случае же нашей картины с органично встроенным в неё зеркалом канкан отражений не описывается, не изображается, как изменчивая принадлежность внешнего мира, а перебрасывается внутрь произведения – была граница между искусством и жизнью, а теперь её благодаря выдумке нет?
Взаимная проницаемость двух по разным законам живущих сред – искусственной и естественной?
Ещё задолго до шумной выставки ходил вокруг да около загадочной картины, приглядывался.
Как-то прислонённая к стене картина стояла вертикально, четыре яйцевидные головы торчали влево из скатерти нелепыми консолями (тёмные рубашки сливались с фоном: чёрное на чёрном); заделанные в стол крючковатые кисти рук синюшными пальцами с Китаем микробов под каждым ногтем сжимали всё те же написанные масляной краской четыре зеркальца, в которых застыли завитки перевёрнутых (как и всё прочее) серебряных подстаканников.
И тут же визуальный алогизм предложил другой образ: чёрный фон стал протёртым мокрой тряпкой пластиковым полом морга, почему-то потемневшая скатерть превратилась в покрывающий уложенные в ряд тела, полуистлевший, тускло мерцающий пятнами лампадного жира и стеарина, землистого цвета саван, подстаканники, оказывается, уже не подстаканники вовсе, а опрокинувшиеся широкие подсвечники… Ко всему из-под корочки лака сквозило холодом, что, впрочем, было вполне естественно, ибо низкая температура функционально необходима этому помещению.
И только зеркало равнодушно поблёскивало: его заполняли паркетные, убегающие вверх ёлочкой под слоем красноватой мастики дощечки настоящего пола.
– Ну и холодина, б-рр! – поёживаясь, в комнате появилась жена художника, накинула на плечи шаль, захлопнула форточку. – Такой мороз, простудиться можешь…
Что-то промямлив, смущённо отошёл от картины.
Да, ещё раз, ещё раз: иллюзорность живописи как таковой – и материальность-реальность зеркала, встроенного в иллюзию…
Новое слово?
Спустя какое-то время, когда картину, перевернув, повесили в нормальном положении напротив стола, он, приглашённый в гости, нет-нет да посматривал на картину сбоку и опять-таки находил внутри латунной рамки одну лишь пустоту ожидания, однако собирались гости, и вот уже он заметил, что в зеркале мелькнули жёлтый пушистый рукав, клетчатая, расклёшенная штанина…
Сидели за столом, болтали, смеялись, а он оглох, язык проглотил?
Стараясь не упускать из вида всю картину, вдруг заметил меж двумя парами оцепеневших голов, в зеркале, толчею мужских и женских затылков, а в прорехах между их силуэтами – языки света на белой льняной скатерти, на реальном, данном нам в ощущение столе, за которым сидели гости, тоже длинном, параллельном картинному, сервированном уже для чаепития: тарелки, чашки, бутылки, рюмки, блюдо с тортом из «Севера», два точно таких, как те, что были написаны на картине, серебряных подстаканника.
Натуральная и написанная скатерти сливались, столы – реальный (настоящий) и картинный (ненастоящий), – словно вплотную сдвинутые длинными сторонами, продолжали один другой, превращались в один стол, широкий, на противоположной стороне которого в глубокой перспективе зеркала даже неожиданно увидел себя, растерялся, неловко дёрнулся, капнул на настоящую скатерть вишнёвым вареньем.
Хотел было схватить бумажную салфетку, передумал, снова промелькнул в зеркале, застрявшем между лысинами болванов; словно подчиняясь чьей-то команде, изогнули в гадких усмешках тонкие бесцветные губы, презрительно уставились на него – не отражённого, а сидевшего за столом – восемью одинаковыми плевками глаз; не желали, наверное, чтобы из недоступной им глубины зеркала он увидел их сзади, но всё недоступное и необъяснимое всегда упоительной щекоткой соблазняло его, и поэтому, наверное, услужливо свёрнутая воронка трансцендентного смерча без промедлений засосала в зазеркальную, полную космической пыли даль. Однако, едва его растерянная физиономия, эскортируемая – слева и справа – гнусными оскаленными масками, заняла почётный центр композиции в зеркале, трусливый поршень всесильного разума (зачем связываться?) стал неуклюже выталкивать его отражённую ипостась обратно в безопасную жизнь; он снова дёрнулся, со вздохом облегчения исчез из картинного зеркала, представлявшего каверзно путаный мир искусства, с покорностью принялся, как все, жевать, выпил вина, удачно врезался в разговор (провёл пересекающиеся параллели между Дали и Босхом), успокоился, аппетитно перекатывал таявшую во рту сладковатую массу – какой чудесный вечер! – наткнувшись языком на спешащий в дупло зуба цукат, заметил заодно, что ест торт («Сластёна») с чужой тарелки, смешался, прикусил язык, бормоча извинения, поперхнулся, пришлось отшучиваться – опять, мол, кондитерская клептомания, волнуется, теряет контроль, так же, как уже бывало когда-то с Кирой в пустом, декорируемом к Новому году еловыми лапами баре «Астории».
Тогда, под стук молотков, была хоть понятна причина волнения, здесь-то, в гостях, что сбивает дыхание, неужели так пробирает живопись?
Снова приказал себе успокоиться, перестал ёрзать, машинально зачерпнул из розетки варенье, осторожно отодвинулся вместе со стулом от привлекательной тарелки (соседки?), тут же увидел, что вдвинулся в зеркало, и, взятый в латунную рамку, панически сплёвывая вишнёвую косточку, не попал в поднесённую ко рту чайную ложку – косточка покатилась, дробно подпрыгивая, по полу.
Столы сдвинуты, скатерти смыкаются, но ведь и разделены они странным образом, по зыбкой границе; одну скатерть можно потрогать (дана в ощущение), другая – изображена…
Сидят, сверля зрачками, четыре одутловатых, мертвенно бледных болвана с ненастоящими зеркальцами в руках, за ними, четырьмя картинными головами, в настоящем и тоже картинном зеркале – реальный затылок кого-то из тех, кто пьёт чай, сидя напротив, но за этим же, материальным – потрогал – столом; он наливает сухое вино горбоносой, загорелой – коктебельский загар? – женщине, они чокаются, глядя глаза в глаза; он выпивает, она только пригубливает, улыбаясь, ставит бокал на скатерть, заговорщицки прикрывая оставленную вареньем кляксу…
Парадокс возвращал к началу.
Себе на беду сел напротив зеркала, польстился на лишнюю точку зрения – теперь он одновременно и здесь, на чаепитии, и там, в картинном зеркале; рассматривает окружающий мир обыденности изнутри его, из жизни, и извне, из зазеркалья, как будто бы из искусства; взгляд мечется туда-сюда, а он пытается искренне, для себя определить, что именно в нём, этом совместившем две точки зрения взгляде, истинно, однако даже на простой вопрос не может ответить: сколько видит он подстаканников? Четыре, написанные колонковой кисточкой, тускло поблёскивают, как настоящие, на написанной скатерти, ещё четыре – отражённые в ненастоящих маленьких зеркальцах, которые сжимают эти омерзительные типы в своих скрюченных пальцах, итого восемь, и ещё два, настоящие, но отражённые в настоящем – картинном – зеркале; всего, значит, десять, ну а всех вместе, с двумя реальными подстаканниками, с теми которые можно трогать, осязать, вставив тонкий стакан, налив заварку и кипяток, можно даже пить чай, – двенадцать.
Но:
– Илья, передай, пожалуйста, подстаканник, – и нет его больше в зеркале, исчез, словно и не было, осталось одиннадцать.
Что же прочно, надёжно, реально и не зависит от пиратствующих на стыке искусства и жизни сил?
Опять попытка – невольная – с негодными средствами: давайте хотя бы эксперимента ради сделаем по умозрительному стыку разрез, разделим таинственный гибрид на две сущностных половинки, не позволим искусству и жизни смешиваться, пора наконец добиться ясности, заменив противную рассудку хаотичность взаимных перетеканий хотя бы подобием порядка.
Сделали разрез, отделили: на настоящем столе всего два настоящих, старинных, серебряных, хоть завтра в комиссионный – антиквариат дорожает, много дадут – подстаканника; сейчас разливает хозяйка чай, один подстаканник со стаканом достался загорелой горбоносой женщине, её подстаканник – рядом с чашкой Соснина; между стаканом в подстаканнике и чашкой только вазочка со злополучным вареньем.
А вот на столе, изображённом на картине, – четыре подстаканника, тщательно выписанных, внешне неотличимых от настоящих, хотя их не взять в руки, и ещё четыре – их уменьшенные, но не менее тщательно выписанные двойники-отражения в зеркальцах, застрявших в скрюченных пальцах.
Так сколько всего подстаканников, восемь или четыре? Принять ли всерьёз отражения ненастоящих подстаканников в ненастоящих зеркальцах или посчитать фикцией?
Одни скажут, что изображено всего четыре предмета, остальные – это они же, только в качестве отражений.
Другие возразят, что и четыре картинных предмета, и их, этих предметов – тоже картинные – отражения, подчиняясь замыслу и кисти художника, образуют единую композицию, значит, подстаканников восемь и спорить не о чем.
Хорошо, пусть четыре, пусть восемь, а всё-таки, если один из двух реальных подстаканников в реальном, хотя и картинном, зеркале промелькнёт, его как – считать?
Зеркало ведь тоже художник включил в композицию на равных правах со всеми прочими её элементами.
Не получилось ни безусловное, ни даже условное разделение – вот жизнь, а вот искусство. Нет, путаница сплошная; лучше отвлечься и чай пить.
Подумал: как заинтересованно реагировало картинное зеркало на саму жизнь, на непреднамеренность мельтешений-изменений, как зеркало, наполняясь подвижными отражениями, по-разному оживало…
Встали из-за стола, поскользнувшись о вишнёвую косточку, не упал, удержался (силою трения?) на ногах и, перед тем как распрощаться, стараясь не замечать подозрительно скосившихся лысых монстров, притворился, что очарован техникой живописи, постоял перед зеркалом, посмотрел в зеленовато-жёлтые (с мешками) глаза задумчиво сморщившего лоб двойника.
Снова посмотрел – морщины разгладились, и догадался, что, посягнув на тайны творения, обречён быть «здесь» и «там», – благодаря болезненному эффекту раздвоения прорезается острый, независимый взгляд из зеркала, в том числе и на самого автора, суетливо движущегося маршрутами жизни.
Это как редкостный перископ: чтобы писать, иногда (и неожиданно для себя) нужно вырываться в другое, неведомое обыденности пространство, чтобы обрести новую точку зрения.
И – условный шаг в сторону.
Единство прошлого (реального?) и будущего (воображаемого) как художественный приём?
Совместились ведь отражения в маленьком ручном зеркальце и ёмком зеркале сознания, когда заскочил в него случайно пойманный на лесах соборного портика и, испуганно дрожа, забился в тёмный угол памяти пушистый солнечный зайчик…
Недавно зайчик затрепетал вновь – перекидываясь, дробясь, рикошетируя, превратился в объект искусства, а подлинный зайчик, тот, давний, давший чехарде отражений начальный импульс, уже не был нужен, и даже солнце могло погаснуть?
Всё наоборот, всё – шиворот-навыворот…
Писать сегодня о прошлом, заглядывая в него с помощью перископа и вывернутой назад (хруст шейных позвонков) головы из ещё не освоенных, лишь затопленных тревогой лощин будущего?
Достижимо ли столь многомерное видение в слове?
А в живописи подобный (многообещающий) опыт был – сумел же Пикассо покинуть ласковый плен розового периода, выплыть из сизо-голубых паров абсента и затем, расставшись с рваными кубическими глыбами портретов и натюрмортов, передать в живописи, зашифровав в облике персонажа, прямую речь его: написал портрет сына Поля таким, каким тот себя хотел видеть; зритель недоумевает, откуда у модели этот странно расшитый костюм, а всё просто: оказывается, мальчику, который позирует совсем в другой одежде, именно такой костюм нравится…
И можно ли найти для мгновенных визуальных пертурбаций воображения литературный эквивалент?
Менять точки зрения, менять световые фильтры: взмахнул платок голубой, растаяли за метафорической кормой скудные грязновато-серые годы, и вот на стерильном изобильном Западе – он, свободный потребитель свобод. Глаза умильно слезятся; вынул из дырявого футляра памяти, протёр замшевым лоскутком, напялил розовые очки, взял высокий, с толстым, тяжёлым (прозрачный свинец?) дном стакан, серебряным, с длинной витой ручкой черпачком достал из мельхиорового, с накладным вензелем ведёрка два кубика льда, бросил, в сомнениях (какой выбрать – гордон? Бифитер?) налил, всё же решившись, джин, отвлёкся немного, подождал, глядя, как всплыли из розовой пучины, дохнув можжевеловой чащей, два розовых айсберга, уставился на продажный строй итальянских вермутов – Мартини? Чинзано? Ганчиа? Черси? – еле выбрал, булькнуло что-то призывно в стакане, долил-таки немного лимонного соку (калифорнийского? Багамского? Барбадосского? Ямайского? Гавайского? Флоридского? Не помнит, какой выбрал, склероз), уселся у мраморного бортика бирюзового бассейна, кое-как сумев укрепить дрожащими руками (паркинсон) теневой зонт, уселся-таки в шезлонг с надувной (специально для тощего зада, вот он, цивилизованный сервис!) подушечкой, вытянул поудобнее худые волосатые ноги (ноющая боль в коленях, подагра), взгрустнул: уменьшились глянцевые гордые айсберги, всё тает… и, потряхивая запотевший стакан с общедоступными брильянтиками льдинок, с чувством глубокого удовлетворения смотрит под нежное пение Синатры на восток, за горизонт с вечно грозовыми тучами – как, всё ещё маются там, в покинутой безнадёжности?
И ради столь комфортного финиша стоило бежать год за годом…
Ну да, овладела ведь цель непоседливыми умами: прожить ещё одну жизнь.
Успех второй жизни как поражение?
А пока слежавшиеся облака (уже тучи?) медленно подплывали к Мюссере над потемневшим морем, усиливался дождь; исчезли водные лыжники…
Отпил кофе.
Роман – внутренний монолог?
Эка невидаль…
На страницу упала, задев строчку, капля; растекалась сиреневатым пятном.
Глоток плохонького грузинского коньяка…
А как любила Лера коньяк, и только – армянский, со снежной верхушкой Арарата на этикетке, и обязательно – пятизвёздочный; как чувственно она согревала в ладони рюмку, глоток, всплеск подсиненных век, снова втянутый губами глоток, и вот уже – нет её; доигрался?
Увы, все там будем, Харон перевезёт, такая красота и срок столь краткий, рок… Звонил не так уж давно, мать Леры (не узнала, конечно) сонно пробубнила: Валерия в Сочи. Думал, всё как всегда – Лера ведь каждый год в августе-сентябре отдыхала в Сочи, где же ещё, но вскоре они встретятся, а теперь ему назначено свидание на берегу Леты, постоят, поболтают, посмеются, как прежде и – канут… Так, вернулся в Пицунду, в кафе у пристани: подгоревший край хачапури пусть доклюют воробьи, остывший безвкусный кофе, пустая рюмка, продрогшие листья плюща, мокрая вата неба и – добрая весть о перемене погоды: батумский ветерок – как тёплый компресс простуженному сознанию. И всплывает из тёмных глубин символический, похожий на бумажный кораблик чёлн-треугольник, три любови – на (в) нём.
Одна, ушедшая туда, где все будем, вьётся легче праха над клумбой вне.
Другая, улетевшая за кордон, уже там, куда и задолго до неё катили волна за волной смелые и предприимчивые, творящие свою жизнь, ничего знать не желая о ностальгии. Ну да, нам за тобой последовать слабо, но и стоять на месте не под силу…
А третья, смирившаяся, увядшая, здесь, живёт как живётся, гуляет, наверное, сейчас с внуком и спаниелем по пустырю новостройки.
И тут же чёлн-треугольник вытесняется из сознания другой схемой взаимодействий. Внутренне напряжённая, схема эта обретает объёмность: три возлюбленные, представленные тремя пересекающимися гранями пирамиды, а он – гордая и ничтожная точка вершины её, и заодно – проекция всех трёх граней пирамиды на треугольное основание.
И всё-таки: внутренний монолог?
Лозунг-девиз великого романиста: «Эмма – это я» Соснина раздражал, его художественно-откровенным, исчерпывающе ясным и полным девизом было: «Я – это я», и он не собирался лицедействовать, вживаться в образы, имитировать чужие впечатления, смех и слёзы, тем более копаться в социально и исторически обусловленной психологии персонажей, которую самому же и следовало придумать и… Короче, он не собирался воспроизводить какую-то реальную жизнь, лишая прозу игрового начала.
Ещё раз: всего-то хотел писать тех, кого отобрала память и изменило воображение, причём писать – в отражённом свете, но хотел поставить себя в центр и оставаться в центре, чтобы искать ответы на вопросы в себе, объяснять мир через себя…
Фактология скучна, психологическое письмо – даже тонкое – наскучило, да и поздно было бы отбивать хлеб у классиков (ещё не спятил), ну а социально-историческая ипостась метит произведение независимо от желаний автора; дактилоскопия характера (ха-ха, здесь что-то есть!) так же малопривлекательна, как и его вскрытие, никакого анализа – только показ на фоне текучих пейзажей сознания.
Да, не очень-то доверяя собственным эмоциональным ресурсам, Соснин, однако, верил в магический кристалл композиции и потому смело поместил самого себя – ещё одна схема! – в точку всех схождений и преломлений, а вокруг…
Стольких встретил, узнал, придумал, нашёл, потерял, что может комбинировать, менять мозаику лет и дней, перебирать смальту, выдумывать узор отношений, сомнений, ни о чём не заботясь, кроме самовыражения и попутных эстетических наслаждений – вот оправдывающая средства цель.
Ай-я-яй.
Ну да, этический укор: забыл о Художнике (как записном гуманисте), старающемся для общего блага?
Забыл миф о Прометее?
Удобный функционально-воспитательный миф, запущенный в обращение не смыслившими в мотивах творчества бюрократами от идеологии?
Так, успокойся.
Искусство – не филантропия, не служение (кому-то ли, человечеству ли), а уникальная форма исповедальной автотерапии, в ней прежде всего нуждается сам художник, отводящий (в живопись, прозу, музыку) чудесный поток кошмаров, который разрывает-размывает его (сверх)чувствительное сознание; всё в искусстве делается исключительно для себя, чтобы, раздувая пламя замысла насосом воображения, освещать тайные закоулки жизни и памяти, и если кому-то вдруг повезёт и станет светлее (теплее?) – слава богу, удачное совпадение, только благодарить не за что, вспомним, как юродствовал, не смущаясь, собиратель опавших листьев:
– Что ты всё думаешь о себе. Ты бы подумал о людях.
– Не хочется.
– Что же ты любишь, чудак?
– Мечту свою.
И перелетая океан быстрее «Конкорда» (но не запрашивая посадки) и раз за разом с чувством облегчения возвращаясь, зависает он на какое-то время, перед тем как вновь взять обратный курс, над большой, щедрой и динамичной страной, где обживается сейчас Лина. И не только Лина уже там, за океаном, туда же ведь протянулась заброшенная каким-то шалуном-серафимом нить и его судьбы. Порой даже казалось, что и не нить, невидимая, тончайшая, символическая связь с другим (заграничным) миром, а зонд, шланг, заботливо подключённый к сверхсовершенной системе жизнеобеспечения, и текут по шлангу туда, через океан, а оттуда – сюда питательные растворы, сочатся положительные эмоции внезапно возрождающихся надежд, странная, из жизни № I в жизнь № 2 протянувшаяся пуповина; если её перерезать, находясь за океаном уже, то задохнешься, жизни № 2 не будет уже, хотя там ты с криком родишься заново…
Вспомнился исходный образ: конец нити, заброшенный судьбою туда, в закордонную жизнь № 2; нить натягивается и…
И что же, жизнь № 1 распускается, словно свитер?
А пока (здесь) худо-бедно длится жизнь № 1, текут оттуда, из-за океана, письма, открытки, книги, компенсируя отчасти хотя бы утекающее в рану-пробоину время, помогая (тебе) на новом (актуальном?) материале проиграть старые вероятности, представить в натуре не только давно известные по фото шедевры Райта ли, Миса, но и обыденное окружение – скверные, как пишут, скверики, смертную скуку Квинса и Бруклина (не говоря уж о Бронксе), неброский пейзаж (другой пруд? Другие утки? Или те же? Они ведь тоже перелетают туда-сюда, можно окольцевать, проверить)… Да, вообразить-покомбинировать в калейдоскопе той, под № 2, жизни встречи, знакомства, узнавания и – оглушение собственной немотой, страх и радость суматошно обновляемых впечатлений, звуков, запахов, и вдруг – опять, опять – взгляд оттуда назад, в жизнь № 1, на сей раз и без оттенка довольства, возвращающий к своему багажу – со всеми хитростями увезённому с собой, но и покинутому-потерянному, конечно, тоже.
И почему-то представлял себя совсем в другой, с драматической развязкой, истории, разыгравшейся в книжном, волнующем, издавна – столетие за столетием – чудесно тонущем городе…
Он тосковал по нему…
Как там, дай бог память? Тяжелой и нестерпимой казалась мысль, что он больше не увидит этого города, что этот вечно оживлённый пёстрый город в один миг превратится для него в запретное место. Отъезд представлялся невозможным, отмена его – столь же немыслимой, он хотел этого и боялся, но время не ждало, гнало вперёд…
И, как не раз бывало, воображение обгоняло событие; казалось, муки выбора позади, рубикон перейдён, и даже безболезненно была перерезана спасительная и злосчастная пуповина, и пускался Соснин во все тяжкие – визуальная скаредность его не знала границ. Мысленно не расставаясь с Венецией, он из Вены мог позвонить Лине, назначить свидание в Париже – на Риволи? Под какой только аркой? Где ты там теперь, Лина? С кем? – но Париж на время предательски размывался своим соблазнительнейшим нуаром, а он уже ощущал вкус озонированной реальности, когда на перроне венского вокзала поднимался в вагон: сквозь открыточные, с сине-белыми пиками горы, сквозь гулкие туннели поезд уже нёс его в вымечтанный город, где красочно сошлись восток и запад. И вот он в пёстрой, праздничной, как в театральном фойе, толпе туристов, фланирующих в бесконечном антракте зрелища по инкрустированному светлым мраморным меандром паркету площади у лагуны. И вопреки своим принципам он, хронически одинокий, счастливо смешался с толпой. Скоро вечер, а по-дневному душно, и спасительная тень, лёгкий сквознячок – лишь на балконе второго яруса арок, с кружевом отверстий-трифолеумов меж дугами. И пока не стемнело, образ двухэтажной аркады Палаццо Дожей вдруг безжалостно (за что?) отбрасывает назад – едва уехав, уехав окончательно, навсегда, вдруг вернулся в свой город, стоит на Невском, подняв воротник пальто, у тёмной, мрачной гранитной глыбы бывшего банкирского дома с двумя ярусами полуциркульных арок, из-под которых пару недель назад вышел из «Аэрофлота» с билетом на международный авиарейс до Вены в кармане. И… снова здесь – спасибо за невероятный подарок (кто его сделал? Признайтесь! Ура! Ещё можно передумать!), – снова идёт по мокрому тротуару ставшего приманкой для иностранцев проспекта к мосту с четырьмя чуть наклонившими шеи жирафами-фонарями, сворачивает по привычке на Мойку и, побывав уже там, в Венеции, видит теперь и здесь всё, такое привычное, иначе – незнакомым каким-то, многозначительным. Даже нудный классицизм, жёлтые ящики с пристёгнутыми по центру (иногда ещё и с краев) белыми брошками портиков по возвращении из ажурного каменного чудо-города кажутся исполненными свежести, оригинальными. Ордерное послушание в рамках старательно усвоенного канона, оштукатуренная и раскрашенная труха, нищенски импозантная архитектура плац-парадных фантасмагорий, оказывается, уникальна, её быстро пачкающаяся цветовая пара сдаётся в стирку, химчистку, обновляется к революционным праздникам. Умом Россию не понять (это точно!), аршином общим… Вот ведь как ещё выпало сойтись Востоку и Западу и породить здания-развёртки, похожие на театральные задники, которые (кто знает?) после скучного, под гнусным косым дождём вечернего представления сушат, свёртывают в рулоны, складывают на непромокаемых небесных колосниках, чтобы назавтра опустить к началу незатейливого, изо дня в день повторяющегося утреннего спектакля. Но это уже не проверить (и не передумать, поздно) – некогда грезить; он опять в Венеции: быстро стемнело, а на Сан-Марко – огни, розовые фонари-канделябры и пуантилизм лампочек, и суетливые кривоногие девицы в бикини давно уплыли-таки на Лидо в свои отели (или переоделись?), и другим – медлительным капризным красавицам заказывают франты в бархатных, в рубчик, костюмах ледяной кофе со взбитыми сливками, и душно, очень душно, окутывает пряный, разнузданно нарядный, льстиво затягивающий в ловушку ночи вечер, и горят кляксы света в смолистой дрожи каналов, поздно, очень поздно… А наутро – в путь, в ещё один, хотя и совсем другой город массивных сонных дворцов и красно-черепичного Купола. А вот и старый, до завитка волос знакомый гордый Давид! Как хорошо его, вылепленного светотенью, рассматривать из лоджии Ланци, купаясь одновременно в благоухании цветочного альпинария (тюльпаны, калы, гвоздики, анютины глазки), ничего, что на площади выставлена копия Давида, можно зайти потом в музей Академии, чтобы пообщаться с подлинником, только протолкнуться надо сначала через стаю потешных подагрических старушонок в брильянтах – они, будто мухи, облепили сувенирные киоски… А теперь надо бы пересечь, никого не задев (свобода!), лежбище дегенеративного вида прыщавой молодёжи… Прекрасно, площадь Синьории преодолена, теперь – в спасительную тень Уффици, к музейной двери… О, всё великолепно: рустовка, ложные карнизы, портики, всё, никаких не стало границ, барьеров, и кажется – безверие и космополитизм спасают от ограниченности… Но не до рассуждений, пора: все дороги ведут по голенищу сапога на юг, к вечному, на семи холмах, городу, в прослоенный выхлопными газами воздух античности; и – гулять вокруг фонтанных рыб и лягушек, глазеть, задирая голову, на ещё один, тоже не без приключений вознёсшийся купол, слушать в толпе паломников непонятный, как на птичьем базаре, галдёж вокруг папской энциклики, а затем – отдохнуть, отдышаться среди безрадостно попыхивающих марихуаной хиппи (редеет толчея у ступеней пологой, поднимающей на площадь Капитолия лестницы)… И гигантский, длиной в три ланча и два ковбойских фильма – прыжок через океан, приземление в несравненном, спасительном, переполненном предприимчивыми аргонавтами последнем ковчеге свободы… И, как пишут оттуда, всё хорошо прекрасная маркиза, всё прелестно и элегантно – невиданное количество джинсов, порнофильмов, где более чем прелестные дамы совокупляются с ежами, сенбернарами и даже одна с другой при помощи пристёгивающихся фаллосов… Захирел блюз? Выдыхается джаз? Жиреет китч? Ох-хо-хо! Изобилие выставок, концертов, мюзиклов, опер, нуриевых, барышниковых (бог шельму метит), ох, грехи наши тяжки, можно бы и затосковать в этом компоте, только иммунитет маразматических собраний, пленумов, отчётов, планов спасает… Поверим пишущим письма, но чтобы самому проверить, ошалев, и – головой в омут?! Ну да, в столпотворение рас, в последнюю, наверное, страну-Вавилон, собравшую за Атлантикой в немыслимый сгусток энергии всё и всех (кто успел), принявшую и бросившую страшный вызов Истории, возомнив себя заранее и навсегда Первой, без видимых передышек (щекотание ценами на бензин не в счёт), взвинчивая темп кинжальными спуртами, бегущую грудь в грудь, вровень или чуть впереди грозных сил времени, и только кассета фотофиниша нашей цивилизации, проявленная в кромешной тьме будущего, поможет увенчать сомнительными лаврами победителя этого гибельного, со спринтерской резвостью ускоряющегося марафона.
Мечты, мечты…
Мечты и – инвективы…
Какие-то пугливо-вымученные…
И никуда, ни к каким прояснениям не продвигающие…
Не то, явно – не то…
Ментальная заторможенность?
Или – плыть по течению и мечтать, атрофируя волю, или – решиться, сжечь мосты, и – возможно, вляпавшись, – распрощаться с мечтами…
И, как водится, смутные страхи перед событиями жизни № 2 парализуют воображение, и нет уже на скатерти-самобранке экзотических салатов и живописнейшей, как палитра ташиста, пиццы, и жирных чёрно-лиловых маслин нет… а есть плохонький коньяк, остывший кофе, разряды музыки, вырывающиеся из рубки прогулочного катера… Нет, стало быть, и нервных стрессов, гонки денежных мешков, страха неизвестности, борьбы за существование, оглушения рингом жизни, духовных инфарктов, и все проблемы, оказывается, сводятся к мелким неполадкам литературного хозяйства в неустойчивом климате субтропиков, и воробьи деловито доклёвывают крошки хачапури, и скоро закроется кафе – хачапури больше не жарят, задраено окошко раздачи, надо хоть кофе взять напоследок… Напротив уселись две пожилые гэдээровские немки: очищают кожуру с мандаринов, спорят о чём-то, жестикулируя; оплывшие телеса в опрятной синтетике; панически поворачивают головы к мокрому наждаку неба – польёт ли снова? Да, тусклые бабёшки на безбедной немецкой пенсии, неживые глаза, траченные молью времени пряди волос.
Попытался представить их молодыми, опьянёнными, в экстазе поднимающими над головами детей, чтобы увидели маленькую фигурку в аскетичном кителе с красно-чёрно-белой повязкой на рукаве, стоящую там, за ревущим морем голов, на трибуне.
Получилось.
«Чума» – н-да, сильный, ёмкий заголовок… А «Посторонний»? Точно, непреложно… И что с того, мало ли пронзительных классических книг на полках! Ему не до поисков заголовка, когда мысли разбегаются, форма расползается… Впрочем, можно и поискать, невсерьёз, между делом. «Пирамида» – путаный образ, свяжется с иерархией власти, борьбой за кресла, смысл накренится; «Красное и зелёное» – потребует психологической наполненности, оживления персонажей, подлинных душевных движений, чистых эмоций; остальное вообще без метафоризма, глубины, скорее подзаголовки – нет внутреннего конфликта. Может, загадочно-неопределённое: «Семь холмов»? (В огороде бузина… Каких ещё холмов, Мюссерских?) Или короче и ещё загадочнее: «Семь»? И не слово, а цифра: «7» – имеет он право на любимое число, талисман, цифровой символ? А может быть, игру перенести на обложку – «Что-то случится»? Или «Нежная хвоя»? «Душистый оттиск»? «Розовая оптика»? «Цветные сны»? «Холостой залп»? «В воздушном склепе»? Или – играть так играть! – выручит шахматная терминология:
«Потеря темпа»?
Или же «Вечный шах»?
Не то, не то…
Устал, игра в теннис многими мячами сразу, его подача, он мячи запускает сериями, один за другим, не думая об ответном граде ударов, а ведь все удары отражаются двойником (ты?) – а он старается, режет, закручивает, выходит к сетке, и летит сразу много в нежной байковой опушке мячей, не уследить, нервное напряжение, как у авиадиспетчера, выбился из сил, гудят на пределе натяжения струны… А двойник (я?) посмеивается, от него сочувствия не дождаться.
Ох, надо бы отвлечься, развлечься (увлечься?), и тогда непроизвольно потекут строки, поплывёт, преображаясь, текст, обретёт естественную лёгкость письмо; забавная вчера в голубой (свёрнутой из платка) чалме, длинном лиловом платье, под звон брелоков на набережной мелькнула женщина, светская, чуть богемная – откуда здесь вне сезона?
Из киношного Дома творчества?
Из «Литфонда»?
И всё не то, не так; совершенством, изысками стиля – не прельщаться (а где они, изыски, где?), соответствие эталонам (каким ещё эталонам?) не считать мерой вкуса: нужна стилистическая терпимость, небрежность, даже неуклюжесть письма, даже корявость (то бишь естественность), но и скрепляющий стержень необходим, и барахтаться беспомощно в волнах в оранжевом спасательном жилете ему не пристало, угодил в муторный промежуток, что-то умеет (даже многое), но комплексует – получится ли?
И ждёт, пока потянет буксир удачи… Парадокс: надумал писать для себя, а фактически истошно вопит из-за столика кафе собравшимся на морском берегу друзьям, знакомым и прочим (в соответствии с Конституцией) отдыхающим – да я чепухой занимаюсь, балуюсь, не обращайте внимания; но – вдруг похвалят?
И всё время ощущение слежки, филёр идёт по пятам, подсматривает (через плечо), тихо, ступая на цыпочках, крадётся следом; если оглянуться – никого… или что-то мелькнуло?
И снова взгляд я-невидимки упирается в спину, подсказывает, хватает за руку. Изнурительный бой с тенью, всё застопорилось, ты начинаешь вымарывать мнимые оплошности, а следующая страница девственно чиста, но чудится, что уже давно исписана симпатическими чернилами.
И опротивели нравоучительный тон, ходульная образность, стёртый язык; избегая легковесной занимательности, остаётся погружаться в велеречивую скуку, чуждую невежественному обывателю и способную усыпить эрудитов.
Для себя писал, конечно, для себя, для кого же ещё?
Но вершина – недосягаема, никчёмное, оказывается, получилось поползновение… Ладно, последний глоток, и не забыть о плане на завтра: а) ковёр, бисер; б) источники, подлинность и фермент вымысла (домысла? умысла?); в) было – не было; платан на ялтинской набережной, А. П. Ч.; г) купить новый стержень для шариковой авторучки – стержень нужен теперь, как шприц наркоману… И всё, на сегодня хватит, в бар потом заглянуть, пусть оглушит музыкальный грохот, ослепят цветные лучи; в курточке, разукрашенной пряжечками, нашивками, молниями и прочей импортной галантереей бармен: ниточка пробора через прилипшие к черепу волосы, жёсткий порочный взгляд и квадратный гладко выбритый (до просвечивающей сквозь загар синевы) подбородок плейбоя, ухватки провинциального мага, размахивает, жонглируя почти, шейкером, предварительно намешав туда какую-то чернильную дрянь… Ненадолго заглянуть, вдруг и голубая чалма там, забрела в поисках спасения-приключения. Такие пустые, тёмные, от ночи неотличимые вечера, а спустишься из накрытой кессонированной кепкой стекляшки бара – и вовсе пусто, никого, тихо умирают окна, и сыпет, сыпет из сальных пятен фонарей дождь, и в маниакальном гите шарахается по небесному треку холодный луч маяка.
После удачного дня легче переносится вечерняя скука. Сегодня же пошёл день насмарку, всё не то, не так… А что нам обещает завтра? Узкая, цвета клюквенного морса полоска над горизонтом оставляла ещё проблеск надежды, однако под утро и она грозила раскиснуть новым самообманом: не исключено ведь, что обманывали не бледные краски немощного заката, а проплывал к берегам Крыма равнодушный к судьбе ухнувшего в кавказские бездны барометра, зафрахтованный каким-нибудь искателем-фокусником розовый айсберг.
Лучше, ничего не загадывая, спокойно, ни о чём не думая, посидеть в пустом кафе; яркая южная герань горит рядом, мелкой дробью отзывается на дождь пальма, мерно, без усилий (иногда с лёгким скрипом) покачивается неопрятно-мохнатый, в клочьях слежавшейся, как пакля, коричневой шерсти ствол, усыпляет нежный звуковой накат моря, и ничего больше не надо искать, загнать обратно в депо неиспользованные метафоры, и – утешительный заезд: беспамятный (подавил зевок), под надсадный храп соскользнувшего с ночных гор ветра, без вещих снов сон… Только минуту ещё хочется посидеть неподвижно, вслушиваясь в музыку сфер; и, кажется, просыпаются новые желания, намерения, планы… Ни на что твёрдое-прочное не надеяться, только на непроизвольные позывы, сцепки случайностей…
Колодой карт рассыпались фотографии.
Выцветшая, послевоенная: на Дворцовом мосту мальчик с лицом испуганной обезьянки; что-то застало врасплох его тусклое, потраченное на книги и рисовальный кружок отрочество, скорей всего, опередив щелчок фотозатвора, бухнул с бастиона крепости полуденный выстрел.
Мальчик растерянно моргнул, но через долю секунды увидел Адмиралтейство, а объектив поймал ещё сбоку от него вползающий на разводной пролёт моста старенький трамвай с открытой площадкой, а сзади, за спиной мальчика, перед периптером Биржи – вход в Зоологический музей; мальчик частенько там рисовал выгороженные стеклом чучела оленей, грациозных ланей, косуль, делал лёгкие, в одну линию, наброски: застывшее движение, поза, осанка, поворот головы – натуральные чучела в объёмных витринах с театрализованным антуражем (мёртвая берёзка с вечно зелёными клейкими листиками, неприступная скала из папье-маше) или, постояв перед дивным павлином (какой фантазёр разукрасил хвост?) и, пройдя потом под огромным, как останки пространственной арматуры дирижабля, скелетом кита, поднявшись по лестнице, попадал в тихие комнаты с плоскими, из красного дерева, застеклёнными стендами и, прижавшись лбом к холодной прозрачной преграде, долго рассматривал в упор ярко, нереально ярко, с ювелирной затейливостью расписанных цветной пыльцой бабочек. И как-то подумал, что даже самая крупная и нарядная из них, судя по пояснению на стенде, порхавшая когда-то над знойным Карибским островом, если бы вдруг ожила, освободилась от иглы, вылетела из-под наклонного стекла, затрепетала… Странноватая ассоциация, но он подумал о Лере.
И ещё серенькие фотографии, но уже студенческих лет: у деревянного, с резными наличниками, домика – на этюдах в Плёсе…
А вот Ялта, да, он, уже студент, будто в камуфляже, окутан солнечно-пятнистой тенью, под вечным платаном ялтинской набережной, вдали – мол, свеча маяка.
Лет через шесть – Литва, Нида, первый приезд на Куршскую косу: крутой бок поющей на ветру дюны, потом – березняк, колючие заросли ежевики.
А вот фото куда новее, с фигурным обрезом: три? Четыре года назад?
О, так ведь эту же фотосерию здесь, в Пицунде, снимал пляжный фотолетописец Мурад! Шальная компания, грузинские пиры, костры, пикники.
Пробив и вымостив булыжниками долину в полногрудой, райскими кущами поросшей земле, мощным и плавным кролем несётся Бзыбь, а фото будто раскрашиваются; в стилизованной хижине – копчёное мясо, пышной зелёной горкой – кинза, тархун, цитма, и оранжевые, как абразивные круги, лепёшки кукурузного хлеба, и рубиновые стаканы с Ахашени…
Следующая фотография – берег в Мюссере, устье третьего ущелья, у кромки прибоя на белом квадрате пластиковой скатерти – жареная рыба, сулугуни, помидоры, груши, чёрные грозди изабеллы, и, – кажется, сквозь годы доносится, – перезвон бутылок, в огромной сетке брошенных в лениво облизывающие камни волны.
И плыли потом через бухту; садилось и, прогнув слегка горизонт, с зелёной искоркой утонуло солнце, и они плыли по розовой воде, сливавшейся с розовым небом, поднимая стаканы с розоватым на просвет Гурджаани, и тёплый розовый туман плыл в голове. И сейчас всё так же плывёт, всё-всё, как этот начинающий разгон текст, куда-то легко плывёт, и хорошо не думать, к какому прибьёшься берегу… А тогда, когда плоское дно катера зашуршало по гальке и они, спрыгнув в воду, выбирались на сыпучую твердь, прежде чем барышня-лаборантка небесного планетария ударила пальчиком по клавише, чтобы зажечь звёзды, сиреневую и сразу сизо-лиловую гущу сумерек где-то высоко-высоко над тем уже невидимым местом, откуда они приплыли, пересёк розовый, как перистое облако, проведённый божественным мастихином след: прожектор утонувшего солнца подсвечивал снежную гряду гор.
И отбившись от захмелевших попутчиков, казалось, только что сошедших вместе с ним с приписанного к курорту глиссера, подумал: если одиноко спрятаться от бессмысленно одинаковых дней, как прятался сейчас на избранном реликтовым лесом осеннем мысу, и писать, писать, он, может быть, действительно написал бы роман, мемуары или вовсе не укладывающуюся в жанр, переливающуюся оттенками прозу, и, если это удалось бы ему, то – зачем туда?
Как там у Чехова? Если бы знать…
Но если, доверившись благой цели, спрятаться от будней, макетируя душевные катастрофы в очаровательных декорациях пейзажей и экзотических, с национальной утварью интерьеров, чтобы жить-писать под воображаемыми обвалами прошлого, оркеструя внутренние мелодии одним лишь грохотом моря, не испытывая при этом новых мук, надежд, крушений, то какой может получиться роман? В лучшем случае получится альбомная литература.
«Тогда», отделенное от «сейчас», – заспиртованное в пробирке, пусть даже трогательное, как памятный урок, прошлое; но зачем оно нам, такое, не вмешивающееся ни во что, не спорящее с предстоящим и само не меняющееся от вновь случившегося?
Кто-то из великих романистов, кажется, Томас Манн, сравнивал словесное творчество с особым видом затейливого и терпеливого ткачества, а восприятие произведения того же романа – с всматриванием в пёстрый и фактурный, сотканный из множества цветных узелков ковёр, провоцирующий фантазию блуждать по лабиринту узоров и сталкиваться с неожиданно возникающими образами.
Соснин с сопоставлением прозы с ткачеством соглашался, однако свою задачу заведомо ограничивал, считая, что узелков в его тексте-ковре будет всего-то – три.
Впрочем, Кира, Лина, Лера, выписываемые вне связей их с охватывающей и обминающей жизнью, не узелки даже – узлы; вот он, концепт: три женские фигуры самодостаточны, кроме них – только авторское Я, и, поселившись в пустом мире (исследователь заперся в лаборатории? Экспериментирует на себе?), остаётся сплетать нити трёх подкрашенных символикой судеб с нитями судьбы самого Соснина, всматриваться в узор, выдёргивать в сомнениях лишние…
Ну да, терпение и труд, но вдруг сплетения, ковровые стежки – побоку; вдруг пускается он в поэтическую погоню, собственную жизнь, такую неяркую, но, словно жар-птицу, хочет поймать, а только перья из хвоста в руках остаются – улетает она в своё сказочное гнездо…
И вспоминается одно из философских (близких ему) определений жизни: «усилие во времени»; получается, если перейти на строгий язык, он хочет догнать и поймать «усилие»?
Очень мило.
Как выбрать в романном пространстве выигрышные (пронзительные?) взгляды-ракурсы на тот ли, этот фрагмент жизни?
Стандартные муки выбора…
О ком подробнее рассказать, о ком – вскользь?
Кто картины заслуживает, а кому эскиза довольно?
Все заслуживают, он ведь всех любит, всем благодарен.
Однако этика напарывается на литературу, не умеющую жить вне отбора: пора решать, кому отдать передний план, кому – фон.
Между тем персонажи (?) уже начинают теснить друг друга: этого упомянул дважды, а тот что – недостоин?
Но всё это, слава богу, не про него, он ведь «Я» помещает в вакуум…
Пока же губительная технология композиции заставляет сгущать, концентрировать, выдавливать лишние (?!) соки, и тут же облепляет чешуя литературщины: неписанные законы бросают из стороны в сторону искомую мысль, хватают за руку, заставляют спотыкаться перо (спотыкаться стержень с пастой – не скажешь!), пытавшееся было перескочить черту между литературой и жизнью.
В переходящем в свару споре жадно-загребущих порывов с нормативно-вменённой краткостью он поочередно принимает сторону каждого намерения своего.
Утром ему хочется (руки чешутся) всё включить в текст, побаивается, как бы что-нибудь не забыть, но оказывается, что какие-то узелки на память и не завязаны вовсе, нет их, исчезнувшие фантомы, а к вечеру выясняется, что сам он, как фильтр, задерживает лишь малую долю найденной правды – ту, которая ещё беспокоит, саднит, волнует.
Несправедливое ограничение выбора, привередливость зеркала, преграда, не пускающая к полноте, заставляющая, смирившись, повернуть поскорей (не поздно ли?) к каркасу интриги. Остальное – заполнение: раз не волнует, не взвинчивает сюжет, не обещает клубнички ……………………………………………………………………………………………… ……………………….…… значит……… ……………………….ничего……………………… ………………… …….………………………………………………………………… никому…… (клякса на три строки) не понадобится. Но нужны ли эссенция без воды, изюм без булки, цемент без песка и гравия? Снова: балансируй, ищи пропорции, и чтобы сочинённое волновало, волненье – главное.
Великий романист предостерегал: знание источников, из которых художник черпает вдохновение, часто способно вызвать смущение, напугать и тем уничтожить действие сильной вещи.
А если вещь действительно сильная (ого!) и при этом сводится к описанию, точнее – вольному истолкованию неведомых (никому?) источников?
Как тогда?
Литературным героям дать имена, персон реальных – укрыть за инициалами?
И узнаваемость сохранить, но помнить: толщу текста пропитывает тонизирующий фермент недостоверности, факты, события, прямая речь подправляются, динамизируются, переименовываются, подчиняясь соблазну художественного совершенства в той его идеализированной форме, которая на данный момент овладела автором.
И исключить утомительную чепуху вопросов, домыслы, подозрения тех, кто ищет в такого рода (исповедальной?) литературе замочную скважину: взял из жизни или придумал? Кто прототипы? Любил – не любил?
И каков на рандеву наш герой? Страдал, обещал (руку с сердцем) или только «собирал материал», готовился к сочинительству, а вовсе не жил?
И всё придуманное – надумано? Так, вялые, усыпляющие, как отчётный доклад, фантазии.
Или всё – голая правда, всё – было, и, пожалуйста, всплыли-таки мелочные и недостойные, заслуживающие стыда и презрения к самому себе записки ещё одного подпольного Дон Жуана. Интересно, закатила ли жена сцену ревности романисту, прочтя Лолиту? Кстати, за слова персонажей ныне принято судить авторов.
Слова, поступки, моральный кодекс героя – всё ставится в вину, проза (считают многие) – это форма добровольного, опережающего протянутый портсигар следователя саморазоблачения автора.
Спасительное раздвоение?
Нет, зримое раздвоение – не в счёт, в зеркале не спрятаться, к тому же пока ты (вернее, я) там, в зеркале, герой может творить всё, что угодно, укоризненный взгляд его не удержит: он совершеннолетен, самовлюблён, уныло рассудителен, нежен, но осторожен в начале, жёсток и даже жесток в конце; воспаряя в дебюте любви, оправдывая затем охлаждение сомнительными, в духе новейшего скептицизма уклончивыми сентенциями, он тихо-мирно деградирует; он почти сексуальный маньяк, этакая чтящая уголовный кодекс Синяя Борода, короче, уравновешенный неврастеник, жалобливый и фанатично трудолюбивый лентяй, созерцатель с повадками циника, молчаливый собутыльник (в компании), эксцентричный, склонный к дешёвой аффектации крикун-ругатель (в одиночестве), фантазёр-мазохист… Да, отвратительный типчик, достойный коллективного осуждения… Но с автора-то, пусть и породившего такого (типчика) героя, взятки гладки, а ему сорок бочек арестантов вменяют…
Может, что-то в биографиях и характерах автора и героя (типчика) совпадает?
Ха-ха, мало ли вокруг совпадений.
А если автор – зачинщик?
Или подстрекатель?
Да нет же! Автор и сам не рад, что заварил кашу…
Автор даже готов был бы отбившегося от рук героя к психиатру послать – пусть, если уголовную статью подобрать затруднительно, медицина карает, пусть упекут куда следует, разве нельзя припаять ему вялую невменяемость, растерянно шатающуюся между манией преследования и манией величия?
Можно, только автор пожалел в последний момент, зная все тонкости его внутреннего устройства, не захотел ставить в общую очередь с отправленными на принудительное лечение алкоголиками.
Вот и попался!
Пожалел – значит, любит, выгораживает, не разоблачает открыто, ретуширует грехи (маньяка?), не отмежёвывается, не открещивается, юлит в тумане полутонов, вместо того чтобы по заслугам, принципиально мазануть дёгтем.
Однако это лишь цветочки, нередко пропускающие вперёд ягодки.
Вспомним: стоит (не дай бог!) чему-нибудь в тексте случиться (за героем не углядеть), как автору готовы тут же мокрое дело шить, его руки – опережая разбирательство, скандирует жаждущая зрелищ толпа – обагрены кровью: с бодуна убил? – ведут следствие знатоки, но где отпечатки пальцев, где, наконец, результаты вскрытия?
Увы, авторское алиби юридически недоказуемо, хотя многие могли бы подтвердить – критик X, например (нет, X эмигрировал уже, упаси бог от такого свидетеля), – что в злополучный момент автор (вернее, ты… или я?) преспокойно отдыхал в… Ялте? Переделкине? Коктебеле? Гагр… ах! В Дубултах, и подтвердит этот факт всеми уважаемый публицист-международник Y (да-да, тот самый, что в кулуарах писательского пленума изнасиловал подававшую надежды поэтессу Z), он ещё, мертвецки пьяный, играл в тот день с автором на бильярде и, пытаясь прицельно вогнать шар в среднюю лузу, пропорол кием импортное травяное сукно безупречного, как английский газон, стола, что и зафиксировал по всем правилам составленный акт… Однако сие побочное событие (и бумажку, документ!) выбрасывают в корзину внетекстовых связей, где копаются лишь какие-то дотошные чудаки.
Зато отягчающими вину уликами становится вызывающий отвращение физический облик автора, наверняка ответственного (кто же ещё?) за физиологические отправления сочинительства: потливость вдохновения, икоту растерянности, кретинское выползание не поместившегося во рту языка, идиотские ухмылки и розовые глаза творческих озарений, сладострастное мяуканье, сопровождающее неприлично откровенные ласки любимого образа.
Боже, сколько конфликтов, обид, ссор недоразумений… Вот бородатый брюнет-пейзажист с обжигающими маслянистой грустью глазами и прыткой подругой, тоже пейзажисткой, в Плёсе – взбираются с мольбертами и тяжёлыми этюдниками на округло-крутые изумрудные пригорки, утыканные рябыми берёзками (ох, сколько их, внетекстовых связей с замечательным антуражем)… А знаменитый писатель прогуливается по ялтинской набережной, идёт, например, за молодой дамой со шпицем на поводке, вслушивается в шум моря, посматривает на фотографирующихся под развесистым платаном гимназисток или – можно сколько угодно фантазировать – откашлявшись, подзывает извозчика и в своём доме под морщинистой стеной Яйлы что-то вспоминает, придумывает, разглядывает подаренный когда-то этюд, написанный обидчивым другом в Плёсе, заметая следы, перекрашивает брюнета в соломенного блондина и прочая, прочая… Так ли, иначе, но переплавлялась в обманы творчества правда, однако достоверно известно, что впереди была ссора…
Да, вспомнил: сам ведь тоже когда-то, в начале шестидесятых, в Плёсе, взбираясь на округлый пригорок с берёзами, споткнулся, упал в высокую траву…
Как-то некстати ушибло воспоминание…
Споткнулся, другая нога поехала…
Ну и что?
Пока подержать его, внезапное воспоминание, в сознании – пусть перебродит, вылежится…
Допустим, выпятив грудь, страдая одышкой волнения или скосив глаза, он действительно обнял и поцеловал её на садовой скамейке, под облачком мошкары, а вот того, что было до этого – встреч в полутёмном коридоре, взглядов, улыбок симпатии – никогда не было, и всего, что случится через несколько страниц, не было тоже, или было, но как-то иначе, и описано-то реально случившееся именно так, а не по-другому, с единственной целью – удержать картину в подсветке искусства.
Что же в такой картине важнее: буквалистская правда одного эпизода или красочная вымышленностъ другого?
Или почему-то влечёт их прихотливая и не делимая на беспримесно-чистые компоненты смесь, предъявляющая игристую правду-ложь?
Было – не было…
Патологии достоверности…
Зачем гадать на кофейной гуще намёков? Лучше, отбросив мелочное житейское любопытство, довериться художественному желанию отцепить якоря достоверности, представить варианты отношений, парящие над ускользающим стыком сопряжённых миров искусства и жизни, придумать ситуации, нащупать ведущую идею, тут же её потерять и, оттолкнувшись (от чего угодно), пуститься по её следу, в колебаниях между воображённой и подлинной интроспекцией разыграть отобранные варианты в иных, быстро меняющихся обстоятельствах и мысленно обогатить свою жизнь, вместить в неё больше, чем реально выпало пережить.
Но если вместил, добавил, переиграл последовательно и сводя вместе разные версии событий, если вальсировал до головокружения (у него даже в такси – морская болезнь), целовал до остановки дыхания (увы, он не йог), то, значит, и пережил, стал богаче?
А что остаётся от реальности – дымка?
Всякое воспоминание – сдвиг в жизненном материале: отбор, перетасовка, грим, сохранение лица, честь мундира… И тут же вмешивается воображение, вызывая новые сдвиги: смещения, нависания, эксцентриситеты, ах да, не забыть про сурик, лаки антикоррозийной защиты; и – пошло-поехало: заполнение каркаса и попутно сущие мелочи – слёзы лицемерия, бунты и истерики персонажей, экзальтация, намерение пощекотать корифеев, набившие оскомину ухищрения беллетристической липы… А курватуры стиля? А искажения оптики? Угол падения не равен углу отражения… И взбивает животворный белок подлинности волшебный миксер воображения: корица, цукаты, лимонная кислота, засахаренные орешки – торт-безе, украшенный (слегка) клубничкой эротики… Какая там реальность, оттолкнулся – и пари в сладковато-пыльной, придуманной атмосфере.
Нет, ужалила догадка, почему же – некстати?
Всё в масть: взбирался в Плёсе на округлый пригорок, споткнулся о выпиравший из земли мозолисто-гладкий корень берёзы, упал да так и остался лежать в траве, высокой, густой, душистой…
Блаженство! По ближайшей к глазу покачивавшейся травинке деловито ползла коричневая, украшенная жёлтыми точечками и бежевым плюмажем букашка… Листья дрожали, мельтешили в небе, шумели на посвистывавшем ветру, а когда поднимался на ноги, сбоку от морщинистого, чёрного, в кривых наростах коры основания ствола старой берёзы блеснула Волга…
Ну что особенного? Споткнулся, упал.
Споткнулся, упал, блеснула Волга, а сейчас вдруг вспомнил об этом – точно так всё было или удачно, своевременно так, сверсталось?
Какие там мемуары!
Чистой воды роман – агония подлинности.
Ну да, это не то, что было, и даже не то, что придумано, это фантастически реальный мир зазеркалья.
Когда пишем, мы беспокойно раскачиваем зеркало здесь, а написанное, то бишь отражённое, отпечатывается в непостижимом измерении новой правды; «над вымыслом слезами обольюсь» – гениальная формула; а вот ещё строчка о том же: «только ветру связать, что ломится в жизнь и ломается в призме, и радо играть в слезах», а пока нарастает путаница понятий, через которые он, загнанный в зелёный угол премилого пицундского кафе, пытается всё-таки определить суть и форму высказывания, мотивы сонливо-резких движений сюжета «ни о чём» – бестолкового поводыря ослепленной проблеском мечты мысли; и мокрые красные соцветия, дождь, мутно-бирюзовое море; смеркается…
Медленно угасает небо.
И вдруг – сверкания, собор: грани тёсаного известняка, уходящие вверх, лоск малахита, вспышки позолоты в прорехах рогожи, тучи голубей, помёт на карнизных тягах… Не образ, а мощное средоточие образов, и – солнечный зайчик, летучий, трепещущий от прикосновений к камню.
Нашлись ответы на вызов?!
Почему нет?
– Золотой купол, падающий на крыши…
– Блеск Волги меж стволами берёз…
– Живая отзывчивость картинного зеркала…
Что ещё?
Да! Собор-исполин и солнечный зайчик…
Монументальная образность – и воспоминание, летучее и бесплотное, как солнечный зайчик, возникающее и исчезающее в сонме мельканий, а уж иллюзорно схватив одно ли воспоминание, другое, разгонять письмо и – попутно, с импровизационной лёгкостью – разводить мизансцены моноспектакля «Я» с тремя попеременно выбегающими на авансцену масками-ассистентками: им надо дать имена, чтобы они стали его созданиями.
Молчаливая покорность?
Счастливая беззаботность?
Нацеленность за горизонт?
Лина, куда ты так рвёшься? Подожди, успеешь ещё догнать цель свою, пока – не твой выход.
Лера, хватит хохотать, испортишь фонограмму, угомонись, не дурачься…
Скоро начало, ещё не третий звонок, но всё же вот-вот пойдёт занавес, прекрасно, Кира, розовая кофточка – к лицу, и причёска удалась, не волнуйся попусту, улыбайся, и – само собой – искренне, а если потекут-блеснут слёзы, то – натуральные, без фальши.
Аншлаг?
Бенефис?
Ха-ха, не стоит загадывать, да он ведь и не тщеславен; премьеры вообще не будет, зрителей он так и не подпустит к сцене, но вот-вот начнётся последний прогон для себя, генеральная… И конечно, прогон вовсе не в каком-то материально-реальном театре – в сознании.
Стиль? Суховатость, плотность, даже тяжеловесность… и – лёгкость, летучесть, неуловимость… Несводимости, сведённые воедино, причём – желая невозможного! – в диапазоне от минимализма до барочной избыточности.
Да ещё – сам процесс добывания-сочетания плотности и летучести: необъяснимый процесс, который поинтереснее его результатов.
Дрожащие контуры лиц, предметов; ничего определённого, законченного; подвижность-непрерывность становления; восхитительный мир вибраций.
И творится этот мир в… вакууме, да-да.
И – между прочим – никакая не любовь, а влюблённость, если поточнее быть – три влюблённости (влюблённости – как любовь между строк?), ещё точнее – флёр трёх влюблённостей.
Между строк, между строк…
Вот бы так – всё сокровенное, что хочется сохранить-высказать-передать, уместить между строк.
Флёр?
Да-да-да, именно флёр, волшебная реальность вожделения (эротического ли, творческого), которую так трудно выразить.
И кстати – вспоминая сыр-бор с поисками жанра, – вовсе это не роман будет (если будет); пока, во всяком случае, не роман, а набросок к роману… Ура, набросок! Отменный подзаголовок.
Оставалось незастывший заголовок найти.
…Репетиция ностальгии? Что-то знакомое; промельк двух слов на странице чудесной книги – замечательная подсказка.
2. Кира
Впервые Соснин увидел её (назову её Кирой) давно, ещё до Леры – коснулся взглядом и прошёл мимо.
Заиграла, правда, где-то в глубине души, приведя в вибрацию фибры, какая-то невнятная увертюра, хотя тут же и оборвалась – не стоило дёргаться, не в метро ведь, где нельзя медлить, сомкнутся резиновые губы дверей и…
Короче, отсюда, из вестибюля проектного института, она вряд ли могла исчезнуть бесследно: коснулся боковым зрением, отметил, пришлёпнув знак качества, и – мимо.
Затем сталкивался с Кирой на лестнице, в увешанном выцветшими подрамниками коридоре, улыбался, и она, кивнув ему, улыбалась; похоже, взаимная симпатия вызревала, но только через несколько лет, уже после Леры, встретив её на Невском, сразу же подошёл, заговорил с ней, как с давней знакомой, и почему-то отправились они в тот вечер в кино – такое было начало.
Вообще-то в те далёкие годы Соснин не без затруднений преодолевал внушённую раздельным обучением стеснительность, ни на улице, ни тем более в метро, где требовалась особая быстрота реакций, за девушками не увязывался, заторможенность лишала импульса инициативы – как, с чего начать?
О, уже после первой-второй фразы он мог бы, импровизируя, продолжать-развивать беседу, а вот начинать – не умел.
Пожалуй, исключение из этого правила лишь Лера подарила ему, экзотичная Лера – к ней толкнуло, волшебно раскрепостив, острое любопытство и мальчишеское желание тут же, не сходя с места, доказать себе, что он достоин быстрой победы.
Сейчас, однако, установление эмоционального контакта с Кирой тоже не потребовало никаких специальных усилий.
Просто первый шаг к такому контакту растянулся на годы: после многократных кивков с улыбками на лестнице и в коридоре естественно было бы посчитать, что случайная встреча на Невском – не начало вовсе, а продолжение.
Так и посчитал.
Пока пересекали Марсово поле, шли по Троицкому мосту, внутренние вибрации внятно преображались в музыку, – забренчала арфа, ещё какие-то смычково-струнные инструменты… и даже что-то нервно выдохнул саксофон.
Когда вышли из кино и Кира присела на садовую скамейку у «Великана», чтобы раскурить сигарету, державший её за плечи Соснин, скосившись на размахавшуюся не ко времени метлой каргу-подметальщицу, наклонился, поцеловал.
Кира безвольно как-то и виновато высвободила губы, засмеялась тихим, чуть хрипловатым смехом, потом чиркнула спичкой, долго жадно затягиваясь и выпуская конус голубоватого дыма в пляшущее облачко комаров, молча гладила его жёсткие волосы, смотрела вслед удалявшейся на помеле карге, о чём-то думала – думала, наверное, о том, куда всё это приведёт.
А привело это – и довольно быстро, – в её узкую и длинную, как пенал, комнату с высоким окном, смотревшим на сонную Мойку, на неряшливые, сорившие пухом тополя, на массивный тёмно-графитный дом за ними, на противоположном берегу Мойки, – дом с пухлыми каменными амурами, которые бесстрашно, как лунатики, прохаживались по карнизной тяге предпоследнего этажа.
Соснину хотелось бы продлить томление неспешных прогулок с красивой женщиной, продлить влюблённость, а не спешить к любви с её незалечиваемыми ранами на изнанке краткого счастья, однако продолжение означало и дальнейшее развитие сюжета; натягивались струны, тревожно усложнялась музыкальная тема.
И вот – сердце упало, и – падало, падало в бездонную пропасть, пока зеркало на дверце ветхого платяного шкафа, со злорадным спокойствием удваивало ширину комнаты, а качнувшись, добавляло в комнате зачем-то еще ещё одну кровать с высокой металлической спинкой, увенчанной тремя (четырьмя?) тускло поблёскивающими, как среднего калибра пушечные ядра, шарами-набалдашниками, лоскут коричневато-ржавых обоев с амфорами, тополиную шевелюру за пыльной фрамугой, вымыть которую не было, наверное, никакой инженерной возможности. Тем временем, смущённо прячась за открытой зеркальной дверцей, почти забравшись в шкаф (выпрыгивали из-за дверцы неловкий локоть, золотисто-рыжая волна причёски, округлый бок), Кира аккуратно повесила на плечики розовую кофточку (оголился локоть), медленно расстёгивала (на видимом боку) молнию юбки. Соснин же рассматривал ещё и взлетевшего на шкаф (чтобы всё видеть?) целлулоидного пупса, а в зеркале, в сопровождении филёнчатой двери и угла белой кафельной печки – свои ноги-ходули, впалый живот под хворостом рёбер, потерянное лицо; а поверх края зеркала отвратительной бормашиной жужжала, билась в судорогах, тараня пыльное стекло фрамуги, жирная муха, хотя одна из оконных створок была открыта – на горизонтальном горбыльке створки лежал тополиный пух. Из-за зеркала высунулось вдруг (вот оно!) бледно-розовое бедро, прострелил навылет карий глаз, но дверца резко качнулась, выметнув ядовитые жала-язычки галстуков (чьи? Бывшего мужа?), показав только пёстрое крылышко надеваемого халатика, но шкафная дверца успокоилась, и Соснин ощутил головокружение, знобящую дрожь и – словно после тяжёлой болезни – слабость в ногах, а внутренний голос, садистски резонируя с жужжанием мухи, повторял сомнения: ещё не поздно, стоит ли ввязываться? И – поздно, поздно! На какую-то долю мгновения его приняла шаткая палуба, и он сорвался, нелепо жестикулируя, в веерообразно распахнувшуюся мутно-коричневую пучину, дёрнулся, беспомощно дрыгая ногами, закачался в тёплой похлёбке воздуха, словно клоун в цирке, зацепившийся за спасительный крюк резиновыми подтяжками, но отцепился, исчез из зеркала, освободив комнату для её постоянных немых предметов; равнодушно поблёскивая, точно ничего необычного не ожидалось, металлические ядра, привинченные к узорчато-фигурной спинке кровати, неслись в нервный тик листвы, накрытой пыльным зафрамужным небом.
Поздно отступать – он ввязался, и Кира, наверное, что-то затруднённо шептала, и он, должно быть, целовал её смущенное, вдавленное в подушку лицо, а потом, слегка обиженный и удивленный её робостью, почти неопытностью, разгадывал причину испуга, виноватых, пытающихся спрятать начавшее увядать тело движений рук, натягивающих до подбородка простыню, и думал – они похожи?
Легко ли ей пускаться в новое, рискованное в её годы любовное приключение?
Но как же им спокойно теперь – мирно лежат рядышком, а муки одержимого желаниями-сомнениями начала оставлены позади, и разумнее было бы вообще ни о чём не думать, пока пробившийся сквозь тополиную листву свет не оборвёт сумасбродный вальс сновидений.
Много позже, склонный к отвлечённым размышлениям Соснин понял, что Лера любила его страстно, но – временно, сезонно, не ломая привычного уклада жизни, вполне комфортной, не строя планов на будущее, не желая рисковать, приносить и малые жертвы к условному алтарю.
Лина же любила, вынашивая цель, которую, если бы захотел, он, наверное, мог бы разделить с ней, и тогда – все прочно (?), счастье (?) совместного (?) открытия (?) свободного мира.
Но он не захотел, не разделил – с какой стати? Что ж, и она не захотела дать ради него задний ход, свободный мир отправилась открывать для себя одной.
А вот Кира не ставила условий, доверчивая и отрешённая от всяческой суеты, привыкшая в тихом одиночестве сопротивляться рутине, – любила, как жила, плывя по вроде бы спокойному, без быстрин и порогов течению, но готовая всё поменять, терпеливо крепить союз, чтобы принадлежать всегда (ого!) – пусть только позовёт.
Не позвал, незаметно для себя в решающую минуту отвёл глаза, заметил, что она это заметила, сразу заметила, смешался, понимая, что это начало конца, но невольно попустительствуя запредельному доброхоту, который, непрошенно выхватив из тьмы ножницы, подрезал крылья; да, не оправдаться, не стоит и пробовать.
Но это так, отступление.
А пока слонялись по городу – он, взволнованный, словно первопроходец, удивлялся новизне давно примелькавшихся ландшафтов, живописности их, знакомых, освоенных ещё в детстве: узкие, пружинящие под ногами грифонно-львиные мостики, чугунные канделябры, осыпающиеся, тускнеющие (за компанию с кривляющимися в запустении каналов отражениями) жёлто-белые особняки, опять Мойка, присыпанная тополиным пухом, площадь, бронзовый всадник на вычурном пьедестале, златоглавый собор, а вот и беломраморные братцы-диоскуры (поднявшиеся из своего подземного царства, чтобы ими, Сосниным и Кирой, полюбоваться?) и опять всадник, Медный, и простор, слепящий блеск невской глади, и – опять – разлинованный простор имперского центра, кусты махровой сирени, ряды лип, стройная гранитная ваза, нарцисс-лебедь, волшебная графика чугунной ограды, проштриховавшей небо и воду; да, из Летнего сада они в который раз выходят на набережную.
В стареньком обтекаемом речном трамвайчике, казалось, погружённом по маленькие окошки в воду, уплывали на растоптанные Культурой и Отдыхом острова, ненадолго (на час-полтора) располагались на травяном откосе пруда (под своей ивой) или на пыльно-песочном пляжике у лениво струившейся Невки; было прохладно, Кира с удовольствием не раздевалась.
Но как же передать зыбкое очарование тех дней?
Разве что одним словом: флёр.
Бежали облака, сквозила бледная голубизна в прорехах подвижной ваты, в солнечно-сизых играх светотени знакомые ландшафты действительно менялись до полной неузнаваемости, а опьянение глаз лишь усиливалось – неузнаваемо-колоритными и необъяснимо волнующими вдруг представали задворки великого города: охристо-серые брандмауэры и потемнелые краснокирпичные цеха, штабели сырых досок, торчащие из угольных развалов с чёрными трубами на проволочных растяжках, котельные, покосившиеся заборы и запахи мазута, смолы, бензина, и все это у воды – бесцветной, с серебристо-ржавым отливом и внезапно искрящей, будто бы подожжённой; яхт-клубы с наледью подслеповатых окошек, обшитые вагонкой, посеревшие от дождей эллинги с отциклёванными кедами пандусами, бухты канатов, разложенные на просушку на траве паруса в грубых заплатах; обгоняя бегущую тень облака, спешит к заливу острая и обтекаемая, как глист, восьмёрка, понукаемая ванькой-встанькой рулевого, туда-сюда мотающегося на корме; Петровский дуб в мемориальных цепях, обсаженные прутиками торжественные подступы к стадиону имени Кирова (кстати, кстати, Кира и своё-то имя получила потому, что родилась в день смольнинского выстрела), цепочки велосипедистов в мокрых майках; «купаться в прудах категорически запрещается», зато под брезентовым тентом – свежий хлеб, набрякшие тёплой влагой сардельки, алюминиевые гнутые вилки, сифон с газировкой… И опять, опять: продрогший рукав реки, вытекающей в свинцовый залив, устало опирающееся на деревья хмурое небо, грязно-зелёные, в проплешинах, пустыри, визг пилорамы, шум листвы, порывы ветра, далёкая музыка, клёны, берёзы, ивы, голоса, гудки, звонки, стук трамвайных колёс по вдавленным в асфальт рельсам; далёкий могучий коллективный выдох из гигантской земляной чаши на берегу залива – футбол?
Удастся ли выбраться из возбуждённой толпы?
Расцвеченный корабельными флажками мост заскользил вверх по течению на громоздких клетях бревенчатых опор…
По тропе в зарослях крапивы приближались к одичавшему в таинственной тишине и сумраке клёнов буддийскому храму, но дождик зашуршал по листве…
Вечерами Соснина и Киру нередко можно было увидеть в бельэтаже Европейской гостиницы, в ресторане с изысканно вырисованными деревянными деталями лож-балконов в стиле модерн, с жёлтыми матерчатыми торшерами и многоцветным сияюще-подсвеченным витражом в торце зала, за оркестром балалаечников в алых атласных косоворотках. Интуристы пялились, одобрительно кивали головами. Как хороша была Кира в этой пёстрой атмосфере в своём нежно-розовом свободном костюме из поплина с овальными перламутровыми пуговицами!
И опять, опять – как погружение в цветистое марево – особая вечерняя живописность торжественного лидвалевского интерьера, да ещё – мягкие ренуаровские краски Кириного лица, складок костюма; подвижные и словно непрестанно подбирающиеся на незримой палитре краски!
Это была ещё влюблённость или уже – любовь?
Кто знает.
Но уж точно, как во время городских прогулок, так и сейчас, в жёлтом излучении торшеров, его томило-бередило цветистое наваждение.
Рыжеватые, с медовым оттенком волосы, линии чёлки и боковых, чуть подвёрнутых крыльев прочерчены, а форма, контуры причёски меняются при каждом повороте головы.
А плавность жестов?
А горячий блеск тёмно-карих глаз?
Вкус и врождённое чувство атмосферы, уверенность в уместности своего не знающего о штампах облика.
Она, утончённо одетая, и он, небрежно экипированный, – странный эстетический комплекс, который, оказалось, был на пользу обоим: визуальная загадочность этого союза, взвинчивая интерес, поощряя фантазию, производила заведомо благоприятное впечатление.
В чужих глазах Соснин, безусловно, выигрывал, так как мысленно наделялся некими исключительными достоинствами, позволявшими объяснить себе его счастливое право на сопровождение такой женщины.
Но и Кира, пожалуй, выигрывала не меньше; поскольку танцующий с ней кавалер был ничуть не озабочен собственным обликом, его воображаемые внутренние ресурсы (ум, профессиональные знания, половая мощь – всё, что угодно!) стремительно вырастали в цене, не только оттеняя небрежность одежд, но и окутывая имидж кавалера (гроссмейстера? Физика-теоретика?) ореолом тайны, намекавшей, однако, вполне внятно на то, что и эта красивая, с аристократической изысканностью, хотя и неброско одетая дама бальзаковских лет тоже добилась редкостного успеха; разве не почётно, перебирая и взмахивая крепкими ножками в вернувшемся вдруг из небытия чарльстоне, благодарно заглядывать в глаза такому партнёру, нежно обнимая его за худую шею и сжимая в своей руке его, ей одной принадлежащую руку?
Кира на полшага опережала моду – угадывала тенденцию, художественную направленность линий, мысленно выкраивала, смётывала, примеряла на себя, и поскольку новая мода в чём-то всегда отрицала предыдущую, а Кира крутых перемен побаивалась и предпочитала вкусовую умеренность, её прогностический взгляд как бы и сам по себе смягчал резкость, показную определённость по последним шаблонам выкроенных фасонов. Казалось даже, что Кира, чтобы быть впереди, намеренно на полшага отставала от одетых в парижские тряпки модниц; всё на ней было скромно и – артистично, оригинально – но без экспрессии; играя нюансами, выдерживала качество строчки, шва, знала, как и где использовать твид, тафту, саржу, тесьму, бортовку, корсаж, кружева, гипюр – что еще? – мулине и прочие необходимые индивидуальной мастерской моды атрибуты швейного совершенства.
Интуристы, разочарованные было тем, что тарелки с жареными цыплятами в развесистой клюкве подносят не белые медведи, а заурядные шельмоватые официанты с пристойно засаленными рукавами чёрных подобий смокингов, слегка приуныли. У них, возможно, мелькнуло одно на всех подозрение, будто контора Кука нагло их обманула, но раскусив, что цыплята (та-ба-ка!) куда лучше кентуккских чикенов, они уже ощупывают любопытными глазами зал: танцы, скачущая вразнобой карусель, надо же – удивляются, – люди как люди!
И вот – заметили Киру, опять удивились, азартно присоединились к танцующим; сногсшибательный взрыв дружеской кутерьмы, музыкальный галоп лучших представителей – Соснин осмотрелся – мирно сосуществующих ядерных стран: весёлые конвульсии смешавшего твист с фокстротом, чарльстоном, липси и ча-ча-ча рок-энд-ролла.
И если Кира, обладая отменным вкусом, как полагал Соснин, могла бы привлечь восхищённо-завистливое внимание самой изысканной публики, то здесь – на это намекал сигаретный чад фимиама – она, наверное, принималась за утончённую (всё от Шанель? От Балансиага?) повелительницу гуманоидов, случайно залетевшую на земной ужин.
Итак, помолившись в жёлтом круге торшера над тиснёным коленкором и мелованной бумагой меню, заказала через странноватого спутника нежнейшую, всю в слезах сёмгу (в тон её костюма), котлету де-воляй и привычно сломала конус салфетки, пригубила бокал Цинандали, оценила – заказал ещё бутылку, с собой, – закурила и… быстро пролетал вечер.
Кружились головы, пьянила радостная кабала летнего города. Солнце, казалось и вовсе не заходило, а хотелось всё больше света, простора, воздуха. Не задумываясь, они чудесно раздвигали границы персональных пространств, сливали эти условные пространства в одно, общее, включали в него всё, что могли пожелать глаза, обстраивали его зыбкими зеркальными фасадами и вскоре, благо фантазии, вкуса и любви к видимостям им было не занимать, незаметно для себя кардинально реконструировали свой удлинённый, упирающийся в тополиный забор эдем.
Они словно находились внутри кокетливо охватившего их курдонёра с восхитительным, обсаженным чайными розами партерным садиком, в центре коего, оживляя в памяти гармонию и разностилье Альгамбры, в чаше-раковине журчал и, ниспадая по пологому каскаду, мелодично булькал прелестный фонтан.
Оставляя на какое-то время зеркалистый фасад за спиной, они, зная, что никто им не помешает, удобно располагались на травяном, с цветочным бордюром ковре у журчащей воды, трогали пахучие лепестки – как хороши, как свежи были розы. Как нежно лепетали струи и капли (не могут кран починить?), какой чудесной (анти?) акустикой обладал их воображённый курдонёр на двоих, не пускавший внутрь никаких (кроме ласкающих слух) звуков, и только иногда с вонючим дымком тарахтел под окном плоский, как остеклённая камбала, прогулочный катер, экскурсовод гавкал что-то вдохновенное в микрофон про нависающие, безвольно падающие в воду и ломающиеся мутной волной ансамбли, но из-за клочьев смрадного дымка не было видно, что распивают на корме безразличные к архитектурному великолепию ухари со своими невпопад прыскающими подружками. А Соснин и Кира пили лёгкое Цинандали, предусмотрительно извлечённое накануне из ресторанного погреба, и, глядя на Кирино чуть скуластое, разрумянившееся лицо, вписанное в идеальный овал, он, облизывая кисловатые губы, почему-то думал о любимых им с детства розовой пастиле и зефире – воздушных, чуть суховатых от присыпки сахарной пудры созданиях, поражающих, когда их раскусываешь, телесной вязкостью, окутанной едва уловимым, таинственным ароматом. И в элегические парения врывалась примитивная чувственность, неловко защищаясь от шипов роз, которые почти касались их лиц, падали на ковровый газон, и он, пользуясь своими правами, прокрадывался в тесноте объятий… и она… а откуда-то сверху – за компанию с занявшим выгодную позицию на шкафу целлулоидным пупсом – бесстыдную вакханалию, наверное, подсматривали цементные амуры, те, что прогуливались по карнизу напротив, над другим берегом Мойки; пухлявые проказники, заливаясь смехом, даже делали со своего карниза пи-пи, имитируя поливку цветов или случайно прошелестевший тёплый короткий дождик, не подозревая, что легко объяснимое любопытство младенчества может непоправимо извратить их взрослую интимную жизнь.
Но скорей всего они ничего предосудительного не видели, так как, астматически дыша и застилая сказочный мир вонючим дымком, снова, взблескивая стеклянной чешуёй, проплывал катер. Пройдя поспешную дезактивацию тополиного фильтра, голубой дымок проникал в открытое окно, а катер, закончив трансляцию на всю катушку вызубренного экскурсоводом урока, уже в музыкальной паузе – запускалась запретная «музыка на рёбрах», что-то из репертуара Лещенко, Козина («Веселья час и боль разлуки») – тащился к широкому тёмному провалу под Синим мостом Исаакиевской площади и дальше, дальше – к красным стенам с аркой Новой Голландии, туда, где у заросшего лютиками и одуванчиками лубочно-зелёного берега жестокий копёр гулкими ударами вбивал в илистое дно металлический шпунт. Тем временем Кира – свежая, поплававшая в каком-то волшебном бассейне – с удовольствием одевалась, и они, готовые выбраться в свет из зазеркалья своего курдонёра, чтобы слегка подкрепиться и поразвлечься, вдруг (всё ли в порядке?) оглядывались, смотрелись в шкафное зеркало и лишь затем, подбадриваемые немыми восторгами случайных прохожих – они согласно теряли головы от лучистой удивительной пары, – и уже возбуждённо, как если бы услужливо вывернулось пространство, трансформируя свой курдонёр в уютный камерный зал, где и зрителями, и исполнителями на сцене были только они, удобно (очень!) располагались в плюшевой ложе и с ненавязчивой помощью сухого вина упивались зрелищем, чтобы получше разглядеть детали (глаза, глаза!), передавали друг другу изящный, облицованный слоновой костью и бронзой, с подвижным колечком, позволяющим плавно регулировать резкость, театральный бинокль.
Потребуется совсем немного усилий, чтобы припомнить: длилась прекрасная эпоха, те недолгие времена, когда сумасшедшие желания чудесно сбывались… До нудно-прагматичных лет великого дефицита и последовавших за ними тектонических потрясений ещё было далековато, Соснина ещё волновали улыбка, взгляд, ну а улыбка, взгляд таинственно мерцающей, переливающейся оттенками Киры – тем более.
Не верится, но: было поздно, часов десять вечера, суббота, они только прилетели, гудящий рой страждущих у мрачной, из рваного бурого камня средневековой стены, словно по команде, смолк, швейцар повернул ручку замка, угодливо распахнул стеклянную дверь, и их, (только их!), словно по звонку свыше, пропустили в «Глорию» – вожделенную ресторацию эстонской столицы, церемонно подвели к (специально для них?) сервированному на двоих столику с малиновыми флоксами в вазочке, музыканты заиграли для них. Напористого, неукротимо наваливавшегося на клавиатуру пианиста помимо апоплексического загривка представляла, содрогаясь, чувствительная спина, невозмутимый дылда-контрабасист, этакий флегма с пепельными курчавыми бакенбардами, закатывал глаза, загоняя зрачки под веки, как бы весело устрашая голубоватыми белками зал, цеплялся за струны (дёргал, прижимал) клешнями нервных и сильных, неестественно длинных пальцев, но особенно усердствовал пучеглазый симпатяга-ударник, который в паузах между барабанными трелями, смахнув жемчужинки пота, хватался ещё и за какую-то погремушку и приветливо улыбался, только не криво растянутым ртом или выпрыгивающими из орбит глазищами, а будто бы сразу всей – с тугими пятнистыми щеками и мокрым лбом – накрепко приделанной к могучим плечам жабьей физиономией. Короче, обстановка накалена, гульба в разгаре, да что там музыканты – едва войдя, Кира сразу едва ли не всех, кто пил-жевал, покорила. Или прану посылала всем едокам, а те, не понимая за что, радостно благодарили?
В другой раз, в другой, опять будто бы по небесной протекции приютившей их прибалтийской столице они вопреки строжайшим высокоморальным правилам заселения, выписанным крупным шрифтом и взятым в рамку, даже получили номер в центральной гостинице, и только потому, что понравились их лица. Чудеса, конечно, но ведь в этом призналась, хотя её никто не тянул за язык, сидевшая за казённым окошком фея средних лет. Она ещё им пожелала удачи, и вот Соснин, насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик, вращает на кольце вокруг пальца бесценный ключ с жетончиком (жест победителя, баловня судьбы), пока Кира перед большим настенным зеркалом на лестнице поправляет причёску, и они, восхваляя везение и перешучиваясь, поднимаются не без торжественности по лестнице…
Словно с ходу оправдав рекомендации безвестного покровителя (ангела-хранителя?), Соснин и Кира, похоже, приглянулись старому холмистому городу с костёлами, башней на горе – им предоставлялось гармоничное окружение. Ну а насытившись впечатлениями, усталые и довольные, они падали на широкую кровать в своём очищенном (гадкий запашок дезинфекции) от клопов номере. Пожелание гостиничной феи сбылось – им везде сопутствовала удача.
И погода была отличной, светило солнце, и сквозь горячие содрогания воздуха они шли по берегу зеркально-гладкого зелёного озера, глядя на выраставший из чешуйчатых крон замок.
«Та-та-та-а», – трубят, открывая праздник, фанфары из транзистора девочки-контролёрши, обрывки билетов летят в урну. Перешли мост через защитный ров, вошли в тесный замкнутый двор, поднялись по крутым, консольно заделанным в мощные красно-кирпичные стены лестницам с грубыми, из чёрных брусьев, перилами, подошли к одной из бойниц – вырезанному в красном массиве стен небольшому, с толстым откосами, проёму во внешний – фантастический, режущий глаза игрой света и сине-зелёных красок – мир неба, воды, деревьев.
Красное и – сине-зелёное?
Контраст дополнительных цветов, вот и слепящая яркость…
Но много позже, уже здесь, в кафе у пицундской пристани, понял, что был не прав, сводя эффект зрительного впечатления к азбучным закономерностям колористики. Свето-цветовая яркость, подверженная шантажу психики, много сложнее, тоньше, свет и цвет зависимы от накала возбуждения, и потому интенсивность и мера воздействия их не поддаются объективной оценке.
Короче говоря, нашёл то, что и искал: флёр.
Так, семья графа Тышкевича, владельца замка, на старой фотографии: длинные белые платья, улыбки женщин, белые хризантемы в петлицах чинно позирующих усатых мужчин в чёрном (граф, сыновья). О чём думали они, пока возился с громоздкой камерой на треноге усатый фотограф в мешковатых, в ёлочку брюках-гольф с широкими, стягивающими ноги ниже колен манжетами, пока сосредоточенно наводил на фокус? Люди давно истлели, исчезнувшие атрибуты той жизни давно забыты, так же как много раньше исчез и забыт рыцарь, обладатель этих мертвенно отливающих (словно лунным светом) металлических доспехов, выставленных в углу.
Извечная каверза, прошлое – горчит, ибо и дома, и люди, и вещи, которые им служат, разрушаются, уносятся ветром-временем; былое зарастает бурьяном, потом, если повезёт, деревьями…
Н-да, оригинальное соображеньице.
Однако глубокомысленно продолжал: вот премилый макет фортификационных сооружений замка, уменьшенный муляж, а где те натуральные фортификации, те, что когда-то останавливали врагов?
Вниз?
Вниз по массивным, висящим в воздухе лестницам.
Снова – через вымощенный крупными булыжниками двор замка, цоканье Кириных каблучков-гвоздиков по деревянному настилу моста, снова, только другой тропинкой, вдоль зелёной воды, густой, волнистой под ветром травы, ромашек, одуванчиков, дальше, огибая пригорок с плакучей берёзой, – что за ним, за пригорком?
За ним, жеманно выгнув дугою берег, открылась захолустно-цивилизованная Аркадия: дебаркадер маленькой пристани с раздвоенным белым тельцем прогулочного катамарана, на прогибающихся мостках – современная прачка (завивка, мини-юбка), плюхавшая рубахой-пузырём по взбаламученной воде, запущенный сад, обсыпанный кисло-зелёными точками ещё не налившихся соком яблок, петух, выводивший свой гарем из опасного репейника в уют лопухов, ещё что-то в том же пригородно-сельском духе, но главное – был стеклянный кубик кафе, столики на терраске.
Сели за столик, пополам разделённый тенью от полосатого брезентового, на растяжках укреплённого тента; под хлопающим на ветру парусом шумно купались в воздухе воробьи.
Белокурая (клипсы, морковная помада) великанша принесла всё, что было в витринке буфетной стойки. Пили холодное свежее пиво, ели ржаной хлеб с тмином и какие-то удивительные тёплые, сочные, пахучие огурцы: кружками нарезали их, обмакивали в крупную соль, аромат усиливался; пропитал память огуречный тот аромат – столько лет минуло (сколько?), многое из того, что и поважнее было, выветрилось, но беспримесно-чистый огуречный аромат навсегда, наверное, сохранился в нём – не теперешний, парфюмерной инъекцией впрыснутый в длинные, уродливо-кривые мутанты массового парникового производства, а естественный, огородный, поверх всяческих сантиментов отбрасывающий в детство.
Вдыхая его, Соснин снова подумал о цвете, тайнах живописи и неброской, в постоянном брожении полутонов и оттенков живописности Киры, неотделимой от того бесплотного, как полёт, дня.
Буклированная цветовая ткань, образовывая (и словно обёртывая) пространство, подступала вплотную, просачивалась в бескрайнюю, перегороженную лесами и дорогами даль, однако даже в непосредственной близости почему-то не утомляла пастозностью рассчитанной на восприятие с определённой дистанции живописи, а в любой своей точке несла ласкающий (для развращённого импрессионистами глаза) эффект цветоносного воздуха, размытости контуров всех предметов, красочной мягкости перетеканий. Кира же дивно сливалась с интерьером, пейзажем, словно, получив сигнал по телепатическому телетайпу, заранее знала, что наденет и как будет выглядеть; во всяком случае, никогда не ошибалась, предвидела, в какой предметно-цветовой среде должна очутиться.
Она не солировала, а с непринуждённым изяществом вписывалась, иногда могло почудиться даже, что силуэт её растворялся в цветном тумане, но это был, разумеется, обман зрения.
Чем не картина?
Разные жанры сплотились в условной раме – натюрморт, фигура, пленэр: колеблющая стол, подчиняясь колебаниям тента, подвижная граница света и тени, огурцы на тарелке, янтарное прозрачное пиво в кружках, отдыхающая от летнего веселья на солнечной половине стола крупная жёлто-зелёная стрекоза, зелёные мазки всех оттенков – листья, трава, вода; опьяняли зелёные краски, да ещё было погружённое в них сиреневато-синее, в мягких складках, Кирино платье, и вдруг снова вступали в игру дополнительные цвета, её рыжеватые (мёд на просвет) волосы накладывались на кобальтовую полоску дальнего, касающегося неба леса.
Флёр?
Но – густой, пастозный…
Натура – порождение импрессионистских холстов…
И всё переливчато поблёскивает, заимствует и отторгает оттенки, и мерцает, дрожит, и словно кто-то струну боязливо трогает (из-за пригорка, кстати, доносились переборы гитары), и не тент их уже накрывает, а крыло дельтаплана с подвешенной в виде столика и двух лёгких стульчиков вместе с седоками гондолой.
Оторвавшись от плитняка, они парят в восходящем тёплом потоке; стрекочут кузнечики, чирикают воробьи, ку-ка-ре-ку-у-у – истеричным тромбоном подключается к концерту петух…
Наспех укомплектованный ковчег без руля и ветрил?
Они болтают, смеются, не замечая, что плывут, взмывая выше и выше над разморённой зноем землёй.
И хотя нашему грезящему герою случится ещё не раз и по разным поводам отрываться от грешной земли, этот полёт интересен тем, что, унося ввысь, позволяет, сбросив символический балласт, не мучаясь никакими земными противоречиями, полюбоваться живописными ландшафтами – всё как на ладони. Слепит, правда, солнце, но – повернул голову, чтобы рассмотреть получше сквозь большущие очки ансамбль замка (колодец двора, скаты крыш) и – смотрит, смотрит и, элегантно уцепившись за снасти дельтаплана, с непринуждённостью настоящего воздушного аргонавта, упиваясь счастьем, позабыв даже о Кире, летит один, совсем один… А двое (он-то здесь, на небесных путях, но где и с кем Кира?), оказывается, остались под дурацким полосатым тентом внизу, слушают его трепыханья-хлопанья на ветру, пьют, а он тем временем (вот проныра!) любуется замком, и всего его наполняет восторг. Как восхитительно лететь одному, не отвлекаться на разговоры и, оставаясь незаметным, всё видеть сверху там, внизу, на этой древней, но так и не уставшей стареть земле. Ввинчиваясь в годы, он кружит над зелёными тракайскими озёрами, пока не влетает – авария: стекло из очков выпало, один глаз смотрит в дырку, в другом что-то вроде розового монокля – в охристо-оранжевую, почти безлюдную осень. И только две фигурки – какая-то женщина с длинными чёрными волосами в сером пальто и чем-то нам знакомый мужчина с зонтом-тростью – идут по тропинке в сторону дебаркадера. И ему приходится торопиться, он резко меняет расположение брезентовых плоскостей, легко опережает непрошеных визитёров. Кира и он плывут, оказывается, послушные воздушному течению, вместе, жуют пахучие бледные, в тёмно-зеленых ободках кожуры кружки огурцов, пьют душистое пиво, откусывают хлеб с тмином… И как же хорошо не заглядывать озабоченно в лоцию, не поправлять тяжёлые командорские очки, не крутить, напрягая мышцы, руль, догоняя и обгоняя облака, а обморочно плыть в насыщенном зелёными сухими брызгами воздухе.
«Здесь хорошо, только, Илюша, милый, поедем-ка поскорее», – и (ха-ха, проснулась!) обнял её за плечи, как в первый, после киносеанса, вечер; они торопливо шли, почти убегали от зелёной воды, потом ехали в автобусе, ехали… и чуть ли не запыхавшись вбежали в своё временное жилище с широкой кроватью.
Час, два, три минуло, пока в клозете за стеной номера не взревел опорожнённый бачок унитаза?
Кира переоделась, и когда они спускались по лестнице, чтобы где-нибудь поужинать, Соснин увидел в большом зеркале парный (в натуральную величину) портрет в интерьере – в стареньком интерьере с пилястрочками «под мрамор» и болотной (с проплешинами) ковровой дорожкой, н-да, трогательная и даже мажорная картина: навстречу, медленно вырастая, спускалась Кира в розовом и он (как всегда, в чём-то неопределённом), но лица, лица… И можно вообразить, как он, забыв о голоде, залюбовался, захотел передать ей бинокль (сияние глаз!), однако в правое ухо ударил вдруг атональный шум (коридорная склока? Выбрали время!). Какой-то старый хрыч в защитного цвета френче дрыхнул, свистя носом, на диванчике в боковом кармане, а Соснин оступился, дёрнулся (опять!) однако снова посмотрел в зеркало: неудивительно, что их лица так понравились «хозяйке гостиницы», – они подчиняли себе пространство, одухотворяли его ожиданием (чего?), надеждой (на что?), хотя марш Мендельсона, конечно, не звучал и они спускались по лестнице, а не поднимались.
И здесь (с безжалостным ехидством ребенка, мстящего взрослым?) память монтирует встык совсем другую картину: спускаться дальше некуда, близок тихий, без слов, разрыв, отвёл как-то глаза, не сказал прямо, и покатилось, а пока – долгое, изнуряющее души прощание, после которого куда-то раздельно потекут жизни.
Сидели в крохотном, в нише ресторана – на ступеньку выше зала – баре «Астории» (почему-то ни разу, хотя всего-то надо было бы перейти площадь, не заглядывал сюда с Лерой). Ресторан за лёгким барьерчиком был удручающе пуст. Скоро налетят интуристы, русская зима, блины с икрой, сбор валюты, а пока – предновогодняя уборка, беспорядочно сдвинуты голые, без скатертей, столы, воет полотёр (скипидарный, до головокружения противный мастичный душок), втаскивают в зал комлем вперёд покойницу-ель… Что-то беспокойно переходное витало в пыльном воздухе, что-то ломающее заведённый ход времени. Подготавливались конец для них и новогоднее начало чужого праздника. Да, год был на исходе, до замены календарей оставалось чуть больше недели.
А пока им приходилось сидеть на таком вот разорванном (перегруженном щемящими деталями) фоне – второй план в каком-нибудь претендующем на психологический раздрай фильме? – антураж расстроенных чувств, беспокойно-грустный аккомпанемент из случайных звуков: звякала чашками буфетчица в дурацком кокошнике, где-то по-соседству, за белой остеклённой перегородкой, ресторанные лабухи, разучивая что-то, нудно дудели в трубы, и ещё какие-то глухие звуки из кухни, и стук молотка, и передвигают что-то тяжёлое, а тут, в закутке бара, вроде бы островок уюта – варят кофе, разливают напитки.
Артистично вписываясь в среду, Кира и здесь сумела слиться с болезненно-переходным окружением, только безвольно как-то, испуганно даже, несмотря на улыбку. Ей (глаза – как расплавленный шоколад) идёт этот тонкий бежевый свитер с ромбовидным коричнево-серым узором, очень подходит к цветовой гамме нового натюрморта: чёрный кофе в маленьких чашечках, розово-бежевые с завитками коричневого крема клиновидные куски торта, всё удачно соединилось, и как всегда – сигарета с охристым мундштуком фильтра в лёгкой, с агатовым кольцом на безымянном пальце руке. Но не преображался интерьер, как летом в Вильнюсе, на гостиничной лестнице с зеркалом. Пожалуй, сейчас, в барном закутке, на фоне безлюдно-хаотичного ресторанного зала, сама Кира лишь подчинялась неуютному окружению, душевных сил, наверное, на сопротивление у неё уже не было; задрожал смятый обидою подбородок…
И Соснин, всё понимая, ничего не мог, не умел изменить, не мог сказать твёрдо, он не только начала боялся, но и конца тоже, беспомощно, утратив привязки и ориентиры, трепыхался – ха-ха, физик-теоретик забыл законы Ньютона? – что-то Кире рассеянно отвечал, придурковато мыча, растерянно стал есть торт с её блюдца… Конца, может быть, боялся даже больше, чем начала; положение преглупое, в таком смятении поневоле хочется всё оборвать, закончить, да, лучше всё же ужасный конец, чем ужас без конца, и она (распрекрасная), запинаясь, что-то бормочет, но как закончить, как не тянуть резину?
В начале всё-таки было легче – ещё неизвестно было, куда всё повернёт, мелодия вела, как в танце, и – хорошо; а сейчас?
Джаз своё отыграл, бал свёртывался, н-да, хватит, расплачивайся по счёту, н-да, он – мастер середины, развития, продолжения: виртуозно вел миттельшпиль, просто король миттельшпиля – юмор, шутка, умение поддеть себя и других, если надо было по ходу партии – отступал, готовя ответный выпад, а вот к концу партии спасовал (гроссмейстер, пасующий в эндшпиле? Ха-ха) – всё ли сказано? Понятно? Не добавить ли чего? и вообще нужна решительность истукана, чтобы поставить точку самому, а не ждать, пока это сделают текущие обстоятельства; и никто из них двоих в утомительном топтании на месте не брал лидерства на себя, так получалось, что в проигрыше были оба, хотя она больше проигрывала, пожалуй.
Но окончательный разрыв случится потом, через сколько-то месяцев, а потом, потом – время летит, увы, – через годы, кажется, случится её новое неожиданное и неудачное замужество, да ещё будут какие-то квартирные осложнения (дом отбирала соседняя швейная фабрика?), переезд с набережной Мойки в панельную тьмутаракань, уход мужа, будни – будни старения.
Ну и что?
Мало ли что произойдёт потом, после него? у неё будто бы спаниель появится, разные жизненные курсы, больше не пересекались. А тогда, в Вильнюсе, на гостиничной лестнице, спускаясь себе навстречу, с любопытством (и восторгом, да-да!) всматриваясь в свои победные лица, они легковерно продолжали дневное парение, плыли, не зная обо что и когда разобьётся их небесный корабль, не собираясь угадывать, что их ждёт дальше, просто плыли и не хотели ещё на что-либо отвлекаться.
Нет-нет, это не было дрожащее, поворачивающееся авторской волей, фривольно подмигивающее зеркало искусства.
Это было обычное, большое (в пропорции 1:1,5), отшлифованное каким-то местечковым Спинозой и точно по оси лестницы укреплённое над промежуточной площадкой зеркало, старое, отразившее и запомнившее многих, но их оно впустило в зазеркалье и поглотило последними… Парное отражение, перед тем как исчезнуть – им предстояло свернуть в сторону, чтобы перейти на другой марш, – было чистым и ясным, хотя, если присмотреться, с краю – слегка затуманенным дыханием лет, а от рамы зеркала (через фаску и дальше) расходились разъедавшие амальгаму трещинки.
3. Лина
Поискав на ощупь, нажал на фигурную, в виде морского конька, бронзовую ручку. Тяжёлая дубовая, тёмная, почти чёрная дверь легко подалась, выпустила их в сырую, тоже почти чёрную ночь. Три ступеньки вниз, повернули, пошли к площади.
Возвращались с какого-то вечера, кажется, был бездарный капустник, потом выпивка, танцы, как всегда, обычная чехарда. Одно только было иначе: танцуя с ней (назову её Лина), он, столько раз её видевший, удивился (ого!) живому взгляду чёрных глаз, значительности, внутренней силе (надо же?) подвижного лица, сейчас – в разговоре, смехе – вспыхнувшего, а обычно – до незаметности обесцвеченного или густо напудренного, когда на выбеленной мелом, как маска мима, коже выделяются только глаза и яркие, зачем-то густо красившиеся ею губы.
Наново удивлялся: высокий рост, прямые, ниже плеч, волосы, лёгкость движений, джинсовый сине-голубой костюм, расшитый по кокетке курточки диковинными цветочками. Вот бы волосы постричь покороче, и пожалуйста, – мальчишеский стиль, идеальная современная актриса-травести, порывистый акселерант, да-да, и своя изюминка – чуть вздёрнутый кончик носа: потянул кверху (слегка утрируя) завлекательные отверстия подрагивающих чутких ноздрей.
Резвая и лёгкая, готовая ещё быстрее припустить в танце молодая лошадка.
И опять несколько (сколько?) лет знакомства, хотя и шапочного, и как с Кирой когда-то было – давно ведь знал, а вдруг заметил среди танцующих, извлёк из тряской толчеи, потом решил проводить, позвал, подал пальто, осторожно прикрыл, пропустив её вперёд, тяжёлую дверь – пошли.
Повторение пройденного?
Зачем?
Посмотрим, там видно будет, пока всё славно, непринуждённо, его стихия – начинать с середины.
Гриппозная осень… или простудная слякотная весна? Время года уже не вспомнить, ночь погасила последние окна, только в эркере набоковского особняка почему-то одиноко горел свет. Пересекли пустынную площадь, у «Астории» – приготовился? Оглянулся? – тусклым золотом блеснул из темноты купол.
Буквальное повторение пройденного – шли по Гороховой, зачем-то свернули на Мойку у изливавшей холодное электричество швейной фабрики, дальше, мимо уснувшего дома и входной двери, окна, за которым уже никого не было – дом расселили, Кира переехала в панельный пригород… Дальше и словно по колдовскому кругу – опять в сторону Исаакиевской площади, по безлюдной набережной, обходя стволы голых тополей; тихо, сыро; ещё несколько шагов… У спуска к смолистой, в грязных пятнах крошившегося льда воде остановились, привлёк её к себе, она с радостью ответила, прижалась, машинально бросила, чтобы освободить руку, на мокрые плиты сумку, обхватила за шею, без сил уже простонала что-то…
Потом откинула голову, отстранилась решительно, словно покончила навсегда с минутной слабостью.
– Пойдем, Илюша, поздно.
– …Знаешь, я, кажется, влюбилась, ну тебя к дьяволу, у меня муж, сын, не могу больше, отстань, ради бога, – смеясь, быстро говорила Лина, едва поспевая за ним по скользким, с перепадами уложенным гранитным плитам узкого, повторяющего изломы берега тротуара. Опять эта заспанная ломко-извилистая река, прорезающая парадную геометрию города, знакомый, автоматически задающий размер шагов ритм держащих чугунные звенья решётки гранитных блоков, такое же, как пять (шесть?) лет назад лето, плывёт, присыпав маслянистую воду, тополиный пух, или… Сумела всё-таки вырваться из Лериного окна тюлевая занавеска, перелетела, обогнув собор, площадь, крыши с ржавой жестью, опустилась, накрыла воду белёсой пеленой и беззвучно плывёт теперь рядом, только ниже? И в воздухе белые хлопья, Соснин чихает, насморк, сенная лихорадка, он и Лина торопливо идут по набережной, мимо швейной фабрики имени Володарского на углу Гороховой, у Красного моста – фабрики с большими, мертвенно светящимися день и ночь люминесцентными трубками окнами. Лето, да, он точно помнит – конец июня, горит, наверное, фабричный квартальный план, ярмарка ещё не погружённой в фургоны одежды на набережной, хотя примерочных кабин нет. Соснин и Лина пробираются между вешалками с готовой продукцией, и ветер расчёсывает пышные шевелюры тополей, сыпет перхоть (нафталин?) на драповые, суконные, кримпленовые плечи уродливых пиджаков и пальто, стиснутых, как в метро, собранных (по размерам) в металлические обоймы – скоро их погрузят в огромные оцинкованные фургоны с длинномерными фабричными вешалками. Но дальше – и побыстрее: мимо входной двери, окна с фрамугой, мимо возвышающегося над противоположным берегом сумрачного дома с амурами, цементные сдобные младенцы, надув обиженно губки-бутончики (подумаешь, оскорблённая невинность!), прикидываются, что незнакомы, отводят глазёнки, и тут же какой-то раскоряченный четырёхногий призрак их, его и Лины, парного отражения заскользил по раскалённо-красному, как у обваренного рака, боку частенько дремлющей здесь пожарной машины, легко впрыгнул в торчащее из кабины зеркальце и – моментальный снимок? – подарил им трогательный (склонённые головки, хоть вешай над ковриком) парный фотопортретик в красной лакированной рамке, в левый верхний угол которой неверной походкой гуськом удалялась семья тополей, и тут же, нырнув под широченный Синий мост, Мойка оставляет их на огромной площади.
Да, конный памятник, угол «Астории», собор.
Что за компас направлял эти обязательные прогулки? Мало ли других мест, думал, не прерывая беззаботной болтовни. Только что прошли мимо бывшего дома Киры на набережной, и опять эта громада собора, а слева, за углом собора, напротив западного портика – дом, где обитала Лера, окна её на последнем этаже; дальше, дальше по сторонам неправильного, со срезанной площадью вершиной любовно-топографического и изначально-гибельного, наверное, треугольника… Много лет минет, но, очутившись на площади, каждый раз, как околдованный, снова и снова будет смотреть вверх, на арочные окна последнего этажа: Лера, Лера…
Точно убийцу, на место преступления тянет, хотя в чём же он виноват?
Всё повторяется, возвращается на круги, успокаивая себя, философствовал, одна влюблённость, другая… куда денешься?
Но, походя уравнивая влюблённости свои, он ошибался.
Лина – не Кира и уж точно – не Лера.
И он стал другим, наконец, и время – другое тоже.
Начавшееся с продолжения начало – похоже; да-да, влюблённость, какая-то загодя щемящая радость, но затем – в каждом из трёх случаев – всё иначе.
Сейчас могло показаться даже, что влюблённость переходит в роман, но… роман, ещё не оформившись, ведь вскоре будет прикончен безутешными обстоятельствами; их, обстоятельства, персонифицировали, во-первых, муж и сын, во-вторых, вырисовывалась дальняя дорога, в которую фанатично засобиралась Лина.
Между тем влюблённость (переходя ли, не переходя в роман) длилась, то обретая второе и даже третье дыхание, то сникая, маята да и только: за нежданным взлётом (откуда бралась энергия?) следовал спад, и даже случались ссоры, и опять – примирения, путешествия. Не раз ждал своевременного, как он считал, конца – и неожиданно разгоралась новая, необъяснимо горячая близость начала со счастливыми (куда глядели глаза) прогулками и путешествиями, пусть и недолгими.
Возможно, горючим странного (так и не набравшего кондиций?) романа того была Линина цель, которая придавала остроту недоговорённостям (а вдруг и он?!), поддерживала, даже тогда, когда они молчали, ставшую вдруг модной тему легального, но безвозвратного преодоления железного занавеса.
Отъезд, эмиграция («дан приказ ему на Запад», – бодрились остряки) – популярное в те нудные годы помешательство в интеллигентских кругах, терявших сопротивляемость и историческое терпение; самообманное то помешательство называлось: «прожить ещё одну жизнь».
А пока длилась жизнь здешняя, «беспросветная», как однажды, когда и у неё лопнуло терпение, сказала Лина… В то лето, когда бродили по Мойке и огибали-пересекали площадь с собором, когда меняли конспиративные квартиры, влюблённость ли, роман с перепадами чувств и настроений вылились в довольно прочную (?), радостную, но ситуативно-прерывистую и потому лишённую взаимных обязательств и тягостных объяснений связь.
Всё по схеме? Выделившись из любви и отправив её на скудную пенсию воспоминаний, секс вопреки располагающему к неге уюту процедурного кабинета (индийские подушки на тахте, вьетнамские красно-зелёно-лиловые циновки у ложа, прочие модные дизайнерские штучки для декорирования телесных утех) вырождается в короткий (столько дел!) механико-гимнастический комплекс эмоциональной разрядки: приспустили штаны и юбки, чтобы получить укол наслаждения?
Грубоватая схема, разумеется, обобщенный эскиз ситуации, а цепочки порождаемых ею эпизодов подчас многое могли изменять, пускать события в непредсказуемом направлении, поворачивать, освещая саму ситуацию новым, хотя всегда каким-то неверным светом.
Казалось бы, должен был получиться развивающийся роман, однако они лишь отчасти жили его сюжетом: всё быстрее бежало время, приближая Лину к достижению её цели, и он нёсся вдогонку, приноравливался к обстоятельствам. И менялись настроения (ого! Сколько раз!), решения и оценки (ещё чаще), но и он, и она охраняли что-то своё, главное, то, что, к счастью (или несчастью?), у каждого пророчески записано в крови любовной алхимией предков, отлито в судьбе и от погоды или, даже от внешнеполитических обострений совсем не зависит.
Да, были и путешествия.
Собираясь выйти к чудесному (охристые штукатурные стены, багровый плющ, черепица на контрфорсах) дворику университета, брели переулками бывшего гетто. Пахло известью, раствором, штабелями лежали трубчатые леса; мрачные, облупившиеся дома реконструировались, перекрашивались, кое-где уже открывались лавочки с янтарём, ресторанчики, в пещерной глубине – камин, медвежьи шкуры, пар над никелированными краниками кофейной машины. Трагическое прошлое, оказывается, – превосходное, высокоэффективное удобрение, на пропитанной кровью почве вырастает не только бурьян, заведённо как-то думал Соснин, глядя на беспечную, подрумяненную, как иллюстрация к андерсеновской сказке, которая всегда себе на уме, весёленькую стену щипцовых фасадов, за которой, тогда ещё сумрачной и обшарпанной, надеялись укрыться обречённые со своими молитвенными покачиваниями и скудным, но навеки заданным религией бытом; не укрылись, не спаслись, и вот теперь внуки тех, обречённых, находят здесь, за подрумяненными фасадиками, счастливый приют… Ох-хо-хо, «можно ли писать стихи после Освенцима»?
Можно, ещё как можно, и стишки за милую душу кропают после Освенцима, и заодно кофе попивают с ликёром.
Салфетки из серого льна на огненно-красном отлакированном столе, дымящийся кофе в керамических чашках, в маленьких рюмках, горящих (на красном), как зелёные огоньки, мятный, вязкий ликёр…
Отложим, однако, прогулку по старому Вильнюсу. Толкнул стеклянную дверь кафе, захлопнул дверцу такси. Сомнения? Выбор? Вот чепуха, всё (всё?) ещё было впереди, и какая-то (поджидающая с дубинкою за углом?) новая жизнь лишь незаметно, но упрямо вызревала тогда…
Мысли спутывались, картинки наслаивались, но Соснин должен был бы вспомнить об этом накануне Лининого отлёта.
Вчера они попрощались.
Всё было увезено, снято со стен, раздарено, продано, брошено, запаковано, отвратительная гора одинаковых чемоданов высилась в углу голой комнаты, из стены над тёмным прямоугольником невыгоревших обоев одиноко торчал гвоздь – каплановская литография в одном из чемоданов, наверное.
Сидели, тесно сбившись в прокуренной кухне, кто-то принёс водку, пили из гранёных стаканов, запивали пивом, какой-то идиотский обряд: поминки, опередившие похороны? Плакать или смеяться?
И не мазохизм ли – смеха ради начали спьяна советские песни горланить: мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай…
Нет, не до смеха было.
Да и сейчас совсем не смешно.
Утекали последние минуты, все были будто под наркозом, трали-вали, опять попытались в фальшивую весёлость ухнуть, наперебой анекдоты припоминали: знаете? Рабинович в панике прибегает в КГБ и выпаливает: если к вам залетит жёлтый попугай, то имейте в виду, что я с его высказываниями решительно не согласен… Ещё какая-то безобидно жалкая бородатая антисоветчинка… Ох, надоело, но что теперь-то можно было поделать? Она улыбалась, но рассеянно и виновато как-то, словно не могла понять, каким образом очутилась в этой ободранной квартире Толстовского дома, где прожила много лет, а теперь не узнавала её. Конец, она (неподражаемая) мысленно уже там, в сияниях Свободы, за железным кордоном, только стоптанные домашние туфли осталось сменить. Зачем хныкать, улетает – и слава богу, добьётся своего: «проживёт новую жизнь».
Обнялись у двери, молча постояли, он только сказал, что завтра вечером ещё позвонит. Шаркая подошвами, спускался по лестнице, уносил её последнее, застрявшее в сетчатке глаз изображение; почувствовал, как воткнулась в спину парная дрель её прощального взгляда, но не обернулся – боялся превратиться в соляной столб?
Конец прекрасной эпохи, морщась от головной боли (накачался, дурак, ерша, вторые сутки башка трещит), горько усмехнулся следующим вечером Соснин. Как будто минуло наваждение, огонь погашен, но тлеет ещё.
Взял книжку в глянцевой тёмно-синей обложке, полистал и, решившись, проглотив соответствовавший настроению комок, направился к телефону. Она сняла трубку, показалось, обрадовалась; он стал читать:
Родиться бы сто лет назади сохнущей поверх периныглазеть в окно и видеть сад,кресты двуглавой Катарины;стыдиться матери, икатьот наведённого лорнета,тележку с рухлядью толкатьпо жёлтым переулкам гетто…………………………………войдяв костёл, пустой об эту пору,сядь на скамью и, погодя,в ушную раковину Бога,закрытую для шума дня,шепни всего четыре слога:– Прости меня.…………………….
И перелистнул, внимая молчанию в трубке:
Время уходит в……… в дверь кафе,провожаемое дребезгом блюдец, ножей и вилок,и пространство, прищурившись, подшофе,долго смотрит ему в затылок.
Потом помолчал (новообразовавшийся комок опять проглотил), прочёл мелко набранную внизу дату.
– Я всё помню, Илюша, – медленно, но ничего не глотая, сказала Лина, – и ту осень, конечно, тоже.
Трубка положена, всё позади: промыл с облегчением горло боржоми.
А тогда, выйдя из университетского дворика, нагулявшись, насмотревшись на покоряющую искренностью провинциальную краснокирпичную готику, нежное, смягчённое (неумелостью!) барокко, объяснял Лине (не без колкостей и острот) подоплёку культурных спекуляций на классицизме (поклонение совершенным пропорциям, строгость форм, прочая ахинея). Обоснования, говорил, всегда находятся, но только ампир мог прижиться во время недавней чумы – портики на простых комодах и ящиках как претензия на величие, да ещё властная грузность, осевое оцепенение схематизированной симметрии. Псевдоготика? Псевдобарокко? Не по зубам из-за многодельности, да и не та трактовка величия – какое там небо? Вильнюс, однако, избежал ампирной эпидемии, здесь вообще всё очень мило, трогательно (прелесть примитива?), неплоха и эклектика с её вульгарным, но щекочущим провинциальное самолюбие шиком. Ого! Вот и пришли, не исключено, что он уже здесь бывал, где ещё он мог видеть подобную живопись патокой – оголённых круглозадых пейзанок (глубокое удовлетворение в коровьих глазах), которые, забыв про обессилевших кавалеров и нехотя заигрывая с патлатыми пичужками, игриво посматривали на едоков с кое-где облупившегося плафона, что ж, идиллия постраспутства предполагала пир. Да, хотелось есть (ам-пир?), сидели вдвоём за столиком в ресторане той же гостиницы, где несколько лет назад останавливался он с Кирой, сидели у стены, обтянутой кроваво-красной (почти как в Лериной, с арочными окнами на Исаакиевский собор, комнате) искрящейся тканью, ели жареную курицу, шепелявый, с аккуратно приклеенными усиками официант (славный плут) заботливо наполнял фужеры болгарским вином, их лица нравились, им улыбались, хотя времена изменились и за красивые глаза в гостиницу (даже в такой клоповник) уже не пускали.
У Лины пылали щёки, пухловатые, чуть вывернутые губы дрожали, словно от нетерпения, большие, навыкате, глаза затягивал шальной блеск; и вдруг – недоверчиво-жёсткий, с прищуром, взгляд и беззащитная улыбка, переходящая в оскал: прыть и осанка гончей?
Возбуждённая, как и на том давнем, с капустником и танцами, вечере, обозначившем начало влюблённости, она, жадно отпивая вино, раскрывала карты: уехать, здесь прошла юность, здесь друзья, ты (он?), но – здесь гиблое место, здесь никогда ничего к лучшему не изменится, нельзя плыть по течению, надо управлять своею судьбой, надо уехать, чтобы жить, а не дожидаться жизни… Ох, в разных модификациях сия душещипательно-оправдательная ария в те годы исполнялась многими отъезжантами.
Зрачки наркотически расширились – о, как рвалась она в полёт! – раздувая ноздри, курила, пепел с тлеющего кончика сигареты осыпался на чёрный пуловер, да и вино, наверное, тоже подействовало: развязался язык.
Соснина, однако, за кордон если и тянуло, то для того лишь, чтобы посмотреть мир. Хорошо бы, конечно, посмотреть, но… насовсем?
Нет, жизнь № 2 (периодически он даже забывал мечту свою о посещении избранных городов) тогда его ничуть не манила, скорее отпугивала.
Короче, он посочувствовал порыву, постарался даже вникнуть в её мотивы, а когда в блестящих металлических плошках принесли молочные шарики (крем-брюле не было) пломбира, понял: она добьётся.
И добилась, подумал спустя несколько месяцев, увидев мельком в чьих-то руках её фото с дороги, из Италии: картинка!
Едва границу пересекла, а сразу – вознаграждена.
Все ли дамы, едва попавшие туда, в потребительский рай, так хороши, или он одурачен рекламным трюкачеством поляроида? Загорелая, волшебно удлинившаяся нога попирает развалюху какого-то исторического парапета – нагнулась, зашнуровывая плетёнку туфель на оспинками изъеденной пробке; зелёное, в крупный белый горох, необъятным балахоном, с волнистой полой платье, полотняная, свисающая с плеча сумка-мешок, пятнышко подаренной им брошки (помнит?), чёрные, из сандалового дерева, бусы, пунцовый рот, блеск зубов – страсть как хороша! И брызжет глюкозой день, и над стриженными под сессун пиниями наклонилась, заглядывая в карманы туристов, знаменитая башня.
Что за мешанина в памяти? Распростёртый, в секунды относительного покоя – смена движений, глоток воздуха – увидел: полосатый плед сполз на циновку, со стула паутиной свисают колготки (один следок у самого пола), Лина выпрямляет спину, в стекле настенной литографии отражается одуревшее (ресницы опущены), искажённое гримасой любви лицо…
Быстродействующий биокомпьютер, управлявший её внутренним миром, умело отсекал лишние эмоции, дифференцировал желания, выбирал прицельное направление. Любовь была немаловажной, но всё же вспомогательной ветвью её дерева целей, а сейчас, готовясь к главному поступку, к отъезду навсегда, она потеряла голову, яростно предалась любви. Та-та-ра – из радиоточки выплывали популярные танцевальные мелодии (танго? «Брызги шампанского»?), в полумраке вечеринки крутится пластинка на стареньком патефоне, трам-та-та-та-ра-та, поворот, та-ра-та-та-та, робкие касания коленками, та-ра-та, но когда это было? Глотнув воздух, она хищно упала, слепились рты, потом и сам одурел, ничего не помнил, и пока Лина плескалась в ванной, даже поспал немного.
А что бы стоило для красивого конца выбрать?
Ну пусть будет хотя бы такой финал: ещё ждало формальное прощание на лестнице, однако же была и вполне деловая, за визой, поездка в Москву (отправился с Линой), и в литературной версии прощания точку могла бы поставить почти элегическая ночь в двухместном купе «Стрелы» (вот Лера бы шум подняла, все бы пассажиры, ведомые проводником, сбежались!) с заснеженными елями за окном: убегал куда-то назад лунный гризайль последней для Лины русской зимы.
Итак, всё, что было им двоим суждено, случится в свой час, но пока, отпустив такси, они шли по дорожке между параллельными лавочками с богоугодными старушками, продававшими всякие домотканые передники и накидки, самодельные мелочи и скромные дары природы. Можно было, конечно, придумать другой маршрут, однако скорей всего миновав ведущую к Тракайскому замку аллею живых, хотя и ветхих сфинксов, поднявшись по консольным лестницам, убедившись, что старая семейная фотография Тышкевичей по-прежнему висит на грубой каменной стене, белое длинное платье и милая улыбка юной графини никуда не исчезли, они вышли из красного замка и спустились к зелёной воде. Он вёл её, направляемый упрямым внутренним компасом, как не раз вёл прежде вдоль ломаного контура Мойки; вёл к заветному пригорку, что там, за рекой (пардон, за озером) в тени деревьев, всё, как и в замке, без изменений?
Машинально выдернул из судьбы ещё одну цветную нитку.
Не имея никаких опровергающих это допущение фактов, остаётся считать, что их занёс в тот же барочный город не только легкомысленный ветер любовных странствий. Тайно, замирая от стыда, Соснин подготавливал некий психологический эксперимент сопоставления (через себя) Киры с Линой, таких разных, но помещённых им в один и тот же пейзаж: он и Кира, а годы спустя – он и Лина, и не заметившая бега времени та же излучина озёрного берега.
Медленно шли к показавшемуся вдали пригорку с плакучей берёзой, и растревоженный Соснин, что-то сбивчиво (надеясь задобрить судьбу?) говорил, нёс какую-то околесицу, а заодно пытался понять, что же всё-таки изменилось за несколько лет в этой обманно неизменной природе. Ласково светит солнце, вьётся в высокой траве знакомая тропинка, слева – водяные кувшинки, лилии, почти Моне (или сия водоплавающая флора живёт не осенью, летом? Перепутал времена года?), нет, кажется, действительно были те самые кувшинки, лилии, осока, велюр камышей, прочая озёрная дребедень, а он – под током, вибрирует, как и это отражение красных кирпичных стен в зелёной воде, слегка покоробленной бесцеремонностью ветерка; да, так о чём же речь?
Болтовня на отвлечённые темы снижала душевное напряжение?
Он говорил, остановившись и слегка опираясь на зонт, что улыбка прелестной девушки, почти ребенка, в финальных кадрах «Сладкой жизни» хотя и несколько смягчённый, но всё же – поцелуй в диафрагму, намёк на хеппи-энд, всё, дескать, образуется, остаётся надежда; так и в других прекрасных фильмах, в «Ночах Кабирии», например, или в «Земляничной поляне», когда не оторвать глаз (кадр в машине) от удивительного лица женщины, а она всего-то затягивается сигаретой и всего-навсего улыбается, или теперь, в иоселианиевской «Пасторали» (вот кино!) – девочка-подросток, улыбаясь, протягивает покидающим деревенский дом городским гостям плетёную корзину с отборными яблоками.
Напутствует на дорогу?
Осеняет дальнейшую жизнь?
Нам улыбаются с экрана сейчас, что-то обещая в будущем, но как разгадать улыбку из относительно недавнего прошлого Тракайского замка, из безмятежного пролога к драме, даже трагедии? Вот, доставила же нам из прошлого её, обнадёживающую улыбку, настенная фотография молодой польской графини (и понесло, понесло), улыбку, пробившуюся через две войны с революцией; на исторических колдобинах распадавшейся империи улыбка не застряла, не утонула в крови (это, чтобы не скатываться в патетику, не сказал) и – откуда такая душевная стойкость? – что-то им всё ещё обещает.
Заболтались, не заметили даже какого-то доходягу (тряслись от страха поджилки, вот умора! Держался, наверное, из последних силёнок), пролетевшего над ними на брезентовом, с подвешенным столиком дельтаплане, и – откуда здесь? – с удивлением подобрал с земли розовое стёклышко от очков – когда-то потерял точно такое. Повертел, машинально поднёс к глазу – загорелся кирпичный угол замка, погасло зелёное, в блёстках озеро, по пасмурно-бурой воде побежала розоватая рябь. Отвлёкся было, подумав, что любой цвет можно изменить по своему желанию-усмотрению, невольно подогнав его к гамме чувств, но не стал углубляться в известные ему психологические и художественные эксперименты, сунул стёклышко в карман до случая, а вспомнив снова о Бергмане, подумал также, что тот первым, наверное, использовал символику полощущихся на ветру занавесок. Эпигоны потом всё опошлили, из ленты в ленту начал порхать лёгкий беззащитный тюль, и улетал куда-то, вырвавшись из рук, газовый шарфик; теперь это – клише, условный, но всем понятный сигнал тревоги.
И отодвинул чашечку с недопитым кофе, глядя, как на соседнем столике воробьи расправляются с недоеденным хачапури, – дежурная сценка; строчил в тетрадке, но отвлёк скрип пальмы, порыв ветра, разворошившего листья плюща…
И море расплескалось, распугав водных лыжников.
Жаль, хотел искупаться… Похоже, шторм из Новороссийска идёт.
И машинально подумал, вслед за бергмановскими знавесками вспомнив ещё и Лерину: чем не символ? Лёгкая, как вздох ребёнка, занавеска полощется в открытом окне, а за окном, напротив, – грузная, начинённая малахитом, лазуритом, порфиром громада Исаакиевского собора.
Так, пришли, сели за тот же (?) столик, Лина (не подозревая подвоха) – напротив, на том же месте, где прежде сидела Кира. Вообще всё, кажется, на своих местах: маленький голубоватый дебаркадер внизу, на мокрых досках две автомобильные шины, обозначавшие причальную стенку; в подтёках, правда, но тот же тент (прочная, однако, эта парусиновая наволочка для разной формы воздушных подушек), деревья вокруг, вода с той же рябью, и та же (ничуть не изменилась) красная макушка замка над разморёнными солнцем купами.
Он переводит чувства-мысли в зримые картины?
Или, напротив, картины переводятся в…
А сам процесс (закольцованного) взаимного перевода и успокаивает, и волнует?
Вроде того.
Всё – по-прежнему?
И такой же погожий цветистый день. Заказал пиво, бутерброды – дивертисмент продолжался.
Пили, спорили, болтали, смеялись, но эксперимент, который безжалостно проводил на себе Соснин, продолжался тоже.
Вот напротив в тёмно-зелёном жакете (на плечи накинуто серое пальто) – Лина, яркая, белозубая, чёрные волосы густой гривой трепыхаются на ветру, за спиной – жёлто-красные деревья золотой осени, ещё дальше ультрамариновый (тогда, с Кирой, кажется, был кобальтовый?) мазок пограничного с небом леса. А вот в портативный проектор памяти вставляется другой слайд, наводится на фокус – и здесь же, напротив (тогда она была старше, чем теперь Лина), в сине-сиреневом платье, погружённая в летнее марево на фоне водных зелёных блёсток рыжеватая, улыбающаяся, словно мягкими красками выписанная Кира, хрипло и ласково говорящая что-то (давно тебя заметила, как-то ты, не обращая на меня внимания, пересекал вестибюль…).
Слайд оживал: Кира накрыла тёплой ладонью его руку, стряхнула в сторону пепел с сигареты, качнула головой, отбросив с шоколадных глаз рыжеватую чёлку; шш-ш-ш – недовольно прошелестев слюдяными крыльями, вылетела из кадра доплясывать свой летний век стрекоза.
Память, заигравшаяся с реальностью?
Лето, вмонтированное в осень?
Спокойная радость жаркого, скатывающегося с зенита дня, и её внутренняя, глазами выданная возбуждённость (клещ предчувствий?), благодарность и интуитивный страх скоротечности?
Ощущение ничем не восполнимой цены мига?
И красота, контрастность, глубина перспективы… Невольно залюбовался, решил растянуть редкое удовольствие: вокруг сине-зелёного летнего кадра, продолжая за границы его формы и линии, располагался уже осенний пейзаж – сад клонился к земле под бременем урожая, зрелище нарумяненных щёчек яблок пьянило так, будто Соснин уже выпил весь приготовленный из них сидр.
Но сколько можно растягивать мучительное удовольствие? Слайд вынут из кассеты проектора, оборвалась оргия зелени, и снова другой, уверенный и (автоматически тронул в кармане розовое стёклышко) тоже прекрасный – в том-то и фокус! – смех, бесстрашная (да-да) радость в тёмных, почти чёрных глазах, яркость живого лица.
Флёр, именно флёр… И натуральнейшая, фактурно-густая яркость мазков-струпьев; воздух хочется потрогать…
И шелестит ветерок, сбрасывая с деревьев очередной десант жёлтых листьев, и, кружась, опускается на освобождённое стрекозой место сухой, тонкий (с зубчиками по контуру), словно вырезанный по трафарету из древнего пергамента, ещё один лист в его короб, и доносится гудок последнего в этой навигации катера, дрожащий, переливающийся… Челночные проходы памятливой мысли через толщу времени, смена кадров туда-сюда, из лета в осень, из осени в лето, от Киры к Лине, от Лины к Кире, сбросить в очередной раз пять-шесть-семь лет и обратно, в свои годы вернуться? Сидим, болтаем, пьём пиво. Соснин даже попытался совмещать кадры, накладывать одно на другое изображения разных лет или снова разделять, но располагать рядом; в прозрачном воздухе повисал полиэкран, двух наших героинь играли прекрасные, разные совсем, но почему-то одинаково чуткие (сговорились, что ли?) к модной сейчас ретростилистике актрисы. Они обворожительно (или грустно) улыбались (море шарма, чуть не захлебнулся), послушно выстраивали трогательные цепочки стоп-кадров, менялась мимика, ветерок вдруг выщипывал из причёски и теребил прядь волос, а фон, фон-то каков! Два времени года – изумрудное лето и золотая осень, идеально выбранная и уходящая в обоих случаях кинематографическая натура.
Секрет достоверности и красочности кадров, запавших в память, в том, что никто не играл тогда?
Один бог знает, конечно, что могло бы ещё случиться в прошлом, но ведь правда лучше посчитать, что игра с памятью – теперь, а тогда они жили?
И тут вклинилось в естественное движение кадров что-то явно из другой ленты – молодое женское тело в густой траве, голова с копной каштановых волос лежит на его руке, и нога согнута в колене… Ба, да это же Лера, Лера… Прикусила стебелёк ромашки (горчит?), отбросила ромашку, запрокинув голову, поворачивается (в динамике памяти – звонкий смех), расстёгивает лифчик; освободившись, спелыми дынями выкатываются груди… Но Лера исчезает… Почему?
Обычная путаница на монтажном столе сознания, второпях не то склеилось, незримые склейщики заболтались… Вырезал, и опять – избранное им лето (сине-зелёное), и в нём, в незабываемом лете том – осенняя рыжеватая, пастельная (банальность, но ничего не попишешь) ренуаровская женщина, по-славянски размытая в критической точке лет, мерцает оттенками, как перламутровые пуговицы её розового костюма. Сейчас завораживает, но ещё чуть-чуть – и краски пожухнут.
Увы, вздохнул Соснин, это уже случилось.
Осень (жёлто-красная), и вот уже в ней, в натуральной осени, яркая, с резковатыми жестами, чувственными губами, по-семитски определённо высеченным профилем, вопреки этой подчёркнутой определённости украшенным прелестной изюминкой – чуть вздёрнутым кончиком носа, загорающаяся изнутри, смело ждущая будущего Лина: сильная натура, свою судьбу держит в крепких руках… Надо же, и как это получилось? Уникальное сочетание порыва с наплывами меланхолии, взрывной эмоциональности с расчётливостью, постоянным поиском оптимального поведения.
Вот кого должны были бы писать постимпрессионисты – Лину!
Но – кто?
Брак – постпостимпрессионист? – контурно-резок, Боннар, напротив, размягчён, Дерен суховат, демонстративно бесцветен, Матисс же для портретирования-схватывания Лины излишне плоскостной и мажорный; увлекаясь цветовым обобщением, Матисс не смог бы передать её внутренней силы.
И тут снова прошелестел ветерок, потянуло прохладой от посеребрённой рябью воды, и Лина повязала изумрудно-травяной шейный платок. Нежный зелёный рефлекс залил щёку и подбородок, и тотчас же вспомнился эрмитажный портрет кисти Ван Донгена, только, конечно, без (мысленно снятой) огромной, накрывающей лицо и заполняющей верхнюю треть холста широкополой траурно-чёрной шляпы.
Эксперимент Соснина утомил, болели глаза (осточертела зелёная мазня лета, вмонтированная в жёлто-красную мазню осени), возбуждённый устроенным им самим подобием спиритического (хотя Кира с Линой живы, слава богу, пока) сеанса, почти пьяный (выдул ведро пива?), он что-то невпопад Лине ответил, в какой-то момент даже выпал из разговора, неуклюже оборвав нить.
Но постепенно приходил в себя, неприязненно забросил коробочку со старыми слайдами на чердак памяти.
Надоело самокопание, саморазрушение прошлым – укоряюще уговаривал и почти что уговорил себя.
Вот Лина, пока не уехавшая, любит его, она рядом, за тем же столом, курит, смеётся его шуткам, жизнь идёт, продолжается, дарит дни.
Надо было радоваться, дышать, ведь всё было так же прекрасно, так же волнующе и ново, как и тогда, с Кирой…
Только его и Лину окутывала настоящая осень – сухая, прозрачная, последние денёчки бабьего лета, и поэтому огурцов не было.
Ясным мартовским утром (когда улетала Лина) Соснин, перепрыгивая или обходя затянутые тонким ледком лужи, шёл к метро.
В аэропорт не поехал: всё равно ей не выбраться из кольца родственников, а если бы даже и выбралась, о чём ещё они могли бы поговорить?
О любви не говори, как поётся, о ней всё сказано, так ведь?
И что же оставалось – повторять с кислой улыбочкой дежурные фразы?
И не очень-то хотелось видеть мятые, невыспавшиеся лица, согнутых, наверное, стариков-родителей, и никакого желания не было обсуждать с провожающими разного рода ощупывающие взгляды и рентген-механизмы, которыми вежливо злоупотребляли спецслужбисты, и вовсе ни к чему было ему утомительное ожидание финальной сцены, когда между зелёными фуражками пограничников, объединив гримасой радость с отчаянием, мелькнёт побледневшая (выбеленная?) с алыми губами маска и под плохо замаскированным конвоем отправится к самолёту.
Да, не поехал в аэропорт: грусть, тоска, боль и прочие отвечающие моменту ощущения постыдно покидали его. Хотелось поскорее спровадить добровольных изгнанников в их новый, свободный, довольный, по счастливой инерции всё ещё жующий рябчиков под ананасами мир среднедушевого благополучия, а самому вернуться в свою опустелую, но привычную жизнь.
Да, там, в зале отлёта, сейчас коллективные сморкания, бессмысленные возгласы и пожелания, взмахи рук…
Представил, как подобный прощальный галдёж с нескоординированной жестикуляцией устроили бы в его честь, и последние два шага, и нога на ступеньке автобуса, подвозящего к самолёту, а там, позади, остаются…
Можно ещё, конечно, оглянуться, прежде чем подняться по трапу, но это уже скорее символический жест, чем переживание: лица неразличимы.
А по террасе аэровокзала, с которой видно лётное поле, тем временем – много раз наблюдал, – неуклюже разыгрывая весёлость, решаясь даже на перекрывающие рёв турбин фальшивые взрывы хохота, шагают к лестнице исполнившие долг последнего прощания родственники, знакомые, чтобы спуститься к городскому (№ 39) автобусу и (с чувством облегчения?) разъехаться по домам.
Гнетущее чувство…
Страшно: похороны живых… По случаю, пожалуй, и траурная широкополая шляпа бы подошла, и чёрная вуаль была бы уместна, хотя и в новую жизнь летит. Радуга на небе не по сезону, даже две радуги, если приплюсовать к небесной радуге арочное отражение в луже, – к удаче, а старой жизни – конец, вот и страшно.
4. Поток
Уезжать боязно, оставаться противно; тошнотворная возгонка предчувствий, тревожно: делает выжидательные ходы, теряет темп, чувствуя себя аутсайдером. Рвотное состояние, и ещё голова гудит – зачем надо было водку с пивом на проводах Лины смешивать? И почему именно сейчас приспичило излить своё смутное состояние, что в нём особенного и ценного? И почему же всё так противно? Снаружи – заведённая раз и навсегда повседневность, внутри – пугающие картинки; замелькав ночью, тасовались затем в бессоннице, как игральные карты чёрта, а под утро – жуткие сны; что бы вся эта чертовщина с круглоголовым, в очочках, доцентом Пилей, деканом факультета, значила? Удивительно! Ну почему, почему именно сейчас, в марте 1976 года, спустя двадцать лет после малозначительных тех дознаний, возник Пиля из небытия? Чтобы придать новую актуальность уже полузабытым нелепостям давнего «плакатного дела», почему-то оказавшегося долгоиграющим, прежде всего – абсурдной сценке допроса? Стол с зелёным сукном и световым кругом настольной лампы, во главе стола – сутулый заика, экзекутор-ректор, задававший вопросы, один глупее другого, в расчёте на сидевшего в углу кабинета, на кожаном диванчике, молчаливого человечка – районного куратора из органов – с костяным личиком; да, всесильный Комитет контролировал даже плёвые эпизоды, превращая их в инциденты, как говорили, держал руку на идеологическом пульсе. За дурацкие безобидные рисунки, названные казёнными инквизиторами «плакатами», хотели выгнать из института, но амнистия к юбилею революции (белые цифры на кумаче: 1917–1957) отменила кару. Ей-богу, не заслуживали и беглого воспоминания давние мелочные конфликты юности с тупым государством, пусть и порождавшие прескучную мировую скорбь. Но ведь не зря сегодня ночью объявился Пиля, и понеслась лента с хаотичным сюжетом… Кто он, предъявитель мрачного фарса, теперь, на рассвете, впрыгивающий, как кажется, из сна в явь, вклинивающийся репликами своими во внутренний монолог?
«Что-то случилось», – сообщил из бегущей впереди времени страны, куда улетела Лина, один писатель. Здесь и сейчас иначе, опаснее: вот-вот что-то случится. Пессимизм поэтому – лучшая форма оптимизма: вдруг не все пророчества сбудутся?
Старая кинохроника, мороз по коже: там ли, здесь, но одинаково ужасает столпотворение людишек, конвульсивно дёргающихся, возбуждённо что-то знаменательное провозглашающих, к чему-то самому правильному зовущих, что-то единственно верное втолковывающих и – смеющихся-хохочущих, поднимающих рюмки, жующих-закусывающих, вскидывающих ножки в фокстроте, но – массовый психоз возбуждённой покорности? – обречённых на слепоту, верящих только поводырю… Сколько их, одинаковых лиц-лампочек, слепленных в ячеистое табло Истории, на котором коллективная судьба писалась открытым текстом! Ещё год, два – и… мы-то знаем, чем конвульсии заканчивались, читать научились. На старых фотографиях иначе: портрет, случайная группа, семья умиляют не белыми платьями и хризантемами в петлицах фраков-смокингов, нет, и не в том суть, что будущее никого не щадило, главное, что эти люди на фото, не выбирая времени, жили и умирали. Но в массе, в толпе, где теряется и стирается индивидуальность, объединённые каким-то жутким инстинктом общности и застигнутые в постыдный для них (и нас, таких же!) миг внутреннего распада киноглазом давно истлевшего оператора, люди тупы, как безнадёжные двоечники. Даже хуже: кажется, что из школ для умственно отсталых отпустили с уроков всех учеников сразу, вопреки конвульсиям восторгов, оваций, аплодисментов – полусонных (присыпанных дустом?), не способных выбирать, решать. Можно и другую аналогию подыскать: бредёт, пыля, стадо жующих слюнную жвачку телят, а за поворотом дороги – бойня. Однако и при самых мрачных раскладах надежды не умирают: всё обойдётся. А что может обойтись? Головная боль (мигрень или от ерша мутит?) пройдёт, тревоги останутся: давят надличностные силы, незаметно перетирают в порошок волю к сопротивлению, от них не избавиться, это давление многовекторное, оно отовсюду. Разве не убедительные образы нашёл Дали? В своей живописи он лиричен, трогателен, весел, саркастичен, искренне озабочен, но – настолько, насколько это доступно винтику огромного подавляющего мир механизма. Правда, винтику зрячему, побывавшему внутри механизма, осмотревшему страшные внутренности в работе, осознавшему свою жалкую роль и, победив бессилие, сбежавшему (в искусство?), чтобы, увидев уродливый механизм ещё и снаружи, показать его во всех подробностях тем, кто чудом сохранил зрение. Автоматизм бездушных, бессмысленных комбинаций-перестановок, выдвинутых и задвинутых ящиков, опредмеченная расщеплённость желаний и отношений, громоздкость напяливающих вульгарные маски комикса игрищ, запечатлённых с помощью красок и композиции в текучих материалах сознания. А жуткая ирония Великого Мастурбатора? Зрелище не для слабонервных. При чём здесь клише сюрреализма? Вне художественного сдвига реальность невыразима, на то и искусство, чтобы сдвигать лежачие камни реальности, под которые вода не течёт; Босха, например, притягивали тайные борения телесного и духовного начал, кошмары вывернутой наизнанку биоличности, а ныне манят (ох, не к добру!) дебри зачем-то машинизированного столпотворения. Зачем-то? Хо-хо: век средств. Цели хоть куда – возвышенные, дух захватывает от перспектив, скорей бы, неймётся охмурить всех доверчивых, а доверчивых – большинство. Счастье, благополучие, экономический рост, расцвет личности – какая разница, что обещать ещё? Если решили быстро (хо-хо: век скоростей) что-то прекрасное, воздушное, восхитительное или гнусное повсеместно (хо-хо: масштабный век) распространить, нужна технология, а у технологических средств (хо! В том-то и фокус!) своя – ползучая и спесивая – логика, которая подомнёт, понудит пересмотреть, забыть, не пожалеет своих самых преданных и восхищенных поначалу певцов и создателей, обвинит, свернёт голову, превратит в никчёмных тварей, навяжет, и всё это – тихой сапой, хотя на фоне громкой рекламной кампании.
Провозглашённые цели? Да разве они важны, когда повсюду скрежещут средства, в своей уродливой совокупности образующие конгломерат потребностей и воздействий: прелюбопытная саморазрушающаяся механическая махина невиданной прочности. Внушительное впечатление – махина растёт, странным образом растёт во все стороны, непрерывно идёт сборка и перекомпоновка узлов, элементов, подаются какие-то агрегаты, скрепляются (если удаётся) болтами, заклёпками… Махина смахивает на фантастический вросший в землю обитаемый дредноут, составные фрагменты коего всё труднее состыковать. В спешке их грубо сваривают (болтов и заклёпок не хватает); некому и нечем сверлить отверстия (вырываются из недр клубы дыма, вот и дыра готова, жаль только, что не в том месте, где надо, приходится залеплять), внутри и у основания густозаселённого чуда-юда тоже спешат, а недра истощаются, на пределе сил приходится выскребать остатки. Однако же выкопают – не вывезти: Откуда рельсы возьмутся? Кто уложит? А как детали собрать? Соединительные отверстия не совпадают, штыри не вставить, иногда, прислонив (вдруг сами срастутся?), отдельные части-детали вручную держат или, устав, подопрут наспех, чем попало, пока перекурят. Что-то обвалится, а всё выше и шире чудо-юдо, как на дрожжах растёт, хотя на глазах ржавеет, будто раны там-сям кровоточат, гноятся… Забот хватает! вдруг (как из паровоза) – упругая струя и сразу – густое облако, не видно ничего, свистки, гудки, толкотня, бегают туда-сюда, потом совещаются в табачном дыму; хо-хо, и многие (почти все) озабоченно (притворно?) толкаются у бортов (и рубки), присасываются к втулкам, воронкам, подшипникам, контактируют: человек-машина? Или точнее: человечество-машина? Сам как-то тоже со своей маслёнкой сунулся, тоже захотел смазать, долить, чтобы поскорее до светлого будущего доехать, и заметил, оторопев, что остальные (почти все) из специальных совков деловито песок сыпят в машину; шипение, сбои, остановки, а сыпят всё больше (так и песка не хватит, все дюны и барханы иссякнут), но – велят, да и население втянулось, привыкло. Ну и ну: Чудище! И зачем велят песок сыпать? И кто велит? Тс-с – палец к губам. Проблемы, сложности – не замечать, делать вид, что их нет, главное – комфорт управления: отсекать путаницу, тиражировать инструкции, стандарты; если принято решение в центре, почему его не выполнять всюду? Не рассуждайте! И чадящая махина-машина уже фантастически громоздка, а вот её способности перерабатывать и выдавать значимую информацию ничтожно малы. Но пока колёса и шестерёнки крутятся вхолостую, можно полости махины освоить, укрыться в них, словно под крылом гигантского страуса, и предаваться мечтам об управленческой оптимальности: сдвинем-ка, сплотим кресла, запустим канал громкой связи. Что в нем затарахтело? Шум, треск, помехи? Не беда, и без него обойдёмся, ещё легче будет руководить. Ха-ха, обратная связь! Придумали лженауку, что с неё взять? Возьмём несколько терминов, во избежание недоразумений отделим их от путающей карты сути: Научно-техническая революция, ура! У нас НТР, а у вас? Повсюду НТР, безграничные возможности века науки и техники; учёные, столько вас расплодилось, а толк-то будет? Предложите, наконец, одно простейшее (оптимальное?) решение всех задач сразу… Учёные, пошевеливайте мозгами, неужели не сможете присобачить к кувалде быстродействующий компьютер? Сможете! И тогда получится лучшая НТР в мире! Старайтесь, совершенствуйте и ускоряйте, только руководить не мешайте…
Как инфузории, делением размножаются аппаратчики – распочковываются, похотливо сливаются в блуде перманентных реорганизаций, плюхаются, смердя, в управленческие хлебные кресла. Так и весь аппарат: растёт, растёт, как опухоль, плетёт сети из «входящих» и «исходящих» депеш, телефонных звонков, беззаветно, с самоотречением наживает геморрой в президиумах, на активах, пленумах, бюро; всегда монолитный как никогда, крепнет, связанный круговой порукой: ты мне – я тебе, шито-крыто, свои люди – сочтёмся, жиреет на дефиците, управляя им самим, аппаратом, порождённой нехваткой всего, что нужно. Фонды, лимиты, спасительный разрыв между спросом и предложением позволяют самодовольно решать, кому дать, у кого отнять; пинком выбрасывая не усвоивших правил номенклатурной игры, оправдывая любой собственный (убивающий дело) загиб пользой всеобщего дела, исключительно для пользы дела гася пеной бюрократического абсурда каждую свежую мысль, идею, о, управленческий аппарат с лёту даёт подножку любому нетривиальному шагу…
Божья благодать с радугой, солнышко светит, воздух свеж и прозрачен, а несусветная чушь в голове бродит! И что вытворяет в мозговых полушариях примитивный ёрш! Взбесились нейроны, запутались нейронные сети?
Все решает особая идеология кресла, но в отличие от канцелярских забав бюрократии – не отдельного кресла, не суммы кресел, структурно собранных в управленческую машину, а специфической популяции, паразитирующей не на чём-то определённом, а на всём сразу. Аппарат создал замкнутый биоцикл, мертвящий и живучий круговорот командной лжи, подчинивший психику, эмоции, железы, половые гормоны, заложивший в программу команд острый инстинкт опасности (не только носы, все конечности – флюгеры), повязав кресла единой системой аварийной сигнализации; погрузился в сиденье, коснулся подлокотника – и приобщился, и потекли по цепи сигналы: перерабатывай, учитывай, руководствуйся, удерживайся, а удержавшись, обезопасив себя, – командуй. Сколько кресел! – лёгкие (но не кресла-качалки), почти стулья ещё, вращающиеся (оргтехника) и потяжелее – в холщовых чехлах, как на полотнах соцреализма, в коих рядышком с вождём пролетариата рассаживались хитроватые ходоки в папахах или треухах. Проехали… таких массивных кресел, в чехлах, уже нет, вышли из управленческой моды, но появились другие, ещё потяжелее, особенно ценятся прочные, как бы стационарные, непередвигающиеся, но способные в нужный момент катапультой забросить в другое кресло, как хочется думать высоким назначенцам, – сверхпрочное.
И вот, предположим, появляется чудак, которому в кресло садиться (и защищать эту мебель) неинтересно, он чем-то другим хочет заниматься. Неужели в новый класс пролез: банщик, парикмахер, мясник? Нет? Ну и ну, выходит, не чудак-чудик, а странный, подозрительный тип, посторонний, хлюпик… Представьте-ка себе эту творческую единицу: забрёл, скажем, дачник из бывших (пенсне, пикейная панама) на игровое поле во время матча по регби – что с ним будет? Сомнут-сметут, и всё, ха-ха-ха, зачем нам такие? Отвлекают только, мешают, всё как-то по-своему сделать норовят. Но чего они добиваются? Кто на нас не работает, тот не ест, и – удивление в глазах: ба, он ещё здесь? Аморально оставаться, линять надо – огибал большущую лужу со стекловидным льдом по краям, – тотальная ложь, бессмыслица в итоге любого официального события, на холостом ходу всё (Лина права), глупо ждать, что вдруг что-то само собою изменится. А время утекает… Он, будто заворожённый, сидит в театре абсурда, и мир, театр, люди, актёры оцепенели: ждут прихода Годо? Беспросветный сезон одиночек, вынужденных залечь в спячку, зарыться, найти себя в какой-нибудь подвальной котельной, чтобы желчь текущих потерь сделать приобретением будущего искусства, во всяком случае, попытаться сделать… Короткая оттепель, потом – мороз. Конечно, от перепадов температуры занавес коррозирует, но как ещё прочен, хотя… в щёлку многие вылетели, вот и Лина летит… А он кашляет-чихает в родимой слякоти, небесный бой тёплого воздуха с холодным всегда заканчивается одинаково, и льёт, льёт, но вот редкий ясный день выдался, хорошо, лётная погода, во всяком случае. Хотя тревожно и муторно, и голова трещит (надо было анальгин принять), и… новые угрозы во всей красе: муравейник напирает, муравьи в синих кителях (Лера – колдунья, весталка, ясновидящая? Почему прочла те стихи?) – и как гром приходит солнце из Китая в этот край! Пока – тишина, власти предержащие выжидают или увлечены подковёрной грызней? Да, подозрительная тишина, как перед грозой – бесшумно крот истории роет? Отсутствие перемен лишь маскирует взрывные цели анонимных проектировщиков будущего? Хотя… для художников плодотворны именно такие, застойные, но с мглистыми предчувствиями кануны – второсортные эпохи, в которых история заготавливает хворост для костров инквизиции. Однако это – для художников, а ему не лучше ли любопытствовать на безопасном удалении, последовав за Линой? Когда ещё (в пятьдесят шестом? Седьмом? Да, седьмом, под юбилей революции), мало что понимая, понял вдруг, что не договориться, – непереводимые языки. И опять: казённый кабинет, длинный, зёлёным сукном затянутый стол с разбросанными по нему гуашевыми «плакатами»; раздули дело, вокруг, скорчив гнусные гримасы, – ректор, декан, заведующие кафедрами, секретари чего-то, вопросы: кто надоумил, кто зачинщик, какая цель? И молчаливый человечек с костяным личиком на кожаном диване в углу кабинета. И что же – злопамятность навсегда? На обиженных воду возят… Те обиды-беды разве что усмешки достойны. А самый потешный из дознавателей – явился, не запылился – с заменёнными толстыми стеклами очков глазами, укоризненно покачивая круглой, слегка склонённой к плечику головкой, с видом искреннего, до глубины душонки донырнувшего сожаления смотрит на всегда принимаемого им за кого-то другого Соснина мёртвыми бликами линз, в одной из которых вздулась наполовину прикрытая жёлтой шторой оконная рама. Отведя назад правую ручку, брезгливо, за уголок, схватил левой ручкой какой-то из разбросанных по зелёному сукну рисунков и, чтобы продемонстрировать объективность, пристально начал его рассматривать, изобразил недовольство, покачал головкой, затем положил рисунок на место и развёл ручки, поправил очки, не зная, что ещё предпринять, чтобы юных пачкунов урезонить, вспомнил про зачёс – столь редкий, что зубья гребёнки, которыми он воссоздавался, располагались вдвое чаще, чем отдельные волоски, – и, сделав вид, что для вынесения суждения ему не хватает света, решился слегка отдёрнуть штору, отчего прочие инквизиторы тут же испуганно повернули на резкий металлических звук головы. Он, перетрусив от собственной смелости, виновато согнувшись в пояснице, нелепым движением подался вперёд, так, что короткие брючки чесучового костюмчика цвета жидкого какао, разбавленного молоком, задрались выше обычного, ослепив лазурно-голубыми, продолжающими цветовую тему кальсон носками с едва видимыми следами аккуратной штопки над задниками рыжих скороходовских полуботинок с узорчато пробитыми в нужных местах дырочками для вентиляции. Да-да-да, амнистия к годовщине великой революции спасла, но урок – навсегда. Чего ещё ждать? Однообразие дней и слов давит, как свинцовая туча, психическая усталость копится незаметно, пока из-под скорлупы будней не вырываются протуберанцы ночных кошмаров.
Сон? Он, голый, бесстыдно застыл на бойком месте в центре оживлённого, до мелочей знакомого, но – престранного перекрёстка: неприкосновенный план великого города зачем-то разрезали по оси главной улицы, по оси Невского, по белой разделительной, извёсткой по асфальту прочерченной полосе, и сдвинули – вот и долгожданный сдвиг, вот?! – взаимно две продольные половинки проспекта, поставив Садовую на место Владимирского, в створ Литейного, с Фонтанкой-то ничего не случилось, потекла чудесно в разные стороны – одним концом в Надеждинскую (против течения? Цирк!), другим – в Перинную. А Мойка?! Как теперь будут плавать экскурсионные катера? Но пока он стоит голый в центре удивительного перекрёстка, прикрывая среднестатический срам рукой, переступает с ноги на ногу на круглой тумбочке (милиционера-регулировщика?), ощущая ступнёй рифлённый вафелькой чугун, будто стоит на вспученной слегка крышке канализационного люка. Мимо туда-сюда снуёт личный и общественный транспорт, а он – на островке безопасности, никому не мешает, и никому дела до него нет, горожане с напускной важностью куда-то спешат, а он стоит у всех на виду, нагой, без определённых занятий, топчется на (лобном?) месте – ну да, куда же ещё, если не на Невский, тунеядцу податься? – мается, руки не к чему приложить; но на него смотрят многие – не задёрнутые шторами глаза-окна? Да, вызывающе лорнируют, обстреливают взглядами, издевательски хихикают спрятавшиеся за портьерами (или сплющившие носы о стёкла) зрители-невидимки. И он сам себя, раздетого, посиневшего на ветру, видит во многих ракурсах сразу, суммирует все точки зрения, хочется только прикрыться, неудобно всё же стоять голым всем на потеху, и срам катастрофически быстро растёт – радоваться или печалиться по поводу уникальной потенции? Мужчины смотрят с завистливым негодованием, на лицах дам – агрессивное восхищение; сколько их, воспылавших, делают вид, что озабочены штурмом Гостиного двора, где выкинули дефицитный товар, или расположенного напротив (точнее, по диагонали), на углу Литейного, парфюмерного магазинчика, известного как «ТеЖе»? А транспортные потоки с четырёх сторон на него несутся, совсем близко – смрадный раскалённый радиатор тупорылого самосвала, и такие же слева, справа. Обернулся – сзади такой же прёт. Изрыгают грохот и газ и давят колёсами свежие кучи конского навоза, вонючее месиво. Откуда этакое на Невском? А-а-а, половинки-то Невского взаимно сдвинулись, и клодтовские кони оскандалились, этих двух скакунов разлучили с другой парой, той, что напротив, потащили куда-то с такого привычного для них места, с перепугу с кем не бывает? И тут крышка люка медленно пошла вниз и – не пошевельнуться. Он вместе с ней, крышкой, опускается, как гроб в крематории, и никаких музыкальных эмоций, чад только и грохот, одно желание – зажмуриться, зажать нос, заткнуть уши, лишиться нервных окончаний, а он ещё гадает (будто можно выбирать), что лучше – опускаться в канализационный колодец или пусть машины раздавят?
Так вверх или вниз идёт тумба? Опускаясь-поднимаясь, подумал о конфузе неожиданной встречи, и, как по заказу, к нему направилась смешная фигурка в больших очках на маленьком носике. Обогнув навозную кучу, которую весело грабили воробьи, плюгавенький человечек втиснулся между радиаторами авто, пропищал: «Если не ошибаюсь, Илья ээ-э…» – «Сергеевич», – с отвращением подсказал Соснин, разглядывая тёмно-синюю в полосочку пару, лазурную сорочку под тусклым, в горошек, галстуком и торчащие из-под коротких брючек носки цвета умирающего заката. «Вот именно, Илья Сергеевич, рад видеть в полном здравии и отличной форме. Чем заняты? Опускаетесь? Хе-хе, годы идут, росточек поубавился, но вы ещё держитесь молодцом! Почему только вы на главной нашей перспективе, на многолюднейшем из проспектов, простите, голый?! Ну-у, допустим, презрев приличия, облегчаете душу сеансом саморазоблачения, пусть так, пусть так. А что новенького творите? – щекотливая ситуация не смущала его, напротив, располагала к болтовне с пустыми любезностями. – Заглянули бы, голубчик, на кафедру, архитектурная теория засыхает без соков практики, – отцепился левой рукой от воображаемой пуговицы и исподтишка, будто поправляя пиджачок, почесал ягодицу, а правую руку сунул в карман, откуда доносились противные щелчки пальцев (по портативному микрофону), имитирующие звук кастаньет. – Знаете ли, когда приближаешься в Вероне к знаменитой наклонной башне, ээ-э, а в Пизе замираешь перед увитым розами балконом Джульетты, то… – продолжил изложение итальянских сказок. И, переходя на доверительный шепот, защекотал ухо несвежим дыханием: – Это между нами, тет-а-тет, как любят говорить англичане, но, я, дружочек, не склонен ссылаться в положительном смысле на зарубежные образцы, много там неразберихи, путаницы, никому не нужных заумностей, а у нас, знаете ли, и свои есть памятники, торжественные и строгие. Улетать за опытом чужих ошибок и нежданными уличными впечатлениями никуда не надо, всё под боком у нас, жаль только, что мы с вами на углу Литейного, до Воронихинской колоннады далековато, хотя нет же… Феноменально! Это ведь ещё и угол Садовой, отсюда куда ближе до…»
И вдруг – похабная ухмылка за резко приблизившимся под прикрытием отвлекающей болтовни ветровым стеклом (лак? Нет, стекло!) Они, они, все четверо, перекошенные мстительными гримасами, с четырёх сторон подъезжают! Каждый вцепился в руль (где прятали водительские права, под скатертью?), мерзкие лысые болванки голов, гадливо извиваются черви губ, лязгают зубы, у одного десна свисает, как отстегнувшаяся подвязка… Бежали из картины в автокабины, несутся на него, ясно, кто их нанял, почерк органов: автомобильная катастрофа – и концы в воду… Опускается он всё-таки или нет? Нельзя ли побыстрее? Сдавленный в тисках радиаторов утратил ориентацию (важный сектор из мозга вырезали?). Что требовать от непослушного и опустевшего (душа в пятках) тела? И что он может сделать? Лягнуть босой ногой шину в навозной жиже? Пачкаться неохота. Плюнуть в ветровое стекло? Так ветер назад отнесёт. Оцарапать окрылок? И что он им, лысым болванам, дурного сделал? Они и раньше держали камни за пазухами… Боже, как подкрасить пакостные омертвевшие подобия лиц? И тут у него, голого, обнаружилась (как у кенгуру) сумочка на животе, достал розовое стеклышко от очков – нашёл недавно в старом пиджаке, откуда взялось, никак не мог вспомнить, – посмотрел сквозь стёклышко, и отлегло – румяные, люди как люди, не так всё страшно, ну наехали, попугали малость, да и за что им его наказывать? В картинное зеркало запрыгивал? Какая мелочь… Кстати, где зеркальца, которые они сжимали в скрюченных пальцах? И куда, господа хорошие, подевался единый мир? Раскололся на тысячи отражений? Разве – саднящий вибратор будильника! – одного мира со всеми его противоречиями нам мало?
Подозрительно зачастивший туда, за железный кордон, поэт читает свои стихи там, играет, напрягая голос, на нервах: «Эту воду в мурашках запруды, это Адмиралтейство и Биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу…» Читает «выпускной» (по высшему разрешению?) поэт, гастролируя там, за океаном, а звук пробивается сюда сквозь глушилку. Похороны живых? Погребение прошлого, потеря всего? Никогда, никогда – надоел надрыв, превратили общенациональный и личные комплексы неполноценности в статью дохода: престижно и выгодно? Чепуха, провинциализм души, искалеченное рабством сознание. Отбросить сомнения, скинуть розовые очки – осточертело томное, томительное, утомительное любование прошлым, пора смотреть вперёд, налаживать новую жизнь (№ 2?) легко, весело, беззаботно (беззаботности поучиться у Леры), целеустремленно (как Лина), что было – то прошло, сладкий дымок отечества растаял в старых добрых временах (когда они были?), взлететь бы, и – адьё, петербургские, подмявшие явь сновидения, однако… сны на пятницу – вещие, сегодня пятница… Влип!!! Что-то случится… Белые ночи, медлительные каналы, проколовшие вату шпили, адьё… Мысль маниакально закольцовывалась, да-да, у меня ещё есть адреса, по которым найду… затягивается прощание, озноб на разваливающемся фоне (как с Кирой?), однако… Почему – никогда? Поживём – увидим… Или – или? Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю. Я собираюсь. Да-да. Я понимаю. Провожать не следует. Да, я не потеряюсь.
Время торопит, сколько ещё сохранится просвет в занавесе… Надо бы успеть – брысь, только чёрной кошки не хватало ему для полного счастья, – а что если задвигать начнут занавес и его-то как раз и защемят? Хотя не в нём дело, в принципе. Он убежит в царство свободы, а ущербный след несвободы за ним потянется, и как ни уговаривай себя – не вернуться. Или здесь, или там, уедешь – желания перевернутся, снова возникнет та же дилемма, хотя «здесь» и «там» поменяются местами; есть города, в которые нет возврата: тот случай. Смыться? Подчинившись мании преследования, позорно бежать, якобы спасая – от кого? Кто ему угрожает? – никому не нужную шкуру? Когда-то спасались от чекистской пули в затылок, а теперь ради чего? Джинсового комплекта, бьюика, холёной лужайки патио? Ах да, свобода! Снимать шипучкой потребительства изжогу прошлого, лишь изредка отвлекаясь не без злорадства: как, не поднесён ещё факел к сложенной безмолвствующим народом поленнице? Ох-хо-хо: не всё то золото, что блестит; там хорошо, где нас нет; что ещё? Ну и память… Остеклив коридоры власти, демократия не только выставила напоказ прессе и телевидению всегда малопривлекательную технологию управления, но и обрекла политиков на хроническую клаустрофобию: боятся подойти к окнам и посмотреть – что же творится? Ну да, разгул надличностных сил: век средств. И будто там не душат обманной риторикой, массовыми психозами и общенациональными мифами, соблазнами истеблишмента, дремучестью среднего класса… А лохматые охламоны (с автоматами), вскормленные контркультурой? А взрывы, похищения, левацкие призывы к экспроприации и уравниловке? Не только мы их, но и они нас догоняют-перегоняют в одержимости глупостью, лезут на рожон, словно не прочь попробовать смоделированные и испечённые здесь социальные коврижки. Что их-то, там, вынуждает бежать по этому кругу? Боязнь ожирения? Мода на спортивную фигуру?
А спутники кто? И зачем толкаться (тем паче с видом постороннего) на рынке коммерческих идей? Драма эмиграции (когда-то жизнь была на кону!) теперь – по закону повторения – всё чаще вырождается в фарс. Один тип (далеко не худший вариант: обаятельный мошенник) вывез беременную сиамскую кошку – есть, оказывается, и там дефицит! – какая-то шустрая голливудская шлюха (повстречались на Капри), не задумываясь, предложила ему в обмен подаренный одним из знаменитых любовников «Форд» выпуска 1911 года с невоспроизводимо противным клаксоном, кваканье которого было главным предметом зависти соседей по Беверли-Хиллз. Он, однако (пройдоха!), благоразумно отказался, дождался пока сиамка родила, на радостях, правда, наделал глупостей – купил четыре дублёнки. Тут же опомнился, взял себя в руки, вживили ему в башку за колоссальные деньги чудесный электрод с оксфордским произношением. Он мгновенно всех, кто с ним общался, очаровал, стал осмотрительно и везуче играть на бирже, всех доверчивых обыграл, вышел в свет (полусвет?), собрался даже куда-то баллотироваться (в сенат штата?), понял, что перебрал, под благовидным предлогом снял свою кандидатуру, не забыв, впрочем, завести вблизи одной из вилл премилую, открытую по воскресеньям для осмотра кошачью ферму с домиками в виде симпатичных мышек с мышатами – трогательный символ начала головокружительного преуспевания, единственным (и кажущимся) сбоем в котором был наделавший много шума (и в итоге ставший прекрасной, осыпавшей золотым дождём рекламой) набег на бело-коричневое скопище голубоглазых кошечек семьи нильских аллигаторов – они проживали неподалёку, на процветавшем многопрофильном ранчо, и хозяин, разрываясь между военно-ракетным и кинобизнесом, очевидно, не уследил за тем, достаточно ли рационален рацион подопечных ему рептилий… Сколько историй, легенд, баек, принесённых почтой, а вот суровая, но сваливающаяся в анекдот реальность: факты, рассказы, эпизоды – наполняются короба листьями, взять хотя бы вчерашнюю сценку в обувной мастерской, так и просится в записную книжку:
– Почему не поставили набойку?
– На такой тонкий каблук мы не можем.
– Но Фима же мог!
– Да, но Фимы теперь нет.
Ну, Фима отправился на поиски счастья, и ладно, гуд бай, там башмаков, дожидающихся виртуозных набоек, много больше, а ему-то чего ради в тот изобильный рай улетать? И остановившись, чтобы завязать шнурок ботинка – ну чем, чем поможет ему перемещение в международном пространстве? – завязал… Разве мера счастья определяется (экономической) географией? Предположим, наелся бананов и апельсинов, окреп, витамины круглый год, ботинки больше не протекают (пошевелил пальцами во влажном носке), испытание сытостью выдержал, однако душу никто ещё не обновлял и не заменял, останется до конца дней, с нею жить. Но как жить там – без культурных корней, питательного бульона общения? И ничего толком не сказать, не высказать, пока язык, точно слепой щенок, беспомощно ищет пересохшие альвеолы. Да и здесь страхи относительно ближайшего будущего явно преувеличены. Пик подавления – позади, у бровастого вождя вываливается челюсть, а аппарат повязан: валютные счета, сыновья на африканской охоте, важные аппаратчики зависят уже от этого давно опороченного западного образа жизни, не они – так их жёны, дети, внуки. На кой им крайние меры? И – террор? Наивные риторические экстраполяции? В истории такое по заказу не повторяется, ха-ха, не обязательно отмечать рубеж тысячелетий массовым кровопусканием. Страхи, предчувствия, вещие сны. Чепуха! Онанирующие в похотливом ожидании конца света политкарлики-предсказатели, гальванизация гей-славян, повернувшихся плохо прикрытым задом к Западу, чтобы встретить китайско-мусульманскую орду в новых косоворотках? Ха-ха-ха. Дело душит бюрократическая волокита? Вот и славно, не хватало ещё, чтобы глупые решения исполнялись, совсем бы стало невмоготу. Если что и подогревает надежды на относительное спокойствие, так это бездействие. Подождём, авось обойдётся. Гнусноватая действительность развитого социализма? Трагическое несовпадение исторических циклов, абсурд в ранге политики и социальной организованности, замедленный, но фатальный ритм катастроф, словно для Петербурга-Ленинграда – столетний шаг наводнений? Трудно дышать? Дефицит кислородных подушек? Однако не в самолёт надо, зажмурившись, залезать, а в себя заглянуть, не хватит ли пенять на внешние (исторические?) гнусные обстоятельства? Пассивность, нытьё, жалобы на скучную попойку временщиков – пустое всё. Теснения духа – благо (вот дурак!), судьба, миссия и спасение (совсем спятил!), мазохистское, конечно, но – наслаждение. Открывать Америку? Нет, избавьте! Не рыпаться, довериться изводящему и вдохновляющему закону: одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет. И прекрасно! Не вмазываться в общий обоз, не чужой язык запоздало учить, а перевести накопленную энергию, желания, странные (очень) и смутные идеи на бумагу – и вперёд, взяв в сообщники тоску (мировую скорбь?) и благодатную удушающую атмосферу второсортной эпохи. Героика, эпос и прочая громоздкая тягомотина подождут переломных (и постпереломных) лет, а пока – пустоватое безвременье канунов, наполненное сладковатым запашком гнили и гари, пространство художественной вязи, невнятности, жанровой сумятицы: ищи. И зачем улетать? Экстенсивный разброс желаний, напор географических впечатлений – не обязательно благо. Мечущийся между корридой, охотой, рыбной ловлей, боксёрскими матчами и гражданскими войнами быстро исчерпывал в этой гонке «участия» даже тематические ресурсы, терял популярность вопреки неуёмному обновлению жизненных ситуаций, которые порождали иногда проблемный, но чаще – отвлекающий шум (интересная мысль!). Привязанный же к провинции почти безвыездно, в парилке южного штата, ежечасно, ежедневно, ежегодно смотрящий на один и тот же дом, газон, дерево, багажник торчащей из гаража автомашины и в этом малом, бесконечно интересном, реальном и воображаемом, главное – собственном космосе упрямо постигал самодвижение жизни (очень интересная мысль!). И не ждать, отбросить робость, замахнуться, а…
Оттолкнувшись от чего-нибудь малозначительного (ничего за душой, кроме листка автобиографии), собрать роман – разностильный и цельный, текучий, но жёстко выстроенный, в центре коего мается в единоборстве с собой (до полного самоисчерпания?) какой-нибудь престранный тип; вывести-выписать, предположим, особый вариант подпольного парадоксалиста, лишённого радостей безыскусной жизни, тоскующего по ним, истязаемого демонами, неврозами, депрессивными стрессами и прочей ультрасовременной нечистью, но движимого гипертрофированной впечатлительностью, которую умело прячет под маской флегматичного благоразумия. Враждебный любой идеологии, испытывающий отвращение к жестокости повседневности, суицидально вынашивающей революции, – индивид такого рода пытается справиться лишь с бременем собственной судьбы, а сил у него всё меньше, и порой кажется ему, что их не хватит даже на то, чтобы быть в худом мире с самим собой. Его сознание – под током, искрит, бросая внутреннюю жизнь из бездны в бездну. С ним ничего особенного не происходит, однако именно это «ничего» и становится смутной, но сдавливающей с разных сторон угрозой.
Пока сожаления и надежды, желания и сомнения раскручивают воображение, никакая реальность не создаётся – за неё лишь принимаются собственные терзания, а квазитворчество становится формой самосозерцания. Даже выявление теневых сторон личности не исключает упоения своим отражением как целостностью с очевидным преобладанием героических чёрточек. И оказывается, что он сам двусмыслен, и вновь обретённый им мир тоже двусмыслен, и всякий предмет, едва с ним начинает оперировать заряженное самоотрицанием, склонное к юродству сознание, дробится – за обыденностью обнаруживается нечто более существенное, вневременное, наделяемое символикой, обратной стороной, которая подчас мнится более важной, чем лицевая. Стараясь вывернуть наизнанку мир, он натыкается на причуды своего внутреннего устройства, не может их точно выявить, выразить, тяготится абстрактностью переполняющих его устремлений, задумывается о спасительной многозначности искусства, и здесъ-то самое время подсунуть ему перо и бумагу, чтобы посмотреть, во что воплотятся блуждания чувств и мыслей. Его влечёт чистая, отделившаяся от «жизненных содержаний» форма; длящаяся (не признавая завязки и развязки), самоорганизующаяся, предъявляющая свой, параллельный реальному мир, куда, оказывается, помещён растерянно слоняющийся между громоздящимися проблемами герой – незадачливый романист; да-да, ещё не найден игровой ход, но циркулем замысла уже описан заколдованный круг…
Вот задача: перевести никому не нужные пространственные идеи в слова, тоже никому не нужные, но для него – важные, соединённые в осязаемый, как бы сделанный своими руками предмет: вот он. Писать, а не ждать, если, конечно, есть что сказать. И тогда всё поменяется. Лина права по-женски, для себя, у нее-то и правда новая жизнь выдастся, как платье, по плечу… дальше забыл, а у него – своя цель. И незачем покупать и складывать чемоданы, проходить таможню, рвать, рвать. Надо – оставаться, всё вытерпеть, вынести, испить до конца. Молодец, дух захватывает от благородства и чистых помыслов. И конечно, писать – для себя, контакт с читателем, очереди за автографами, пресса, рецензии – всё это унизительно, противоестественно, точно быть понятым на обыске в своей же квартире; хотя интересно, как восприняли бы… На левом фланге отечественной словесности в нерешительности-подозрительности, с этаким прищуром, присматриваются, на правом, распираемом патриотизмом, издевательски гнусавят в бороды: милости просим-с, отведав хлеб-соль, в русскую литературу-с, заждались-с, – перепрыгнув лужу, шёл дальше. Сколько ждать? И так был длинный инкубационный период, пора, художник, решайся! Он сможет, конечно, сможет, тот же мовизм до удивления прост, хотя сам переделкинский мэтр мовизма, (какой, однако, взлёт на старости лет!) куда как сложен, уникальный кентавр: грудь – Героя социалистического труда, круп – гонкуровского лаурета. Итак, несколько недель отпуска, плохая погода у моря, тогда и начинать… И вспомнил, как на одной из асфальтированных, тянущихся между глухими тёмно-зелёными заборами аллей Переделкина повстречался с ведущим на поводке карликового черного пуделя (Кубик? Какая прелесть! Что он обнюхивает в дренажной канаве?) высоким, сухим, чуть сутулым стариком в клетчатом серо-коричневом пиджаке со шлицей, коричневом (виргинской шерсти) свитере, вельветовых, неопределённого цвета штанах и плоской, как масляничный блин, замшевой кепочке. Старик безразлично скользнул пресыщенным достатком и славой взглядом – мало ли непризнанных гениев приезжает подышать воздухом писательского питомника? Заносило – пора, второсортная эпоха торопит, а никто не шевелится, поддались умиротворяющей скуке; маститые, с повадками усталых вышибал, польщённые собственными успехами капитулировали перед реальностью; начинающие задиры, одержимые, смелые, похоже, поизвелись; но кто-то же должен переводить фальшь жизни в правду искусства…
Даже устойчивость, писал кто-то из умных людей, не что иное, как ослабленное и замедленное качание.
Между крайностями? Спрашивал, заранее зная ответ. «И жизнь, качнувшись вправо, качнется влево», – бормотал, шагая, осваивая образ символически совместившей правое и левое амплитуды.
И без пустозвонства! Поддел ногой консервную банку. Летом, пусть ненадолго, – на Куршскую косу, вдохновиться ветреной песнью дюны и – писать, ну, может быть, ещё не писать, а обдумать сначала хотя бы то, что так теребит, саднит… Да, подождать, выждать, наполниться ожиданием, а осенью – на Пицунду и – писать.
А пока – покончить с навязчивыми видениями, выбросить из головы зелёную лагуну в верхнем левом углу Адриатики, собор в воздушном пеньюаре готических кружев, накинутом на грудастое византийское тело… И – забыть про город с мостами над Арно? Фосфоресцирует фасадами? Калька с юности? Всё давно рассмотрено в фолиантах фундаментальной библиотеки, но в юность не возвращаются. Никогда не увижу? Гм… вот и увидел: привет, Давид! Эффект присутствия сродни маниловской фантазии, бегству в иллюзию, в беспечно-потребительскую пестроту туристских буклетов, в картинки чужой, подсмотренной в кино жизни. Да ещё надо бы в лиловато вечереющий Париж завернуть – свидание на Риволи? Болван, кто тебя вспомнит? Простите, не туда попали, гудки в трубке, только монета зря пропадёт… И что же: античность, Ренессанс, колыбели мысли, ландшафты творчества – транзитом? – одна нога здесь, другая там, и – моргнуть не успел – уже обе ноги там: ты (ты?!) – среди энергичных мистеров-твистеров и холёных красоток всех цветов и оттенков; роскошные магазины, кафе, открытый – круглогодично – каток, музыка, хрустальные фонтаны, иллюминированная (ростом с рокфеллеровский небоскрёб?) ёлка – декорации к марсианским спектаклям? Ну да, как же обрести свободу без Пятой авеню, Линкольн-центра? Ну да, благоухание богатства, кремово-румяные, как пирожные, старушенции с сиреневыми буклями, в расстёгнутых норках, а пара стрит в сторону – и надвигаются улыбающиеся бомжи-монстры в галошах и коротких клетчатых брючках… Стоит ли наших монстров на американских менять?
Макетируя душевные катастрофы, почему бы не отвлечься на картину урбанистического апокалипсиса?
Сны на пятницу вещие… Так, Невский рассечён: по белой разделительной полосе прошла геологическая трещина – разве не может сдвинуться на несколько кварталов земная кора? Трамвайные рельсы Литейного и Садовой состыковались? Жуть: клодтовские кони (пара, оставленная на месте) заржали от удивления – а нам каково? – в перспективе между их округлыми задами, замыкая Фонтанку, плавает портик Руска, кони издевательски щекочут его развевающимися хвостами, не размок бы, пока не отведут воду. Часть воды в Екатерининский канал можно сбросить, но куда спустить остальную? А фонари-жирафы на Зелёном мосту над Мойкой? Их квартет, как и четвёрку клодтовских скакунов, тоже пополам раскололи – уже загорелись, как на полотне Дали, яркое пламя, ого-го! И вниз по течению, и – потерял дар речи… Собор-то – в воде, Мойка хлынула на площадь (Медный всадник снова по воде скачет, вспоминает великую поэму), вода, кругом вода.
И повсюду терзающий воображение ландшафт: ансамбли искарёжены, фрагменты переставлены – срастутся ли? Один только перекрёсток знаком; померещилось или всё наново прижилось? Вместо «Титана» (как обойтись без углового соловьёвского гастронома и над гастрономом – слепой кишки киношки?) – Гостиный двор, вместо порочного, хлюпающего провалившимся носом-дверью «Сайгона» (пардон, Хо-ши-мина), увенчанного трёхэтажным ресторанным вертепом, вполне приличное закругление Публичной библиотеки. Хо? Хо: в век массового идиотизма стоит ли удивляться, что трамваи с Литейного, не понимая, куда их несёт, катят в Садовую? Разберутся. А метро! Встречные поезда в обоих туннелях упёрлись в бетонные тупики, в туннелях две встречные демонстрации параллельно бредут по шпалам… О, в городе всё связано, сцеплено (как в прозе?), ничего нельзя передвинуть: развалится, если всё сразу не переделать. Но чтобы переделать, сколько нужно фантазии, решительности, напряжения! Вот где школа! Вот где растянутый игровой диапазон! Однако будем гуманистами, отменим средовую сумятицу и стихийное, с тектоническим сдвигом, бедствие – пожары, наводнения, обрывы электропроводов, кабелей, труб, туннелей не состоятся, докончим этот мрачный сценарий когда-нибудь в другой раз, оттолкнёмся лучше от вполне позитивной (ха-ха) посылки: пусть ничего не сдвигается, пусть никто не упивается зрелищем разрушения, пусть жираф догорает на картине, а не на реальном мосту, пусть старики, женщины и дети продолжат привычное прозябание в казённой заботе и относительной безопасности.
Так – замахнуться на роман? Но не сразу! С романом – повременить, боязно, что замахнётся, а гора родит мышь. Сначала набросать скелетную схему, смоделировать его, романа, молекулу, выделить фрагмент – пульсирующий, трепетный, нервный…
Пока этюд – лёгкий, щемящий, робкое подражание Шопену, если выйдет, конечно, во всяком случае, стоит попробовать; оттолкнувшись от традиции музыкальных переложений, набросать либретто балетного класс-концерта; мозаика экзерсисов, все поддержки напоказ, а – искусство! Французы правы: ищи женщину; и выбрать поэтому надо бы нечто невесомое, пролетающее (да, Лина летит!), какую-нибудь завлекающую бульвар историю, подёрнутую красивостями, что-то вроде того, что заставляло набухать слезами глаза гимназисток. Чарская? Вержбицкая? Мирра Лохвицкая? Нет, жёстче, завлекать придётся современный бульвар, текст должна пропитать горечь потерь, в которую нельзя не поверить. Здравствуй, грусть, немного солнца в холодной воде, и никаких серьёзных вопросов, не желаю даже знать любите ли вы Брамса, – проще, без самокопания и заумностей.
«Я б разбивал стихи как сад…» А прозу – как город? Пунктик? И пусть! Петербург ведь после пробивки всего трёх лучей разросся, наполнился, поднял из топи мистические декорации, поразил, создал традицию, сонм литературных героев, вместил всех, обустраивает и истязает оставшихся, по ночам зовёт вернуться уехавших и ушедших. «В Петербурге мы сойдёмся снова»? Поэтические мечты… А закон разделения прост: «здесь» или «там», одно или другое. Пока, слава богу, здесь: Пять углов, каньон Свечного, арка Новой Голландии. И – перескочил лужу – чувственно-брутальные, сумрачные, как подсознание, Академия художеств, Михайловский замок… Да, начинались-то пространственные приключения Петербурга с трёх проведённых по желтоватой пористой бумаге, сходящихся в точке линий, в зародыше – вроде бы наивная, хотя и наследующая великим барочным образцам схема. Да, трезубец, колыбель осознанной урбанистики, но сколько же потом получилось нервных узлов, артерий, клеток: организм, единственный в своём роде. Так и в романе; пока – схема, три любовные линии, а точка схода – он сам. Только линии, в отличие от городских лучей, пронзив, уходят навылет, дальше, в «светлое» будущее, за познавательный горизонт, но он-то, упрямец, словно обращённый к будущему зрячим затылком, всматривается в убегающее назад прошлое – там все загадки, разгадки, всё там.
Писать, когда поднадоела литература об изготовлении литературы, о творческих метаниях в поисках жанра, языка, взгляда. А пока в спорах автора с самим собой рождается рахитичная, обречённая упиваться перипетиями собственного зачатия истина, тайные мотивы и движения вырождаются в технологию?
Как всё-таки комфортна (вроде идеализированного прошлого?) старая, добрая, непогрешимая (критический реализм?) проза, всё, что замышлено, рассказывавшая в самом тексте, не отсылавшая с первой строки в подтекст, не боявшаяся описательности, красивостей, подробностей, увлекавшая, захватывавшая без раздражающих неясностей, бесцеремонного выставления напоказ приёмов письма, обходившаяся без впадающего в транс автора и его болезненных отношений с героем-рассказчиком.
Да – он на главной, пронзающей башню Адмиралтейства оси трезубца, то бишь на реальном Невском проспекте – и он же, нагой и уязвимый, помещённый в какой-то миг жизненной пантомимы на фантастический перекрёсток (сон в руку?), переминается на рифлёнке дурацкой тумбы ли, канализационного люка, решает, быть или не быть, что делать, кто виноват, ехать или не ехать, то есть в соответствии с культурной традицией пытается ответить на общечеловеческие, не покидающие интеллигента вопросы.
И всё сначала: в попытке разгадать свой жребий, расползается комментарий к трём жребиям – чуть-чуть истерии, надрыва, душок декаданса… «Кто держит зеркальце, кто баночку духов, – душа ведь женщина, ей нравятся безделки…»
Кто держит зеркальце? Забавно, забавно, вот и подсказка, да – девочка в окне, зеркальце, солнечный зайчик.
И гладкопись надоела, прохрюкал ночью гнусный коротышка, прикрытый очками. Действительно, кто бы из пишущих не испытал глубочайшего унижения от упрёков в гладкописи?
Сверкнула под карнизом бахрома сосулек… Да-да, живое чудо парков, рощ, могил; искусство осваивает тревожно-мистические пустоты, но – опять: мало что-то вспомнить, надо ещё многое додумать-придумать, надо написать (хотя бы записать) воображённое, найдя слова для проносящихся и гаснущих, как падающие звёзды, образов; врождённая медлительность – никогда не успевал загадать желание. И – как же можно! – три темы сразу. Прочитав последнюю фразу, не поймёшь, кто в кого влюблён, кто, зачем и когда встречался, кто погиб и кто цел остался, и кто автор и кто герой, и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте, и каких-то призраков рой… Вот-вот! Чем не эпиграф? Поскольку поэзия мыслит сжатыми формулами чувств, надо бы найти формулу, способную (охватив роман), выделить и обобщить-обозначить главное в нём. Любопытно – подобрать эпиграф к отсутствующему тексту, лишь к смутному предчувствию-ощущению? И стало быть, подбирая, угадывать суть будущего сочинения? Так: смысл из одного (поэтического) контекста, полагая, что он дремлет в интеллигентной читательской памяти, самонадеянно перенести в другой (прозаический), пока что закрытый, расплывчатый и беспризорный контекст, который ещё только брезжит перед мысленным взором автора и раскроется постепенно, если вообще раскроется. Заголовок (и подзаголовок), символически охватывая содержание, задают отношение к тексту, направляют и корректируют восприятие. Слово ли, короткая фраза, вырвавшиеся из тесного интервала между другими словами и фразами, подобны вырвавшимся из толпы людям: вынесенные наверх, в белую свободу бумажного поля, избранные-назначенные верховодить слова диктуют тексту ритуал художественного поведения. Эпиграф тоже вознесён, парит над, однако, являясь посланцем поэтического контекста, эпиграф осуществляет ещё и своеобразную его прививку к прозе, оздоравливает её, как подмешивание свежей крови. Столкнувшись с прозой, поэтические строчки высекают искры нежданных её значений, а в самом столкновении рождается экстракт смысла, невысказываемая суть. Так: взять несколько поэтических имён, классиков и современников, которые пытаются классической высоты достичь, выписать строчки в столбик – что получится? Значима графика – узор поэтических строчек, буквенная вязь, задавая свой ритм, контрастируют с изобразительно-нейтральной, будто растровой структурой прозаического набора.
В нас влетают, как семена,Другие судьбы и имена.
Само по себе хорошо, стремительно, со свистом ветра, только удачной, близкой по духу строфы мало, для мемуаров, казалось бы, подходит, но – прямолинейно, искры не высекаются, пересказ, вмещённый в две строчки конспект, ни расширения, ни концентрации. И еще:
Мы, как сосуды, налитыСиним, зелёным, карим,Друг в друга сутью,Что в нас носили,Перетекаем.Что прошло, то прошло. К лучшему.Но прикусываю, как тайну,Носталь… по настоящему,Что настанет…
Желания и ощущения совпадают, однако – не подойдёт; хотя из метафорической избыточности вырастает и метафора многоголосицы, перекрывающей допустимые децибелы времени, в котором застают врасплох шумом ли, пронзительной тишиной образы: художественный эквивалент теряющего голову и речь века? А если что-нибудь общепризнанное?
Как в неге прояснялась мысль!Безукоризненно. Как стон.Как пеной, в полночь, с трёх сторонВнезапно озарённый мыс.…………………………….Огромный пляж из голых галек —На все глядящий без пелён —И зоркий, как глазной хрусталик,Незастеклённый небосклон.
Зрение природы? Расширяется горизонт, раскрепощается мысль. Однако сам текст может сузиться, привязаться к месту, и забавная мелочь мешает: хрусталик. Когда рассматривал застывшую на кончике хвойной иглы дождевую каплю? – кажется, с Лерой на дачу к её подруге ездили, и потом, в реликтовой роще после дождя… Но если ещё и эпиграф на неё, хрустальную каплю, намекнёт – получится модерновая люстра со сверкающими на торчащих во все стороны стержнях шариками-головками, которую в неподходящем месте повесили. И сколько рожков было бы на той ветвистой люстре? А как-то ветка качнулась под тяжестью присевшей отдохнуть птицы, оросив хрустальным дождем рукав свитера.
Здесь будет всё: пережитоеВ предвиденьи и наяву…
Опять претенциозный пересказ, обещание, аннотация, рекламное объявление в газете, причём декларативное… Не стоит присоединяться к эксплуатации общеизвестного, не хватало ещё и другие прекрасные строчки по инерции зацепить – «в работе, в поисках пути, в сердечной смуте»: сопряжение и столкновение одновременно, грустно, тревожно, и нервы натянуты, но хрестоматийно, даже в школьный учебник попало. Для серьёзного, но без разнородных примесей текста, может, и подошло бы, а здесь не высечет желанную искру, не то, и не стоит надеяться на зачитанные до дыр стихи, притупляется восприятие, к тому же эпиграф – не ключ к коду, а средство перекодировки и проверки содержания на прочность, это ведь ещё и тест – выдержит ли? И некая расположенная вне текста художественная реальность, которую надо бы ввести в текст, встроить в общую цепь ассоциаций, и значит – обогатить, осветить новым светом, увеличить информационную ёмкость, как бы приделав двойное дно. Коннотативность, полисемантика – объясняют структуралисты, зачем бояться веяний времени… Никто и не боится, не вспомнить просто (ну и память!) нужные строки, неуловимые, но те, дрожащие, хранящие под вязью букв многосмысленный смысл, угодливо сливающийся с прозой и – исподтишка спорящий, опровергающий, жалящий сарказмом… Вот задача! Ясное утро, и головная боль улетучилась, хорошо…
Так:
Он (текст?) блещет снимком лунной ночи,Рассматриваемой в обед,И сообщает пошлость Сочи (что там, в Сочи, Лера искала?)Природе……………………………………
Так?
Невысказанность. Здесь могло с успехомСквозь исполненье авторство процвесть.
Удивительно, настолько точно, подробно и ёмко, что придётся отказаться: проза (любая) «под» таким эпиграфом становится непомерно разросшимся, беспомощным дубликатом поэтического смысла.
И будто нет в нейНичего особенного —Типичная же даль!А тянет.
Просто и загадочно, иронично и серьёзно, но – дальше, дальше:
Собака, лошади, слуги —Все ждут:Неужто войны не будет?Художник,Решайся!
Вот, вот – неопределённость, простор смысла и чуть ли не все струны задеты. Чувствуешь, как близки тебе эти поэтические желания? Нагнетая тревогу, иронию, внезапно достигая прозрачности, говорить об одном и том же по-разному, неуловимо меняя точку зрения, терпеливо подбирая объектив, кадр, резкость, масштаб, медленно переходя с позиции на позицию, пускаясь вскачь, снова флегматично, нехотя, оценивающе обходя по незримому кругу внутренний мир, минуя турникеты психики, забираясь в её эфемерные ландшафты, бесцельно, рискуя свернуть шею, лазая по склонам и безднам, устраивая от скуки гимнастические турниры, раскачиваясь задумчиво на турниках, трапециях, кольцах, срываясь вдруг и зацепившись за что-нибудь на лету – деловито проверять прочность крепёжных узлов, нахмурившись, резко менять загрузку и направления усилий в растянутых и сжатых стержнях воздушных конструкций, и всё это – чтобы снова беспечно, с насмешкой, болью, горечью, в который раз ощущая тщету намерений, попытаться иначе сказать о давно известном.
А пока ещё что-нибудь.И жизнь выдастся,Как платье, по плечу, – вспомнил! и Лину вспомнил. —К сиянью подойдёт,И цвету глаз.
Лирическое обращение-напутствие, а охватывает разные смыслы; аккомпанирует смятению чувств, подыгрывая, вдруг замолкает и – из подтекста, но громко: от себя не убежишь, хитрости не помогут, жизнь одна. Но – подождать, рано делать выбор, не надо спешить. И лучше, наверное, выхватывать строки с несколько затемнённым, смутным смыслом, этим ведь в песне тешатся все, это ведь значит – пепел сиреневый… Уместнее строка или две, чем четверостишие:
Их много. Им немыслим счёт.Их тьма. Они шумят в миноре.
Да-да, вырывать строчки (одну? Две? Три?) свербящие, волнующие, нужны эмоциональные детонаторы.
Эту воду в мурашках запруды…
Или:
Под звон сервизов чайных…в коробках… из-под случайных жизней.
Или:
И жизнь, качнувшись вправо,качнётся влево.
Нет, вернуться к отложенным смыслам и – ещё короче:
Художник, решайся!
Посмотреть через лупу, увидеть во всех подробностях:
ХУДОЖНИК, РЕШАЙСЯ!
Потрогать каждую букву, раздвинуть их, буквы, – пусть им будет посвободнее, ведь каждая столько значит:
ХУДОЖНИК, РЕШАЙСЯ!
Теперь лупу убрать, коротко и ясно, весомо и решительно:
художник, решайся!
Однако, не превратилось ли это обращение из-за изоляции в лозунг? Призыв к действию, заслонивший его основания? С кем протекли боренья? С самим собой, с самим собой… Не лучше ли предварить текст картиной?
Немой фронтонСлепая колоннадаГлухая аркаНепричёсанные окна
Может быть… Да сколько ни повторяй, а тайна. «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». О чём сказать? Как? Не так и важно, волнение – исток, смысл, соль и итог искусства, его выразить – вот задача. Природа шаровой молнии неизвестна. Искусства – тоже: так, догадки, домыслы, схоластика дебатов, расчёсывающих многовековые коросты или аллергическую сыпь повседневности. И только волнение – критерий, приоритет, поверим формуле. Однако как его, волнение, выразить и при этом донести то, что, называясь вдохновением, даёт и забирает…
Так делает перо,скользя по гладирасчерченной тетради,не зная просудьбу своей строки…
Прекрасно, хотя и бросает в другую крайность: выпячивается процесс творчества, его освобождающая суть, и размер, ритмика порхающей бабочки только к отдельным фрагментам текста, тем хотя бы, где речь о Лере, может быть, подойдёт, а надо строчки, охватывающие смыслы всего текста, найти. Оттолкнувшись от сумятицы отражений к обобщениям легче, пожалуй, удастся выйти:
Из сада, с качелей, с бухты-барахтыВбегает ветка в трюмо!Огромная, близкая, с каплей смарагда – опять капля?На кончике кисти прямой.
Не лучше ли сорваться с пиков высокой поэзии, схватив на лету что-нибудь низкое, вульгарное, но что? Ура, удача, схватил, чудовищный и бессмертный шлягер абхазского побережья:
О море в…О пальмы в…Кто побывал,Тот не забудет никогда…
Но как передать акцент? Этот неуловимый звук-тембр, что-то среднее между И и Ы: поби/ывал? Здорово, остро, неожиданно… или переиграл? Сам себя и переиграл. Задача сложнее; конечно, чем-то неудобная (неправильная) литература выносится мёртвой рекой правильных текстов на последнюю полосу Литгазеты, в стыдливую рубрику иронической прозы, однако стоит ли первыми же строчками вставлять в замок текста такого размера иронический ключ? Надо ведь многое зацепить, и не без серьёзности, но мешают штампы, стёршиеся, будто бы опустошённые слова… О, и серьёзность-то не отделить от имитации, симуляции чувств, розыгрыша и прочих вольностей, вырастающих на откровении. К тому же текст – это автор, он сам, причастный и отчуждённый, смущённый и дерзкий, он-пишущий, он-творящий. Я – это Я как иллюзорный акт творческого самопознания? И если согласиться с такой формулой, то эпиграф, соперничая со всем текстом, призван не только ужать калейдоскоп сознания, синтезируя бытовые ситуации с символикой, но и характер очутившейся одномоментно внутри и вне текста личности: что-то вроде выбитой на обычной, метр на два, могильной плите эпитафии – лаконичной, не более двух строк, как фамилия с инициалами и датами жизни.
Прогромыхала сквозь водосточную трубу льдина, разбилась о бетонную отмостку, брызнула во все стороны, и тут же, как назло, споткнулся, встряхнул калейдоскоп сознания, и новый узор из сиюминутных соображений плеснул в глаза кислотою упрёков: безответственная позиция наблюдателя? Полёт над схваткой? Спасаясь от ветра, закутаться в мантию духоборца, одержимого более чем неясной программой? Опять туман в голове… Или водянка мозга? И до чего удобен ныне новоиспечённый гражданин, борец с рутиной, ниспровергатель, нацепивший добровольно намордник! А текст – закольцевать, чтобы конец мог без промедлений слиться с началом: у попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил… и по кругу, по кругу, разгоняя частицы смыслов, как в ускорителе.
Пилообразная стена металлических гаражей, разлившаяся широко лужа, поделённая надвое тонким бетонным поребриком; намёк на дамбу, которую грозят построить, чтобы спасти нас наконец от наводнений, перегородив Финский залив? Жалкие гаражи – прибежище кустарей, рукастых умельцев, так и не подковавших блохи, ничего общего не имеющих с преуспевающими автомобилистами, встроенными в систему теневого сервиса. Гаражи эти – последнее и нередко счастливое убежище квартальных люмпенов, по призванию – технарей, дрыхнущих или играющих в домино, прислонившись к колёсам убогих, как треснувшие мыльницы, самоделок. И окутывает железные ящики со щипцовыми крышами, скооперированные с помойкой, какой-то тёмный, таинственно-жалкий быт. Одержимые, копошащиеся в тесноте люди вызывают симпатию, напоминая своей любовью к мотору и колёсам платоновских машинистов-механиков. Они живут в моторе, прислушиваются к его чиханию и кашлю, роются, точно прозекторы, в его кишках. Страсть к технике замещает крестьянскую тоску по хозяйству? Обмывая уродливые тела угловатых своих машин, они на самом деле чистят скребком старую кобылку-кормилицу. А заодно здесь же и мастерская, где можно выкраивать жесть огромными ножницами, орудовать напильником или припадать к верстаку, сгоняя рубанком тёплую стружку. Чёрт знает что это за место – крохотный, со стенками толщиной в полтора миллиметра гараж! В воскресенье была Пасха, воротца были распахнуты: сидели у машин, смазывали, скребли, фукали краской, закусывая матерком, попивали портвейн, разгоряченная полная женщина громко пела под гармошку – не в комнатке с ковриком, у гарнитура, а в железной, тёмной, с блеском склянок на полках пещере. Замена церкви? Новая молельня? Но порой, проходя мимо, можно поймать настороженный взгляд исподлобья, в котором, вырвавшись из мрачных глубин, вспыхивает неприязнь к чужаку, живущему как-то иначе, пьющему что-то другое; и столько пламени в этом взгляде, будто в каждом зрачке взорвалась канистра. И если булыжник – законное орудие пролетариата, то что же останется в его арсенале? Испуганные взмахи или безвольные опускания рук? Лишь бы уцелела голова, чтобы думать, выдумывая себе ужасы и приключения… Вдалеке, меж стволов, угадывалась прорезающая россыпи панельных брусков магистраль с мельканием машин и автобусов; туда, к помеченному светофором переходу, грязными ручейками стекались люди…
Холодный прозрачный воздух – солнце и прощальные заморозки с ворсом инея на бурой земле, перекинутая с пятиэтажной коробки на продрогшую вербу радуга.
Из-под радуги вынырнул самолётик. Лина? Нет, военный… Продев тянущуюся следом белую нитку в ушко слухового окна на ближайшей пятиэтажке, круто взмыл вверх…
Пропуская выехавшую из крайнего гаража, фырча и вихляя колесами, тарахтелку мордастого инвалида, заглянул вместе со световым лучом внутрь, за приоткрывшиеся воротца – на полках банки нитроэмали, молотки, щипцы, разнокалиберные клещи, блеснули топор, пила, ещё какие-то орудия пыток, странный сосуд с оранжевой грушей – старомодный распылитель или лошадиная клизма, куча промасленного тряпья скрывала освежёванную тушу или что-нибудь совсем страшное (из-под тряпок торчал в мир носок резинового сапога), но стриженный бобриком подельник инвалида – смывшийся из кунсткамеры экспонат в монументальном ватнике и отвисших на заду штанах уже выметал на наклонный дощатый настил окурки, красно-жёлто-голубые ошмётки яичной скорлупы, выволакивал из гаража рюкзак с пустыми бутылками, накладывал щеколду, копался в страшном, как боксёрская перчатка, замке. Сизое облачко бензинного перегара вернуло на фантастический перекрёсток, ещё чуть-чуть – и сшибутся бамперы, а от него останется лепёшка с запёкшейся кровью… Вонючий дымок тем временем мирно оседал на прутьях, которые ждали чудесного превращения в кусты смородины, а наш герой зашагал дальше, провожаемый остекленелым взглядом старухи с по-рембрандтовски тёмного портрета, заключённого в раму кухонного окна.
Наступил на крышку канализационного люка: надо же такому привидеться! Голый, на тумбе, наподобие ущербной садовой скульптуры, пытающейся прикрыть ладонью упругий комок плоти с драгоценными генами. Вторая серия сновидений? Едва прихлопул будильник, как снова забрал в когтистые объятия сон, уплотняющий время, умудряющийся вместить уйму слов и движущихся картин в ничтожный промежуток меж двумя позициями минутной стрелки, – картин, восстанавливающих развалившийся было чудо-перекрёсток, и слов, продолжающих поспешно прерванную коротышкой в круглых очках беседу, которая потекла теперь по другому руслу.
Сначала беседа потопталась на том же месте. «Илья… ээ-э-э-э, – блеял, будто бы и не уходил, коротышка, выдавливая на отвислой щеке жировик, – вот вы, молодой ещё человек, серьёзный, целеустремлённый и не без искры, да-да, – заискивающе заглядывая в глаза, тараторил, – да-да, я всегда так считал и всем, кому следует, это говорил, хотя однажды, признайтесь, что-то вас потянуло в сторону… Нежданное легкомыслие? Наврали безбожно расстояние между карнизными модульонами, а что бы стоило приложить рулеточку и записать правильное число на бумаге. И что вас тогда отвлекло на лесах соборного портика? Может, роман закрутился? Ослепила какая-нибудь красотка? Ну я шучу, шучу, хотя и не слыву остряком, да к случаю вышло, перестаньте дичиться, ну и бука! Что, скребут на душе кошки? – спросил металлически резко и зашипел: —И без нашей с вами претенциозности всё сущее истолкуется и пространственно, и вербально, и, разумеется, красками, звуками, которые сохранят после нас картины и нотная бумага. Хе-хе, город теперь – точно склад готовой продукции домостроительного главка? Бесподобно! И хлёстко, конечно, только зачем вам негодующий тон? Разве не является “склад” тем самым пространственным истолкованием сути социализма, ясным и правдивым, хотя на взгляд одарённого юноши – тотально-скучным, как сплошная казарма? Но почему бы вам не сделать ещё один шаг к пониманию: разве строго функциональный казарменный быт не нуждается в оформлении? И заметьте, не обращая внимания на то, что я повторяюсь: без нас с вами, интерпретаторов-толкователей, обошлись, оформили на славу, хотя и нашими руками и теориями воспользовались, такова се ля ви, как невозмутимо сокрушаются англичане, теряющие, между прочим, с точки зрения былого колониально-имперского величия, позицию за позицией. Зарубите себе на носу: личности больше не нужны, много о себе мнят, порываясь сопли утереть коллективу, ищут себе голгофу покруче, взваливают, не спросясь, всю тяжесть мира на хилые свои плечи. И держат фигу в кармане! Поганые пасквилянты! Стряпают злобные поклёпы на то, что у нормальных граждан вызывает чувство законной гордости! Не допустим! Защитим завоевания! Сгноим!!! Калёным железом выжжем!!! На худой конец, выдворим!!! Хе-хе, струхнули? С вас фант, с вас фант, – приговаривал, то приседая на корточки, то прыгая на одной ножке, смешно обхватывая ручонкой другую. – Ну-ну, полно, что вы снова заелозили на своей тумбе? Я, конечно, опять пошутил, на сей раз, может быть, особенно неудачно, да ещё используя зубодробильную риторику Агитпропа. Пардон, пардон, однако же подумайте сами – что с вас возьмёшь, гол как сокол, а если бы и одеты были, то какой там фант, какая фига, карманы, наверное, и те дырявые, мелочь просыпается за подкладку. Ох, горе моё, как я хочу вам помочь! Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф, – снова зачастил Пиля и, продолжая паясничать, припал к плечу Соснина, выдавил из-под очков пыльные слёзы. Как же вам помочь, какое отыскать для вас достойное дело? Или хобби – хобби лучше звучит, современнее? Что бы этакое в меру новаторское выдумать, а? Как же нам с вами сломать традицию и не выйти за границы дозволенного, а?
Вот задача… – тяжело задышал, выплеснул бесцветный язык в чёрных язвочках, точно липучую ленту с мухами. И тут же лихо, молодцевато, как в твисте, присев и крутанув задом, с лёгкостью брюхатой свиньи напрыгнул на крыло самосвала, уселся, болтая не достающими до асфальта ножками. – И что за неаппетитные гетеры толкутся на этом углу у кофейни с неофициально присвоенным молвой вьетнамским названием! Хотя позвольте, ах, ах, снова пардон, зрение слабеет, старость не радость, это ведь совсем не тот угол, и что меня второй раз на него потянуло? И знаете, мне всё кажется, что я… – как школьник с перил, скатился с крыла самосвала на ягодице, фатовато оглянулся и, набычив шею, передразнивая акробата, завершившего коронный трюк, развёл ручки, стал кланяться, вдохновляя публику на овацию. – Я вам уже с три короба насоветовал, но ещё посоветую, если за перо возьмётесь, писать без замаха на что-то грандиозное, эпохальное. Напишите что-нибудь лёгкое, короткое, попробуйте. Зная вас, как облупленного, скажу откровенно, без обиняков, так, как может сказать только старый друг, который очень долго и внимательно за вами следил или, точнее, курировал: напишите-ка про украшение жизни – женщин, очаровательных, приятных во всех отношениях, выберите на свой вкус, добавьте зеркальные залы в бронзовых завитках, зелёные насаждения, водную гладь. Ах, были когда-то и мы рысаками. Ах, молодость: чёрные узорчатые чулки, абрикосовая помада, чарльстон… Как славно-то! Трогательно! Может быть, даже сногсшибательно! Знаете ли, надо попробовать, отвлечься от дум, а не сваливать духовное бессилие на общественные утеснения. Мечтателю обычно претит роль кумира толпы, он замыкается в избранном кругу родственных душ, и он, этот круг, сужается до тех пор, пока в нём не сохранится лишь одна душа, принадлежащая ему самому. Да уж, смех и грех: вы в непригляднейшем голом виде – в центре внимания, ещё бы, на Невском, на Броде то есть, где все вылупились на вас, как на единственного героя! А гложет-то вас чувство потерянности. И, – брезгливо шмыгнув, втянул бензиновые испарения ноздрями, – мечтаете об озонаторе? Думаете, как бы разрядить спёртую атмосферу? Ба: у вас же нет выбора, здесь нет, и там, за океаном, если решитесь дать дёру, тоже не будет, учтите: соблазн XX века – тотальное сплочение, сотрудничество, радостная необходимость припадать к общественной машине, дышать её выхлопами. Ей-богу, это ещё и безопасное, простите за грубость, общедоступное счастье – стать в ряд, образовать шеренги. Взрывы энтузиазма, шествия от победы к победе глупо было бы игнорировать, хе-хе, испытав экстаз, и строятся в ряды, разворачивая знамёна веры, ради которой готовы занести меч, пустить кровь, бросить неугодных под колёса исторического локомотива… Хе-хе, остаются лишь головы угодных, и множество ног маршируют к цели. Хе-хе: грядущее! Будущее! Совсем смешно! Запомните: вы не гордая личность, прозревающая мировые перспективы, даже не пигмей в татуировке и перьях, а рабская клеточка неуклюжего и злобного механизма, и пока вы дышите, хотя и матерясь, этой вонью, пока вкалываете, хотя и ругая оскорбительно низкий КПД, на государственную машину, вы остаётесь ему полезным. И почему вы слушаете меня с таким безразличием, будто спите? У меня плохой слог? Я, конечно, говорю сумбурно, может быть, вычурно, сам себе то и дело противоречу. Но смилуйтесь, я же хочу быть современным, амбивалентным, хочу учесть карнавализацию, моду на смеховую культуру, замешанную на серьёзности, если проще – дай бог память, – на мениппею, я хочу перейти в свою противоположность, хочу извернуться, уместив многоголосье и многоглазье в одном голосе и одном взгляде. К тому же это экспромт, мне бы время на подготовку – я показал бы товар лицом, украсил бирюльками. А, понял, понял – вам, выходцу из подполья, претят чужие сознания, вам и моё-то сознание нужно только затем, чтобы ловить в нём свои бесценные отражения! Ну и ловите, ловите, – обиженно прохныкал, затем зевнул, прикрывая рот пухлой ладошкой, и подал какой-то знак со щелчком пальцем, напоминающий жест ресторанного завсегдатая, подзывающего гарсона. С проезжавшей мимо мотоциклетки с цистерной на прицепе ему протянули кружку ржавого кваса, он успел кинуть медь в мокрую тарелку с отбитым краем.
Продрогли? Ветер каверзно напоён инфлуэнцией… Балтика – от неё жди насморка с гриппом. А я, к слову сказать, листал недавно польский иллюстрированный журнал, каюсь, каюсь, у внука стащил из любопытства, так вот, мужская мода преобразилась, знаменитые фирмы взялись за дело: линии! Вам бы те фасончики подошли, поверьте, – плавно ниспадают цвета беж брюки, шоколадный пиджачный верх, рубаха апаш и шейный оливковый платок из шёлка в горошек. Увы, обнажившись, вы продрогли, покрылись гусиной кожей, а ведь это лишь толика творческих мук – ждите, ждите, пока накроет горячей волной вдохновение. О, искусство зачинается искусом, не так ли? Для разогрева вдохновения вам нужен толчок чего-то необъяснимого, соблазнительно-отвратительного? Хе-хе-хе-хе, вот и я, друг-наставник-куратор, «агент нечистой силы», то есть искуситель, как сейчас вы в сердцах подумали, тут как тут, к вашим услугам, – грохнул о капот машины пустой кружкой, – эх-хе-хе, толчок как кнут? Да, я по дьявольской традиции пока напустил тумана, но как же иначе, без кнута, вас усадить за письменный стол?
Только не нафантазируйте ради бога лишнего, судьбоносные встречи с нечистой силой случаются только в великих романах, а мы с вами, не один пуд соли съевшие, знаем: в антирелигиозной среде нет места ни богу, ни чёрту. Всесильное благодаря своей верности учение выстроило великую и бесконечную духовную пустоту, всё расчищено для новой нравственности, мы ждем её с минуты на минуту или – между нами, – как шутят в курилке Госплана, с пятилетки на пятилетку. А вы тем временем… опускаетесь ниже и ниже в преисподнюю, уже по щиколотку опустились, а там, внизу, жуть покинутости и запустения: факелы давно погасли, остались лишь полуистлевшие саркофаги великих, да – затхлость, копоть на сводах. И зачем вам блуждать по заброшенным катакомбам, где сам чёрт ногу сломит? Ну не дуйтесь, не содрогайтесь, опять пошутил, и опять – себе же противореча: если нет ни бога, ни чёрта, то и я переквалифицировался, я уже посланец банальности, предостерегающей от всяческих возвышенностей, моя цель – разъяснить новые правила игры, выгодные всем сразу и спасительные для тех, кто устал от психологически непродуктивных иллюзий и не желает расшибать лоб о стену, ограждающую наше суетное время от вечности. Но об этом, как вы понимаете, не на ходу.
Из вечности, будто бы из чёрной сырой дыры, понесло холодом, и, натягивая одеяло, услышал: решайтесь… «Усадить за письменный стол», – вернулось эхо. Но зачем садиться за письменный стол, чего ради? Искуситель напустил тумана, а всего-то, наверное, взбесились нейроны, запутались нейронные сети. Вот мысли и обрываются, будто бы замещаются многоточиями…
Хм: художник, решайся? И если всё-таки вообразить, что уселся он за письменный стол… О многом умолчать, но сказать что-то важное, пусть сбивчиво, но рассказать, досказать, пересказать, подсказать, высказать; собрать несколько картин, может быть – движущихся? Триптих?! А что, идея! Сплочённые одной рамой три мажорных автопортрета с тремя разными Саскиями…
Как-то приехали с Лерой на дачу к её подруге. Бродили по лесу, валялись в траве, пока не загнал под крышу короткий, солнечно-проливной – грибной? Слепой? – дождь. Поднялись по крутой лесенке в обшитую проолифленными сосновыми рейками мансарду, в скошенном потолке – приоткрытое оконце раструбом, за ним сквозь бьющее в глаза солнце покачивается сосновая ветка, на кончике каждой иголки – хрусталик капли, под оконцем – узкая железная кровать с розовым покрывалом, столик, литровая банка с водой и ромашками, колченогий, рассохшийся венский стул.
– Эта светёлка создана для греха, – протянул Соснин, глядя на грядки, от которых валил пар.
– Что же ты медлишь, растяпа? – рассмеялась Лера, высыпав из кулька землянику на блюдце. – Нас скоро позовут вниз, к обеду.
– Боюсь скомкать ритуал раздевания.
– Искусство требует жертв, но сегодня, – решительно стянула через голову сарафан, – мы жертвуем самим искусством…
А еще: Вильнюс, Кира – ноги в воде, туфли с каблуками-гвоздиками на траве, у струящейся мимо костёла бернандинцев речушки – жуёт булку; Кира в розовом на зелёном откосе берега, меж одуванчиками в пуховых беретиках… И – не удивительно ли цветовое совпадение? – розовое с зелёным в овальной рамке, чуть выпуклая финифтяная, с иголкой, пересекающей изнаночную, чуть вогнутую сторону, брошь, которую, прощаясь, подарил Лине…
На каком-нибудь нейтральном мгновении оборвать? Сначала подбирал к несуществующему тексту эпиграф, теперь тексту, всё ещё несуществующему, конец подыскивает. Так. Последняя (как и первая) фраза – камертон, их (незаменимые фразы) тоже трудно будет найти, но ещё есть время, а пока только дразняще звук замирает – будто вальс играли, хотя бы и штраусовский, «Прощание с Петербургом», и…
Стоп: красный свет, нет, не вальс… не нужна плавность, слезливость. Так, зелёный: оборвать надо резко, не оборвать даже, а отрубить если и не с садистской жёсткостью, то отстранённо, как если бы палач машинально опустил гильотину… Вспомнился тёмно-серый фасад с простодушно прижимающими к животам цементные букетики роз амурами на променаде; ему бы, окаменевшему тому променаду вдоль Мойки, продлиться, хотя бы до угла Гороховой дотянуть, но – срез брандмауэра, и зависает над пропастью карниз с амурами…
Вот, кажется, и поток, расставаясь с хором внутренних голосов, усмехнулся Соснин. Записать бы весь этот бред… И что за назойливое желание – записать, записать, записать?..
Средовая сумятица как образ душевной смуты?
Но можно ли мелькания записать? Мелькания ведь не снаружи – внутри…
И что получится, если всё-таки записать?
«Пережитое в предвиденьи и наяву».
Так-так: пережитое – в предвиденьи; «пережитое» – прошлое, «в предвиденьи» – прошлое, преображённое в будущее?
Предвиденье – сон, вещий сон?
А «наяву» – пробуждение; уже – в будущем?
Предвиденье – прорыв в будущее как сонм неясностей?
Разброс мыслей, эпизодов, спонтанная склейка их, концентрация – густой хаос осколочных картинок-шифровок. Крошево вместо мировоззрения?
Тайные подоплёки устремлений, которые останется ему преобразить и положить на бумагу?
Что-то случится, и он – положит на бумагу, положит на бумагу, положит на бумагу…
Что за подначка с утра пораньше? Не эту ли навязчивую идею внушал ему во сне, напуская туман, «агент нечистой силы»?
Ещё раз: одолевая (и отражая) хаос, положить на бумагу смешанные чувства и скачущие с пятого на десятое мысли?
Вдруг испытал прилив бодрости, прибавил шаг. Какое-то чувство готовности овладевало им; не понимал только, готовности – к чему?
К тому загадочному, что ждало…
Странно… Что могло ждать? Вот, середина семидесятых, а так хочется не замечать этого густого и душного времени с его тупыми эксцессами, этого соцреализма в кандалах, этой придавливающей поседневности с её «жизненной правдой» и единственным выходом по Высоцкому: «И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перепились».
И шагнув от общего к частному: всего несколько минут ходьбы пришлось на эти мелькания-соображения, а сколько понадобилось бы слов, медлительной гусеницей ползущих строчек, чтобы дождаться, пока окуклится и – выпорхнет бабочка?
Его толкнули, потом ещё, ещё, толпа понесла, машинально сунул пятак в щель автомата, застыл на эскалаторе.
Со стуком сомкнулись двери вагона.
Запрессованный в сгустке тел Соснин изловчился и, удачливо ухватившись за хромированную штангу, закачался вместе с попутчиками, уставился равнодушно в дрожащее на бегущих рёбрах тюбингов отражение хмурых, невыспавшихся лиц в чёрном оконном стекле.
И вдруг…
Вспыхнул цветной слайд: берег с одуванчиками, Кира, опустившая ноги в воду…
И сразу на милый пейзажик наложилась какая-то возбуждённая толчея; увидел вживую Леру – окликнула, помахала рукой.
А он, залюбовавшись Лерой, как бы доканчивал утренние размышления свои: Лина сейчас подлетает к Вильнюсу, стюардесса предупредит, погода хорошая, здесь радуга, наверное, и там светлый прозрачный день, всё отлично видно внизу – башня Гедиминаса, бесчисленные ангелы над кровлями бесчисленных костёлов, Лина вспомнит – почему нет?
Имея цель, не обязательно терять память.
5. Лера
Большая профессорская квартира на последнем этаже в те дни принадлежала лишь им двоим: мать – на даче в Зеленогорске, брат – на студенческой практике в Тюмени.
Впервые появившись в её квартире, как, впрочем, и позже, при последующих визитах – рефлекторно? – кидался к высоким арочным окнам в затянутой густо-красной, с блёстками, тканью гостиной.
Напротив, словно вплотную, как если бы между собором и фасадом дома исчезла воздушная прослойка, громоздился литой торс Исаакия, надавливая на глаза фронтоном портика, западного.
Геометрия же всего, что выше, подчинялась капризу ракурса: золотой панцирь купола и даже ротонду искажал взгляд, мощные и будто бы незнакомые от кадрировки в оконной раме, будто бы преувеличенные проёмом-линзой формы косо уходили ввысь и, окунувшись в небо, где-то там завершались.
А прямо перед глазами – треугольник фронтона с когда-то собственноручно обмеренными модульонами (модульоны вблизи были неправдоподобно большими) и надписью по фризу: «Царю царствующих»; если же глянуть из окна вниз – к стилобату с циклопическими ступенями уходили, слегка сужаясь в перспективе, смугло-розовые, лоснившиеся, как ноги колоссов, стволы гранитных колонн.
Ступенчатый стилобат собора медленно, словно осторожничая, огибал синий троллейбус…
Так и не насытившись каменным зрелищем – столкнулись-таки снова лицом к лицу! – он неохотно отлипал от окна, сопропровождаемый боем часов, шёл в просторную, с большим овальным столом и старинным резным буфетом кухню, где она (назову её Лера) уже успела достать из холодильника зернистую икру, масло, помидоры, листья салата…
Вот и мельхиоровые ножи-вилки, тонкие фарфоровые тарелки с золотым кантом и – разумеется, баккара! – две пузатые рюмки. Оставалось только откупорить бутылку принесённого им и так любимого ею пятизвёздочного армянского коньяка.
Они по-домашнему, быстро и весело ужинали, но внешне – причёска, французская косметика, яркое блестящее платье, массивный браслет из чернёного серебра, ожерелье – Лера напоминала гостью дорогого и всегда модного ресторана, «Астории» например, чья неоновая реклама как раз зажигалась в белёсо гаснувшем небе – световая судорога пробегала по стеклянным трубчатым буквам, зависшим над горбатой железной крышей.
Утолив голод, с недопитой бутылкой шли в красную гостиную, по нынешним меркам даже не гостиную – залу с лепным карнизом, ветвистой люстрой из тёмной бронзы, тяжёлой мебелью, громоздкими часами с золотым маятником, бордовыми бархатными портьерами по сторонам высоких арочных окон и выбившейся из-под монументального бархата, парящей, планирующей, кувыркающейся на сквозняке тюлевой занавеской одного из окон, которую заманивали в полёт серенады летнего города, но которая, так и не вырвавшись на волю, обессилев, повисала за окном белым флагом…
Тем временем они торопливо раздевались, разбрасывая одежды свои по полу, спинкам кресел; развинчивались тугие замки браслета и ожерелья, как включённое реле, щёлкала последняя застёжка, а белые, в россыпи нежно-голубых незабудок трусики летели на массивный, точно колода для разрубки мясных туш, кожаный пуф. Впрочем, свалки из нарядов своих они уже не видели, весь этот тряпичный ералаш просто не существовал, так как они были уже в углу гостиной, за малиновой, из китайского шёлка, ширмой, своими ломаными плоскостями вырезавшей из большущей гостиной любовную капсулу с низкой деревянной кроватью – уютное в своей декоративной замкнутости, необходимое и достаточное им сейчас жизненное пространство.
Когда Лера внезапно, будто разом лопались все струны желания, затихала после рыданий счастья, Соснин, скатившись на спину, лениво разглядывал поверх ширмы упругие дуги окон, струящийся неверный свет белой ночи, плавно скользящие по высокому потолку сиреневатые тени, которые, постепенно размываясь, вливались в окутывающий люстру сумрак.
Иногда же любовный взрыв выбрасывал из пекла постели, его, невесомого, подхватывали прохладные воздушные потоки, нежно покачивали над площадью, как если бы под ним была та самая тюлевая занавеска. Бом-бом – ударяли, как казалось, где-то за пепельным оконным проёмом, часы. Для кого старались они? Несколько парочек, спасшихся от поливальной машины на островке партерного сквера, ничего не слышали и не видели, сидя в обнимку на длинных скамейках, а он одиноко облетал собор над чёрным мокрым асфальтом и крышами погружённого в сновидения города. Лишь однажды, глубокой ночью, когда часы пробили три раза, приоткрыл глаза и увидел потешную фигурку – этакого головастика в огромных очках-фарах, – которая, вспугнув стаю летучих мышей и сама сделавшись похожей на летучую мышь, рискованно зацепилась за карниз соборного портика, измеряя лентой металлической рулетки расстояние между модульонами…
Но тут воздушная зыбь перехлестнула умбристый ломкий горизонт крыш – неожиданно взлетев на гребень волны, увидел за силуэтом собора тускло отблескивавшую ширь Невы.
– Ну как, насладился, – очнувшись от обморока, спрашивала почему-то с утвердительной интонацией Лера и, не дожидаясь ответа, зажигала ночник.
И декорации преображались: освещался ближайший угол сцены, а заоконные мерцания, вкрадчивая игра теней вытеснялись за ярчайшую шёлковую преграду. Соснин и Лера оказывались внутри вспыхнувшего малинового фонарика, на абажуре которого оживали китаянки в кимоно с веерами и зонтиками, на фоне многоярусной, как стопка шляп с загнутыми кверху полями, пагоды.
Лера, ценившая любовный ритуал, очевидно, в интересах единства стиля тоже надевала висевшее на невидимой грани ширмы чёрное, заросшее голубыми хризантемами кимоно, с любопытством заглядывая в маленькое круглое зеркальце (то?), принималась прихорашиваться, взбивать причёску и даже опрыскивать тёмно-каштановое облако волос душистым лаком из портативного, наподобие ронсоновской зажигалки, пульверизатора. И отодвигалась ширма, на просторах гостиной ритуал вступал в новую фазу – расслабленно пили маленькими глотками коньяк, утопая в глубоких креслах у открытого, дышавшего ночной прохладой окна. Лера ставила рюмку на подоконник, тянулась, жмурилась от удовольствия и, поджав ноги, сворачивалась в кресле калачиком, а он, разрушая только что вылепленную причёску, благодарно и в то же время снисходительно гладил и теребил её волосы, рассматривая – не мог оторваться – настенную фотографию. Почему-то не сразу её заметил: Лера-школьница с длинными косами, в белом переднике, наверное, в день экзамена, у распахнутого окна, вот этого: слева, выбившись из-под тяжёлой складки портьеры, пыжится занавеска, справа, за плечом Леры, – залитый скользяще-боковым солнцем портик собора, обстроенный лесами; на лесах – несколько фигурок. А она – шести- или семиклассница?
Не в тот ли день сфотографировали её, когда она его ослепила?
Да, баловалась с зеркальцем, да, солнечный зайчик, да-да, совпадений было более чем достаточно…
Лера тянулась к рюмке; бом-м-м, бом-м, бом-м – как всегда внезапно ударяли часы. Проголодавшись, набрасывались на остатки еды, опять, словно вспомнив о чём-то важном, торопливо возвращались за ширму. Занимался рассвет, шатаясь, как сомнамбулы, натыкаясь на стулья и косяки дверей, они шлёпали анфиладой комнат в ванную, стояли, закрыв глаза, под пронзавшим раскалёнными иглами душем, смывали терпкий запах духов и пота, потом падали в сон.
У каждой индивидуальной судьбы свои, до поры до времени не прояснённые цели; поди-ка разберись, что их сблизило?
Соснин и Лера, до курьёзного не подходили друг другу. Помимо визуальной загадочности – вроде той, что позже окутывала Соснина и Киру – союз с Лерой был ещё и демонстрацией их внутренней несовместимости и, разумеется, разнонаправленных стилей жизни.
Соснин и сам понимал, что близость их скоротечна и эфемерна, как порхание бабочки или цветение пряного, тропического растения. Точнее, Лерино цветение, Лерино порхание, наверное, будут длиться, дурманить, кружить головы каких-то других счастливцев, а с него, может быть, хватит? Ощущая мимолётность экзотического приключения, Соснин не боялся скорого его окончания, ибо, жадно вдыхая концентрированный аромат благовоний, ощущал также нарастающую потребность лёгких в естественном, из кислорода с азотом, воздухе.
Стоило, однако, вернуться к началу.
Точно неотразимый ловелас, записывая на пятой минуте знакомства в коленце коридора её телефон и адрес, он, разумеется, сразу понял, что живёт она как раз напротив собора, что встреча их давно подготовлена – судьба лишь ждала часа? Перегруппировались звёзды, жизненные траектории пересеклись в заданной точке, у собора. «Любить иных – тяжёлый крест, – бубнил Соснил, – а ты прекрасна без извилин… Редкий экземпляр, ярчайший».
Ослепительная Лера и…
Что и говорить – нелепый союз.
Он был на несколько лет её старше, подавал надежды, ему прочили профессиональный успех, может быть, даже славу, но выглядел щуплым мальчиком – так, что-то среднее между выпускником школы и студентом: узколицый, со странно асимметричной причёской, одет, как уже говорилось, не модно, почти небрежно: мятые брюки, ковбойка, курточка, бумажный, растянувшийся на локтях свитер.
И – прекрасная Лера, всегда нарядная, избалованная роскошью.
Её раннее замужество быстро оборвалось. Лера ценила в институте брака только медовый месяц; её муж-гроссмейстер – да-да, самый настоящий гроссмейстер, не выдуманный – был восходящей звездой. Однако спортивной закалки ему, видимо, не хватило: на важном отборочном турнире, начавшемся, как назло, тотчас после свадьбы, он попадал в цейтноты, по ночам ему звонили секунданты, он долго, на каком-то птичьем языке обсуждал с ними отложенную позицию, игра явно не клеилась, Лера закипала – не могла и не хотела понять, почему надо из-за такой чепухи звонить по ночам?
Да, в их браке даже медовый месяц не задался! Новоиспечённому супругу пришлось второпях ретироваться, заставила его сделать рокировку, похохатывала запомнившая несколько ходких словечек Лера; впрочем, мы несколько отвлеклись.
Она была дорого и ярко одетой молодой дамой; если ухватиться за поверхностную аналогию – вычурно-сложно раскрашенной бабочкой. Меняющие форму и цвет причёски со скульптурными локонами на затылке и на висках, серебряным (чаще, чем синим или зелёным) макияжем век, румянами на скулах… А блестящие тафтовые складки, а плетёные туфли на нереально тонких шпильках, а кожаные сумки с эффектными золотыми пряжками, вышитые бисером кошельки, фантастические по тем скудным временам защитные, в черепаховой оправе очки, сферы которых, когда Соснин в них заглядывал, словно кривые зеркала, шаржировали лицо, фигуру – ну да, знай своё место, не зарывайся…
Цветовые и фактурные излишества и диссонансы, однако, ничего в облике Леры не разрушали, напротив – складывались в неожиданную гармонию, выражая её импульсивный, безалаберно-страстный характер и безудержный темперамент.
И еще духи («Шанели № 5» недоставало пряности, Лера предпочитала «Фиджи»!), малиновая, гладко ложащаяся на полные губы помада, идеальный персиковый цвет лица, здоровая бархатистая кожа, холёные руки, волнующий грудной голос.
Не только на свидание, но и на службу Лера одевалась так тщательно, будто отправлялась на какой-то важный, единственный в своём роде банкет.
Странно, конечно, что она вообще ходила на службу, но щупальца эмансипации обхватили и её. Лере вручили инженерный (!) диплом, распределили, однако и в рутине проектной конторы она нашла источник для удовольствий, заключив с конторским бытом взаимовыгодную конвенцию: вырядившись, ей удавалось ежедневно покрасоваться, кого-то покорить, поймать восхищённые взгляды; каждое её явление на службу было ещё и чисто гуманной акцией – сослуживцы жаждали зрелища, и она с царственной щедростью утоляла это желание.
Неудивительно поэтому, что Лера и не пыталась приспособиться к казённому интерьеру, она не знала разделения на карнавальное и будничное, она сама карнавал олицетворяла. В его кипение и затянулся, обварившись, Соснин.
Её облик настолько контрастировал с пуритански утончёнными в ту пору вкусами Соснина, настолько противоречил его идеалу небрежно-элегантной, чуть чокнутой, с налётом богемы женщины, что он, словно попав в сильное магнитное поле, неожиданно для себя и, наверное, из любопытства к ней потянулся, и тут же захотел увидеть её без мишуры, обнажённой. Внезапно осмелев, первым заговорил с ней в закутке коридора с закатанными серой масляной краской панелями стен.
На Лере в день знакомства было зелёное платье с глубоким вырезом, в который идеально вписывалось ожерелье; был ещё и массивный серебряный браслет с изумрудными камушками, а в ячейках ажурно выплетенных босоножек выделялись алые лепестки педикюра.
До чего же легкомысленным и весёлым получилось знакомство!
Как только, оттолкнувшись от печки, похвалил её туалет и ввязался в словесный танец, она ободряюще улыбнулась, а в журчании её голоса Соснин ощутил переполнявшие её желания и силы жизни. Внушительная и чуткая грудь медленно поднималась и опускалась, послушная ритму дыхания. Рассказывая Лере о жёлто-зелёных попугаях, которые живут около трёхсот лет, он почему-то испытал фантастическое торможение времени. Такого с ним ещё не случалось: время замерло, будто ожидалось что-то невероятное, и Соснину ничего другого не оставалось, как заполнить по своему усмотрению эту втиснувшуюся в ход вещей аморфную паузу; время стояло, он решил поинтересоваться пикантными деталями и, пока она заливалась смехом, заглянул в треугольную картинку, образованную вырезом платья и узорами ожерелья, и двинулся по узкой и глубокой расщелинке между нежными мерно вздымающимися куполами. Вскоре, однако, любопытство, остановленное плотиной дорогой ткани, было вынуждено продвигаться далее мысленно, предвкушая по пути приключения натурального путешествия и представляя заодно, как с нарочитой медлительностью будет вскоре выводиться слегка дрожащей рукой каждая буковка, когда он примется записывать её телефон и адрес.
– У уникальных попугаев незавидная судьба, – импровизировал Соснии, слегка поворачивая торчащую из стены решётчатую металлическую каретку с пупырчатым пожарным шлангом, свернувшимся в ней выпотрошенным питоном. – Рекордное для фауны долголетие попугаев, их практическое бессмертие, обуславливает смену ими многих хозяев, мрущих как мухи, вследствие чего в памяти попугаев откладывается так много всякой всячины, что на старости лет, смешивая языки и жаргоны, бедные птицы несут отчаянную тарабарщину.
– Это что-то наподобие эсперанто?
– Да, да, точное сравнение, – с готовностью прикинулся простаком, – хотя, пожалуй, не совсем точное, – он уже как бы логично размышлял вслух, озабоченно хмуря лоб, пока её душил смех. – В основе эсперанто лежат закономерности, которые нетрудно постигнуть, попугаи же, копировавшие всю долгую жизнь высказывания разных хозяев, в пору зрелости владеют уже таким количеством языков, диалектов, жаргонов, что избыточность лингвистической эрудиции, выражающейся в беспорядочном потоке слов, сливавшемся в шум, из которого, по правде сказать, нелегко извлечь смысл, сравнима, по сути, с утратой речи. Многих из птиц, – выкручивался, как мог, – можно, пусть и с натяжкой, назвать специфически образованными, однако их хозяева, люди, являющиеся, как и все люди, существами самонадеянными, попросту не принимают их всерьёз или не без ревности к ним относятся, ибо сами двух слов зачастую связать не могут, считают болтливых пернатых назойливыми и даже вредными бестиями, завидуя, конечно, втайне их декоративно-яркому, – «Как у меня?» – подыграла Лера, – оперению.
– Иное дело бабочки, – продолжал Соснин, поворачивая каретку с брезентовым шлангом и брандспойтом таким образом, чтобы нацелить стреловидный наконечник брандспойта в Лерино сердце – вооружён и очень опасен? Хохот. – Трепещите! – хохот. – Их яркость и красота радуют глаз, ни на что не претендуя, и люди, не чувствуя себя обойдёнными, относятся к ним – немым, лишь порхающим – вполне благосклонно и часто коллекционируют, дабы испытывать эстетическое наслаждение, – и тут, перескочив нетерпеливым взглядом стягивающий талию красный кушак, понял, что заинтересовавшая его в ландшафте бюста линия вместе с прочими соблазнами сейчас потеряется, стекая под одеждами в несколько самоуверенный таз, который поддерживали по-балетному крепкие и, очевидно, из-за перспективного искажения, чуть недобравшие в длине ноги, имевшие к тому же, если быть придирчивым, излишне подчёркнутый энтазис голени. Детали сложились, а она уже собралась произнести название улицы и номер дома. Он оставил в покое шланг с брандспойтом и, держа авторучку наготове и склонив голову к записной книжке, прежде чем услышать адрес, увидел чьи-то промелькнувшие мимо начищенные до блеска штиблеты. Когда же штиблеты, расползаясь, точно на льду, скрылись за коленом коридора, почувствовал, как по волосам горячим феном пробежало её дыхание. И снова кто-то взлохмаченный, возбуждённо споря с преследователем, пронёсся мимо, а тот, кто пытался догнать, на повороте смешно раскинул руки, будто бы делая ласточку; носятся тут все кому не лень, даже не поговорить…
– Как же определяют возраст попугаев?
– О, это исключительное искусство, породнившее лингвистику с криминалистикой и прогнозированием. Владеющие этим комплексным искусством очень хорошо зарабатывают. Здесь необходим особый талант аналитического толкователя упомянутого мной «шума». Некоторые из самых продвинутых аналитиков – высший пилотаж! – по уровню засорённости архаизмами и неологизмами птичьей речи определяют возраст с точностью до полугода, неудивительно, что каждое слово представителей этой редчайшей профессии на вес золота…
Когда адрес был уже ему известен, он, ошеломлённый, как баран, глазел на новые ворота, которые ему предстояло отворить, чтобы начать дивное путешествие. Может быть, уже сегодня вечером он, с букетом цветов в руке и бутылкой армянского коньяка (угадал её вкус) в наплечной сумке, позвонит в эти символические ворота, чтобы осушить поцелуем её влажные ароматизированные губы, а пока, усмиряя суету сердца, он вновь стал медленно спускаться взглядом по колышущейся под ярко-зелёной тканью груди. За спиной без умолку хлопала дверь в уборную, топоча и вприпрыжку пробегали какие-то люди, а ему, склонному к преувеличениям, чудилось, что это судьба демаскировалась и шумно ускорила вдруг свои вкрадчивые шаги. Удивительное совпадение: судя по адресу, это явно был тот самый дом напротив западного портика собора, и не исключено, что квартира была на последнем этаже. Да, такое не зря случается, но часы уже шли с нормальной скоростью, он дописывал последнюю цифру телефонного номера, которая оказалась удачливой для него семёркой, и некогда было размышлять, осторожничать. Он на подъёме, фонтанировали идеи, столько замыслов, планов – его ждало напряжённое, счастливое восхождение на Олимп, он многое знал, ещё больше – мог; всё впереди, ему нет тридцати, Лере – двадцать шесть, время надежд.
Итак, он записал её адрес – да, чудо случилось: судьба поселила Леру напротив собора.
А он, записав адрес, повысил самооценку?
И разве удивительно, что если бы его угораздило вдруг подумать о будущем, то предстоящие годы нарисовались бы ему вдохновляюще-красочными, успешными. Всё действительно было впереди, варьировались лишь контрапункты жизни. Ему суждено было выиграть грандиозный конкурс на перепланировку Манхэттена (85 % сноса) – предложил хитроумный способ обуздания хаоса; после хирургической операции умирающему от транспортного удушья городу действительно светило счастливое обновление. Но, конечно, не обошлось без ненужной шумихи – устроили в его честь трамтарарам. Кипя от ярости, он вынужден был всё же согласиться на весёлое шествие с оркестром по обречённому Бродвею, ведомое голенастой девицей тамбур-мажором, пришлось отбыть важные аудиенции, прочесть пару-другую кратких (кипяток идей) докладов с иллюстрациями на экране и рисунками на грифельной доске, быстро стиравшимися, к немому ужасу аудитории, нейлоновой губкой, и лишь после всей этой кутерьмы отплыть на яхте, оборудованной сверхчуткими к качке стабилизаторами, на какие-то экзотичные острова. И вот загорелый, отдохнувший, он уже возвращался в Европу. Сразу за меловыми утёсами Дувра или подальше, в Шотландских угодьях, ждал реконструированный по его эскизу воздушный замок, в красно-кирпичные с белокаменными углами, с вкраплениями плюща и мха стены которого, рядом с гнездом аиста, был органично встроен текучей формы объём, завершённый покрытием с похожими на облагороженные шеды стеклянными всплесками. Под ними, изливающими свет, так приятно будет расчерчивать острым карандашом ватман, или, легко взбежав на антресоль, задумчиво испытывать взглядом раскиданные в зелени синтетического ковра макетные города, или раскуривать сигаретку перед узким оконцем – когда же он стал курящим? – слушая доносимые ветром голоса детей, запускающих на лугу змея с хвостом из мочалки, или ловить едва различимый напев охотничьего рожка – разгар фазаньей охоты, по опушке как раз прогарцевали всадники в алых жакетах. После трудов праведных он предпочитал поскакать верхом, проплыть в темпе метров триста-четыреста, чтобы, выбравшись из бассейна, закутавшись в белый махровый халат до пят, набрасывать в блокноте программу встреч и работ на завтра. У него были оригинальные соображения относительно судьбы исторических центров, нуждавшихся в переливании крови; он опасался, что поклонение культурным святыням было чревато параличом творческой воли; веря в силу пространственных преобразований жизни, был принципиальным противником консервации и, не собираясь трубить об этом на всех перекрестках, готовил – увы, много медленнее, чем ему бы хотелось, – проект объёмно-пространственного развития Невского проспекта по вертикали, гвоздём которого могли бы стать сияющие небесными отражениями грани новейших домов, парящие в возвышении по обе стороны от традиционно раскрашенного фронта эклектичных фасадов, сохранённых – главный козырь! – в своём первозданном облике.
О, после того как он побывал в алькове за китайской ширмой, фантазия его и вовсе не знала удержу!
Это надо было бы видеть!
Из глубины расчищенных кое-где дворов, на втором плане – за фронтом фасадов и с вполне деликатным отступом от выполненных в штукатурке по дранке эклектичных реликвий – должны были взметнуться над лепными карнизами гордые призмы и капризно изогнутые мембраны. О, статус главной улицы обязывал, приходилось раскошеливаться на бронзу, мрамор, гранит, зеркальные витражи и прочая, прочая, иначе не набрать было бы контраста со штукатурно-нищенским, но почему-то захватывающе прекрасным величием бывшей столицы. Он меланхолично перебирал в музее акварельные развёртки прошлого века – собранный мостами из случайных осколков суши, наивно подражательный и в этом подражательстве частностей таинственно самобытный город требовал неистощимой выдумки. Канонические формы сухаря-классицизма, кокетливая декоративность барокко, сытая до отрыжки эклектика заждались, как он полагал, современного обрамления. Стараясь не думать о кознях традиционалистов, которые, едва он выложит карты, кинутся отстаивать нерушимость исторического наследия с гнусным рвением борцов за чистоту расы, он хотел заключить свой замысел в контуры героического проекта. Изящество чертежей словами было не передать – зубчатый ярус разновысоких домов над теневой стороной Невского проспекта, отступивших за лицевые фасады, облицовывался дымчатым стеклом и зеркалами, чтобы, добродушно подтрунивая над лепниной вялого историзма, дразняще переиначивая её, ломая в зеркальных копиях царственную осанку кариатид и прямолинейность карнизных тяг, сверкать отражённым светом. Напротив же залитые солнцем объёмы защищались от жарких лучей массивными, укреплёнными на относе решётками, этакими жалюзи, активный рисунок которых… Всё это надо было не только увидеть проектным взором, но и выстроить единым махом, не растягивая, иначе победили бы непредвиденные обстоятельства, хорошую идею испортили бы другие…
Да, всё было впереди, его возвращения нетерпеливо ждал этот рассеченный каналами и реками город, и покуда дымила фабрика грёз он, заворожённый лазурным плеском бассейна, мысленно прохаживался вдоль вросших в набережную Мойки, загаженных людьми и голубями фасадов; остановился под старым тополем, элегически глянул на дом с пухлыми цементными амурами, всё ещё гулявшими по карнизу…
Объездивший мир, умудрённый посеребрившим виски опытом, утомлённый собственными триумфами, он искренне отдавался встрече с прошлым, подстроенной нахлынувшими картинами будущего, радовался всему-всему, что ещё только манило, но уже было давно материализовано где-то далеко впереди. И вдыхая запах затхлой, медленно скользящей в гранитных стенках воды, он настолько ясно представлял себе всё это, оглядываясь оттуда, из иллюзорно выстроенной перспективы будущего, что даже ощущал по отношению к настоящему лёгкую щекотку высокомерия.
Какую же роль в радужном будущем должна была сыграть Лера?
Господи, да никакой! У неё, мягко говоря, изрядно хромал вкус, она была взбалмошной, явно перебирала в лакомствах, живой ум не избавлял её от нескончаемых глупостей, искусства, которые она понимала, чувствовала, всерьёз её не волновали – короче говоря, она не вписывалась в идеал. Вот если бы она была утончённой, нежной и размягчённой или целеустремлённой, активной, сочетая черты запрограмированно-деловой женщины с чувственностью, экзальтацией, тогда её роль даже в композиции текста могла бы восприниматься и оцениваться иначе, и не исключено, что всё касающееся её написалось бы по-другому, но во-первых, всё это «по-другому» уже было написано про Киру и Лину, которых встретил он после Леры, и они, отыграв свои роли, сидели, покуривая, в отведённых им углах нестандартного любовного треугольника, а во-вторых, с учётом конкретностей уже придуманного и продолжающего навязывать свою волю Лериного характера, для подобных предположений и тем более для внесения каких-либо изменений в треугольную схему не было оснований. Короче, записывая у пожарного гидранта Лерин адрес и телефон, он вовсе не терял голову, а будущее своё не собирался подчинять радостям луна-парка.
Однако, если попытаться быть точным и справедливым хотя бы в художественных трактовках, стоило бы признать, что в преддверии вымечтанного будущего именно Лера, как наиболее яркая и наименее послушная из трёх фигур, которые автор в поисках выигрышной композиции всё ещё переставляет с места на место, с редкой непринуждённостью, сама того не подозревая, внедрила в замысел вирус сюжета и сыграла символическую роль в нашей небогатой событиями, когда-то зародившейся напротив её дома, на лесах собора, истории.
Её внезапное появление на фоне масляной панели коридора и каретки с пожарными гидрантом и шлангом на удивление своевременно (имея в виду ритмику прозы) и закономерно (в рамках художественной задачи) замыкало пробное кольцо судьбы. Хочешь не хочешь, приходилось поверить, что иногда надежды сбываются, что авантюрные сюжеты возможны, а их концовки (правда, промежуточные) бывают счастливыми. И поскольку проба удалась, то, спрашивается, почему бы и дальше не развёртывать жизненный сюжет в том же духе?
На чём мы остановились?
Купаясь в многозначительности момента, он записывал в коридоре адрес, потом вклинилось отступление…
Может быть, внутреннюю речь стоило записывать иначе, подчёркивая графикой набора текучесть и концентрацию мысли – без знаков препинания или даже без промежутков между словами?
Так уже выпендривались модернисты-авангардисты.
А неоавангардисты?
Ну и потеха начнётся, когда заявятся неонеоавангардисты!
Или уже заявились?
Удивил когда-то «новый роман», потом вынырнул из книжного моря новый новый роман – как утомительно вскоре будет подсчитывать, сколько раз написано слово «новый», чтобы разобраться, что же новее. Да, спорят, чей трафарет новее и сложнее, забыв, что главное – это неожиданный взгляд (со своей колокольни) и своя интонация.
Не знал – нашёл ли, не нашёл свою интонацию, не говоря уж о «своём направлении», но название на всякий случай придумал: симулятивная проза.
Коротко, ясно и – с усмешкой.
Хотя и с подозрением, что симуляция может быть пострашней болезни.
Но – отвлёкся.
Так вот, именно тогда, в коридоре у пожарного гидранта, ему захотелось поскорее увидеть её без мишуры, обнажённой.
Позже, когда они побывали за ширмой, Лера призналась, что ей тоже сразу и остро, едва его взгляд поймала, захотелось, чтобы он её раздевал, и опять-таки странно совпало – именно потому захотелось, что Соснин никак не вписывался в образ идеального для неё спутника.
Витает в облаках, явно без денег, не умеет удобно устроиться в жизни, безразличен к её благам, достаточно на этот растянутый свитер взглянуть – и всё ясно, а волнует чем-то, разгорается любопытство. «Илюша, милый, любимый… С первого взгляда распознала в тебе художника, – художника за ширмой у неё ещё не было, – ты удивительный, – вдохновенно выговорила, точнее, пропела Лера, порывисто сев на постели, – мне нравится твоя внутренняя сила, ты не как все…» – откуда-то издалека доносился пылкий, явно обращённый к нему монолог. И лёгкий, усталый, он впервые подумал тогда о таинственных законах контраста, ещё подумал о критической несводимости отличий, когда – увы, как и в их случае – брызжущие жизненные силы словно иссякнут и проявится разрушительная враждебность психологических антиподов, крайних, принципиально не способных к сосуществованию эгоизмов.
Так что же всё-таки – тропическая бабочка?
Экзотический цветок?
Скорее – первое, недаром же у древних греков и римлян бабочка олицетворяла любовь и душу, Эрот ведь восседал в колеснице, запряжённой бабочками…
Культ чувственности, колдовские чары… Ничего удивительного, это стиль, почему же его удивляют страстные, дикарские признания, независимые от массовой моды взгляды и вся её кипучая, алчная до радостей жизнь, невозможная, однако, вне этой моды; прекрасна без извилин?
Или даже блестящие поэтические этикетки к ней, начинённой взрывными противоречиями, не приклеиваются? Свежий, оригинальный ум, столько знает (учёный климат семьи), но к своему немалому культурному багажу Лера относилась легкомысленно и не выбрасывала его за борт удовольствий, казалось, лишь для поддержания баланса телесного здоровья и духа: никакая заумная болтовня о живописи, театре, литературе её не могла смутить – пожалуйста, готова включиться, но в меру, ограничившись парой-другой хлёстких суждений. О, её конёк – ироничные реплики, а вообще-то покоряла она искренностью, иррациональной жаждой радостей жизни – эротических, интеллектуальных, гастрономических, наконец: коньяк, икра, маслины, помидоры – разве не вкусно?
Лера поражала, захватывала, уносила в океанскую качку энергией женского начала во всех его агрессивно-чувственных, ласковых и безжалостно требовательных проявлениях, которые в конце концов, за ширмой, смешивались в порывах страсти.
Торопливо-нервное, с причудливо разбросанной, словно грабителей спугнули, одеждой, замедленное лишь неподатливостью замков, молний, кнопок, застёжек совместное раздевание было изводяще-сладкой прелюдией телесных безумств. Однако и завершающие гигиенические процедуры с салфетками, тампонами, полотенцами воспринимались как элементы телесного праздника, а вовсе не его стыдливо укрываемые издержки. Да, башня льняных простыней в глубоком, фанерованном шпоном красного дерева зеве платяного шкафа быстро и безжалостно разрушалась, каждый этаж башни принадлежал лишь одному акту разыгрываемой за ширмой драмы; заново стелилась постель… И это тоже было для Леры ритуализованным, оживлявшим равнодушную хронологию ночи удовольствием…
Между прочим, известный физик-теоретик (по слухам, номинант Нобелевской премии), который обещал на Лере жениться, на постельном ритуале и погорел: как-то, выхватив фломастер, он стал писать свои мерзкие закорючки на пододеяльнике… «У меня культ белья», – состроила негодующую и при этом смешную рожицу. Выгнала – и правильно сделала: он оказался пустышкой, запутался в своих закорючках, и никакой премии ему в итоге так и не дали…
Обладая редким искусством продления и членения представления, Лера нанизывала театрализованные радости на бесконечную ось желаний, которая, однако, вынужденно, на исходе любовных сил, утыкаясь в раскалённый диск выползавшего из-за собора солнца, смущённо провисала в забытьи сна.
Но – бом, бом, бом, бом – вспыхивала в лучах ещё глянцево безлюдная, только что обильно политая площадь, и отпочковывалась от сна нелепая мысль: что если Лера – вовсе не бабочка, а капризное, ни в чём не знающее отказа дитя этой пёстрой площади, дитя собора, этакая осовремененная наследница Эсмеральды?
Баловница комфорта и сексуальной революции, разбившая свой цветистый табор четырьмя этажами выше земли, но – под присмотром мраморно-гранитного исполина?
Но когда проник за ширму этот рассвет – позавчера, вчера?
Рядышком – большое, как Африка, тонко прорисованное, с крохотным отверстием в мочке ухо, от мыса Доброй Надежды щека сползала к покатому матовому плечу, ресницы тянулись к шелковистой груди, к слегка осевшему молочному куполу… И опять учащался пульс, пробегал конвульсивно ток, и в вольном жадном разлёте ног дурманяще накатывал горько-сладкий аромат «Фиджи»… Надо бы опускать подробности, но забыт в предбаннике страсти веник из фиговых листьев… Бом, бом – где-то далеко-далеко за гранью сознания пробили часы, и что-то сотворилось с силами гравитации: диковинный, древний, как мир, акробатический номер для себя (так и текст разогнался, в завихрениях весь!) длился в невесомости, и не было… воздуха.
Падали из безвоздушной выси на льняное полотно, увязали в липкой приторной тишине, но после полётов, сновидений, после всей этой белоночной чертовщины он видит Леру – неистощимая радость! Она сидит на постели, включён ночник: пылает ширма, а почти малиновый (светлее ширмы) торс Леры пересекает по груди белая полоса. Накануне выбрались на дачу к Лериной подруге, лежали в высоченной траве, нещадно палило солнце перед сверкающе ярким косым дождём, Лера обгорела, пришлось вечером смазываться кефиром, но всё равно кожица с плеча снималась, как плёнка с шампиньона; втянул запах ромашек (нарвали вчера, узкая высокая вазочка стояла у изголовья)… Что за шум за окном?
Нет, это не поливальная машина, а грозовые раскаты, и – серая стена дождя, словно вместо тюлевой занавески байковое одеяло повесили.
Обезумевшим от изумрудно-зелёной молнии стадом оленей пронеслась куда-то сквозь стены и потолок тень люстры; и следом – гром, гром…
Лера рассмеялась и, играя голосом, наизусть прочитала Киплинга: «На восток лениво смотрит обветшалый старый храм, в звоне бронзы колокольной, там летучим рыбам рай… И как гром приходит солнце из Китая в этот край». О, Лера и в ансамбле любовного малинового алькова стремилась к единству стиля: вполне возможно, именно это стихотворение Киплинга она посчитала не только созвучным заоконному гневу стихий, но и удачным поэтическим дополнением к пагоде, узловатым побегам молодого бамбука и миниатюрным китаянкам, прикрывающим веерами укоризненно застывшие лица случайных свидетельниц.
Цветение и порхание продолжались, но конец проглядывал. Лера (восхитительная), напевая какой-то шлягер в дёрганом ритме возвращавшегося чарльстона, собиралась в отпуск, как всегда, в Сочи, и нетрудно было понять, что её сопровождать на кавказское побережье должен был бы другой, более жизнеспособный спутник, настоящий мужчина с подбородком лопатой и тугим бумажником.
Можно предположить поэтому, что Леру и Соснина спасли от душевных синяков разные векторы эгоизмов. Отпуск?
Вот и повод разбежаться в разные стороны, ибо не были созданы они для вечного совместного праздника.
Моменту расставания, конечно, можно было бы уделить больше внимания.
Но… стоило ли присочинять, как выглядели наши герои и как происходило прощание? Например, у него могли ведь задрожать губы и пригаснуть глаза, и не исключено, что у него от необходимости произнести какие-никакие подобающие слова запершило бы в горле, а Лера, укладывая яркие купальники в чемодан, напевая, могла бы, точно знойная эстрадная певица, покачивать бёдрами, проводя ладонью по тесной юбке с длинным разрезом.
Однако разве в подобных деталях дело?
Разве не существеннее для движения текста, что благодаря покровительству судьбы, бросившей в головокружительное приключение, Соснин не только удачливо выбрался из него, но и остался при выигрыше: удовлетворил детский позыв, поймал солнечного зайчика, бабочку…
И разумеется, он тогда не мог ощутить горечи, которую (пусть и с опозданием) оставит эта влюблённость. Увы, горечи хватит ему до конца дней.
Тогда лишь ясно было, что их сезон закончился, но солнечный свет снова заливал город, всё ещё было впереди – вся взявшая разгон жизнь.
В самом деле, пройдёт немного времени, он увидит в уличной толпе Киру.
6. Точка
Выбегают последние строки – не поймать никак момент и место для точки. Горячка, лихорадочный озноб в паровой рубашке батумского ветра, однако – пора: билет на вечерний рейс в кармане, успеть бы ещё выкупаться, съесть в сотый раз хачапури и – бросить в дорожную сумку книгу-тетрадку. Всё-таки написал – почти написал, самую малость оставалось добавить, дома надо будет полистать «Послекнижие» Геннадия Алексеева, извлечь из сонетов строку-две для эпиграфа, дай бог память, как там, у Алексеева, в магическом слиянии романтики, иронии, абсурда, безнадёжности?
О, эти резво скачущие годы…
И как там дальше?
И ты, о музыка, и водопада грохот,И скрип дверей, и поросячий визг,И бег толпы – её зловещий топот!
Да, надо будет полистать, выбрать; а сначала поверх влажного полотенца уложить хурму, фейхоа, мандарины и – домой, домой…
Хорошо всё-таки, что превозмог себя, освободился, но вдруг – укол: не то!
И секундная ненависть к написанному продлевается минутным раздражением; опустошённый миллионом терзаний, он уже испытывает брезгливую неприязнь к неряшливо заполненной тетради, как если бы изготовился успокоить писчебумажной жертвой клокочущий за углом кафе унитаз.
Исписал тетрадку и – замкнул круг: вернулись колебания начала?
Нет, теперь, постфактум, муки начала, из которых он отжимал в эту тетрадь слова, уже казались ему искусственными и уж точно – преувеличенными.
А как утомляли-раздражали безответные вопросы начала, задаваемые себе; от беспомощности хотелось всё окрест разнести в пух и прах.
Теперь же – не колебания в пустоте, не колебания «до» – колебания «после», как ни крути, оценочные: столько страниц исписано…
Однако опять пересортица взглядов, чувств, опять – поверх логики – своенравная амплитуда самооценок.
Выдохшиеся страницы, сокрушался Соснин, машинально допивая остывшую бурду, обводя невидящими глазами до травинки, до камушка знакомую, но внезапно опостылевшую бело-сине-зелёную, растекавшуюся за ящиками с увядающей геранью панораму курорта.
И… только что был сражён, опустошён, и уже – воодушевлён?
Просветление?!
Опахнуло свежестью море, ощутил тёпло скользнувшего по щеке луча, сверкнула ободком чашка, и – наклонился над цветочным ящиком.
Голова счастливо закружилась от прелого духа, от дразнящего букета животворности и тлетворности, да ещё воспроизвёл внутренний взор необъятную золотую сферу, крохотный, медленно ползущий, огибая её, троллейбус…
Осенило: страницы-то не так и плохи; тут же замелькали картинки – да-да! – череда стоп-кадров, с волнующей убедительностью вырезанных из убегающей ленты памяти.
Солнечный зайчик…
Золотой сегмент купола…
Блеск Волги меж крапчатыми берёзами…
……………………………………………………
Вот они, неслучайные впечатления (стоп-кадры) и…
Стоп-кадры как вдохновляющие тормоза?
Быть может – визуальные якоря?
И опять укол: то!
И – в открытую дверь вломился? – озарение: искусство ведь и есть то, именно то неуловимое, что прячется между строк.
И – вслед за озарением, на миг всего – нежданное ощущение счастья. Вот уж чего с ним не бывало, так не бывало: неужели удалась жизнь?
Хотя, многократно возвращаясь назад, переигрывая так и эдак жизнь свою, он не начинал её сызнова.
Счастливый миг миновал.
А заигранная пластинка рефлексии крутилась, и – уловил лёгкий шелест – ветер отлистывал от конца к началу, затем снова по порядку, от начала к концу, страницы тетрадки; ускорял ли, замедлял листания – страницы, перешёптываясь, застывали на миг в вертикальном положении, нехотя опадали: большинство налево, назад, к началу, но отдельные страницы, сопротивляясь, пытаясь удержать логику повествования, сваливались всё же направо, к концу, и вновь, как бы россыпью, шепеляво споря одна с другой, нерешительно отлистывались обратно, к началу. Шла заворожившая своей безучастностью к автору перекомпоновка написанного; вольно – и только ветру связать, что ломится в жизнь и ломается в призме? – тасовались страницы. Поспеть бы за промельками: застилая сказочный мир зловонным туманом… дактилоскопия характера… ха-ха, здесь что-то есть, но не лучше ли заменить на дактилоскопию сознания? Увы, ветер поторопился – где та фраза, на какой странице? Поскользнувшись о вишнёвую косточку (поспешно заложил страницу листком дикого винограда), самовыражение, самоотдача, клякса… ну и дождь лил в тот день… Поэтизированный блеф прозы, ворсистая фактура бездействия…
И минутное раздражение уже выливалось в стыд, знакомый, наверное, всякому поставившему точку сочинителю или нанёсшему последний мазок живописцу. Как бы сказать поточнее, покрасивее, и чтобы вышло чуть жалобно, на манер полузастенчивого полупризнания, которое не могло бы не вызвать желанного при снятии бинтов и промывке раны участия?
Пожалуй, это стыд, причудливо смешавшийся с болью, такой, какая, наверное, мучит впервые родившую суку, когда у неё берут щенка и уносят, а она не знает зачем – топить или же отдать в хорошие руки.
При этом тетрадка ожила, как несмонтированный фильм, и чудесно вернулась – увы, вновь лишь на мгновение, но всё-таки! – улыбка удавшейся и даже обретшей светлую перспективу жизни.
Игра и мука, да, игра и мука… Это ведь и есть пережитое – в предвиденьи; мучительный игровой поиск загадочного итога.
И вновь зашевелил губами:
О, эти резво скачущие годы!О, этот узкий бесконечный коридор!О, вкус гордыни! О, терпения позор!О, жребий сладостный – у моря ждать погоды.
Стоп-кадры как сеанс психотерапии?
Стоп, стоп, стоп – а он словно от балласта освобождался, словно набирал подъёмную силу.
Или иначе: взмывая, испытывал чудо-тормоза – благотворные тормоза.
Возносящие, уравновешивающие и стимулирующие, остановки-толчки.
Да-да, тормоза-толчки; эффект брошенных якорей…
Визуальных (крылатых?) якорей, обладавших подъёмной силой.
И – успокоение…
Будто бы не стоп-кадры, вспоминая и психику ублажая, рассматривал, а валерьянки выпил.
Как-то незаметно исцелился от фантомных болей, перестал мучиться «политико-географическим» выбором, словно – сумел договориться с самим собой, и тогда уже, доканчивая сочинение своё, сделавшее за него выбор, мог знать, что грядёт будущее, которое, сломав накатанный ход истории, удачно сдаст ему карты, что в своё время увидит он – по-настоящему, в натуре – те самые города, о которых мечтал, причём увидит, не сжигая мостов, избежав «или – или» и, стало быть, отвратительного, разрывающего жизнь надвое (на жизни № 1 и № 2) обмена.
Но… можно ли обойтись без «но»?
Вслед за мимолётным ощущением удачи вспомнился сон: катастрофический взаимный сдвиг двух пространственных половинок Петербурга по разделительной полосе Невского проспекта и он, нагой, беззащитный, на дурацкой тумбе в центральной точке перекрёстка и в эпицентре кошмара.
«Я» – на перекрёстке; чем не ключевой образ?
Что всё-таки обещал тот вещий, но не разгаданный сон – тектонический сдвиг в мироздании или всего лишь личные потрясения?
Почему-то не побоялся, что одновременно может произойти и то и другое.
Пора, однако, пора…
И не отличить победу от поражения – ни вдохновения нет уже, ни отчаяния…
Исцелился…
И сочный акварельный мазок набухшей божеской кисти прощально заливает зелёной тенью кафе: да воссияет солнце!
Как обычно перед отлётом, разгулялась погода, октябрьское солнце греет, как августовское. Соснин блаженно прикрыл глаза и увидел небо над морем, зардевшееся пурпуром заката. Вскоре облачатся в лиловое платье сумерки, повяжет голубую чалму ночи луна, и ночь будет нежна, но не для него – он улетит, и будет томиться в дорожной сумке новорождённый, запеленатый в рубашку и полотенце, с разводами водяных знаков на дешёвой бумаге текст.
А пока – бултых! – в море: плыть, плыть, разрезая с сухим треском серебристый муар, плыть мимо тёмно-красного, разъедаемого ржавчиной буйка к плюшевым складкам мюссерских ущелий, к зовущим в бирюзовую глубину ласковым напевам сирен, плыть и вглядываться в живую, ритмично выдыхающую пенистые упрёки берегу стекловидную толщу воды с белёсыми, в розоватых нимбах, куполками фланирующих медуз, оглядываться на мохнатую ношу рощи (в последний раз?), плыть, отдаваясь воле пологих баюкающих волн, плыть параллельно с плывущим в отсветах солнца дном, выстланным бликами и жемчужной галькой.
Но это же ещё не конец?
Увидела его в толчее вернисажа, окликнула, помахала рукой.
Пока пробирались к картине с зеркалом, с рассеянной улыбкой слушала рассказ про подсчёты подстаканников; недоверчивая к любой чертовщине, подозрительно рассматривала мучнисто-бледные, словно с запудренными струпьями и морщинами, искажённые еле заметными гримасами подобия лиц.
Бр-р-р-р.
Как и прежде, холст дохнул из-под красок и лака глинистым холодом открытой могилы, хотя на сей раз четыре болвана, встретившиеся с ним взглядами, на миг виновато потупили глаза-слизни.
Продолжая рассказ, уже смотрел на её яркое, с ровным загаром, насмешливое лицо, вставленное в латунный ободок зеркала между двумя парами отталкивающих масок: гордая посадка головы, широкий ошейник из коралловых нитей, гирлянды пунцовых роз с бутонами и острыми тёмно-зелёными, как на металлических венках, листьями, размашисто написанные по кашемировой, с длинными кистями шали.
Лера была хороша, слов нет.
Казалось, картинное зеркало принадлежало только ей, хотя пару раз она, невольно сдвигаясь, из него исчезала: тараща глазёнки, зеркало пересёк какой-то пропивший пигментацию собственной физиономии субчик с сутенёрскими усиками, потом, изображая заинтересованность, задержалась в рамке дебелая, кровь с молоком, бабища с лисьей улыбкой – неестественно удлинённый и острый подбородок делал её похожей на украшенный бородавкою писсуар.
– Заумная картина, – фыркнула Лера. Ей с детства, с домашних застолий знакомы были напыщенно-ущербные рассуждения об искусстве, вчитывания в произведение искусства всего того, чего нет в нём, болезненное нагромождение сложностей, разложения и комбинации смыслов, ни перед чем не останавливающиеся, чтобы добиться двусмысленности. – Духовный онанизм, – хлёстко, в обычном для неё стиле завершила тираду.
– Всё проще, – опять-таки в своём стиле резко хулу на хвалу сменила. – Замечательная умная картина, не зря отстояла очередь, – просила познакомить с Художником, – однако не будем доверяться эстетским теориям. Могу их предложить сколько угодно, вот, например: перед вами, – загнусавила, будто усталый экскурсовод, – леденящий душу новейший фрагмент ужатой до четырёх апостолов «Тайной вечери», где сами апостолы с учётом последней моды унифицированы, а центральную фигуру, Иисуса, заменяет щедрое на комплименты зеркало. В нём, конечно, приятно увидеть себя в благородной, мессианской роли, тем более что по контрасту с трупного цвета уродцами-апостолами собственная неповторимая краса гарантируется, разве не убедительно? – глумилась Лера, сопровождая речь потешной жестикуляцией.
Соснина даже разобрал смех, затем подумал о завидно-здоровом её инстинкте: жить, чтобы жить.
Не исключено ведь, что сомнительный стиль жизни, как и вся её пошловатая мишура, служили ей бронёй, так недостававшей ему; и кстати, кстати – интерпретация картины, которую Лера с ходу предложила, была оригинальной.
Вспомнил, как задёргался в гостях, когда впервые увидел картину и очутился в зеркале, когда испытал жалкое чувство превосходства над унифицированными застылыми апостолами, – так задёргался, что заляпал вареньем крахмальную скатерть.
Прекрасна без извилин?
При всей животворной естественности своей Лера была умна…
Инстинктивно летевшая на огонь, она, разумеется, опаляла крылья у костров многочисленных увлечений, только, по крайней мере внешне, мало что в ней менялось. Подозрение могли вызвать лишь плотно подогнанные одна к другой коралловые нити – у женщин обычно первой сдаётся времени шея. Но нет, нет, старение Лере не угрожало: слушая ахи и охи о горнолыжных удовольствиях, отметил ещё раз, как она прекрасно выглядит и свободно держится, её жизненное призвание явно раскрылось в стихии плотских радостей, карнавальных, с переодеваниями и масками, удовольствий, на бесконечном, освещённом юпитерами помосте конкурса туалетов. Разгадка жизни? Никогда не скатывавшийся в яркой амуниции с Чегета Соснин, однако, живо вообразил Лерины развлечения: ритуальные прогулки к нарзанному источнику, возвращения сквозь сказочный чёрно-белый еловый лес (опять заснеженные ели?), глинтвейн или – ещё лучше – пунш, приготовленный каким-нибудь непременным, образующим огнедышащий кратер компании балагуром, мастером на все руки, первым, вгоняя в преждевременный экстаз дам, выливающим лошадиную дозу забористого пойла в сверкающую золотыми зубами пасть. И ещё не обойтись без треска смолистых поленьев в камине холла, медленного угасания пламени, искр, выбиваемых кочергой из последней, тонувшей в холмах золы головешки. И конечно, действие перемещается в спальню (перина, грелка), в окне которой над выписанными морозом с натуры елями должен устремляться в звёздную голубизну конус вершины с безвкусно приделанной сбоку луной.
– Я не только там, провожая зиму, на горном солнышке, загорала, – удобно расположившись в зеркале, разболталась Лера. – На обратном пути залетела в весенний Крым, всё цвело, лепестки глициний медленно кружились над набережной Ялты, как сиреневые снежинки…
Будто не минул жаркий месяц влюблённости, а за ним ещё и несколько холодных лет, опиралась она на его согнутую в локте одеревеневшую руку; нежно склонив голову, прислонилась плечом, провела ладонью по его виску, уху. Он прикоснулся щекою к её щеке, но слегка отстранился, интуитивно боясь, наверное, детонации – помнил взрывную силу отформованного из эрогенного пороха тела. О чём-то малозначимом ещё говорили, а перед взором загоралась малиновая ширма с пагодой…
Под конец разговора оттаял, размяк.
Из памяти – из застеклённого музейного стенда? – выпорхнула ярчайшая тропическая бабочка, и он благодарно сравнил тот выпавший им летний месяц с восхитительным круизом на Карибские острова.
Широко разнесённые миндалевидные глаза, всплеснув отретушированными синими веками, блеснули из зеркала.
Не ответив, звонко рассмеялась.
Радовалась, что избежала угроз Бермудского треугольника?
Или, может быть, их краткое совместное прошлое вызывало у Леры другие ассоциации?
Зачем-то звонил ей потом, но не застал – с минуту слушал длинные гудки в трубке. Позже сам уезжал на Куршскую косу, а вернувшись, никак не мог понять, надо ли звонить снова.
Все само собой закруглялось – Кира, наверное, стала бабушкой, Лина, надо думать, комфортно обосновалась за океаном, купила домик на газоне, «Шевроле» с кондиционером, да и ему прислал какой-то штатный доброхот Рабинович вызов. Пора было что-то решать; сначала, однако, решил перевести дух на Пицунде, его манило тёплое море, как моржа прорубь.
Купил билет на самолёт, уладил служебные дела, зашёл в Гостиный двор. К «Канцелярским товарам» было не подступиться, да ещё и к кассе тянулась очередь, даже тетрадку элементарную без проблем не купить… Он, испытав толчок предчувствий и получив затем конверт с прозрачным окошком, уже присмотрел тетрадку – толстенькую, с зелёной коленкоровой обложкой, в которой намеревался отвечать на вызов судьбы, а тут что-то дефицитное выкинули, прилавок облепили, теперь уж точно не протолкнуться, придётся ждать.
Неслись вопли из секции граммпластинок:
«Арлекиноарлекиноарлекиноарлекиноарлекиноарлекиноарлекиноарле…» – заело неистовую музыкальную машину за полками с пузырьками канцелярского клея, туши.
И, – как чудо – обрыв душераздирающего вокала.
Высвободившись с добычею из гудевшей толпы, налетела, что-то разгорячённо лопоча, обдавая сложным запахом кожаного пальто и духов, Лерина подруга – когда-то ездили к ней на дачу, загорали, обедали. Едва узнал её, уставившись в переброшенную через плечо гирлянду из розовых свёртков туалетной бумаги. Туго соображал, что к чему в этом торговом бедламе, в голову лезла жуткая чепуха, с которой так славно всё начиналось: попугаи-долгожители, стреловидный наконечник брандспойта… Наконец дошло, что Лере стало внезапно плохо, сразу увезли, положили, просвечивали, прокалывали, лечили, как только могли, задействовав все силы, связи, быстро истратив отцовские сбережения на редкие импортные лекарства и медицинских светил… Делали всё возможное и невозможное, не спасли: рак.
7. Постскриптум
– Исаакиевская площадь, – целая эпоха минула, а как и давным-давно, не без торжественности объявил в микрофон водитель, и короткое замыкание чувств и мыслей отбросило назад, в Лерину ауру; испуганно съёжился, врос в сиденье.
Когда троллейбус, сворачивая с площади направо, к Конногвардейскому бульвару, объезжал обнесённый лёгкой металлической оградой, ступенчатый, точно исполинское надгробие, стилобат собора, машинально посмотрел налево и вверх, на темноватый фасад с арочными окнами последнего этажа.
В двух окнах, налившихся кровью, горела люстра.
Другие окна, как бельма, отсвечивали меркнувшим над Невой небом.
Владик надел тёмные очки.
И, не заметив как пенный язык лизнул кроссовки, остановился. И тотчас импульсивно, нервным движением снял очки.
– Ил, неужели только мы с тобой из той компании ещё живы?
Вдобавок к мукам памяти у блестящего математика и полиглота, неугомонного теннисиста, автогонщика, аквалангиста и азартного подводного охотника иссякал витальный ресурс? Волнистые золотистые волосы потускнели и поседели, под глазами вздулись лиловатые морщинистые мешочки.
– Когда я «выбрал свободу» и эмигрировал, Америка была светочем демократии, небесным градом на холме, а теперь зарвалась, как безнаказанный жадный фраер, обрушила сдуру собственный миф…
Владик, гений программирования, заработал в «Майкрософте» кучу денег, купил, выйдя в отставку после сложной и не очень удачной операции на сердце, дорогой дом в Кармеле – в сказочном городке с синим океаном, белопесчаным пляжем и чёрными разлапистыми калифорнийскими кипарисами. Но мало было Владику новообретённого рая, он, оказывается, мечтал о воссоздании рая потерянного.
– Ты ведь и эпическое приложение к терзаниям своим, к «Репетиции ностальгии», накатал, не так ли? – кольнул развесёло-безумным взглядом выпуклых и всё ещё ясных голубых глаз. – Не забыл встречу перед моим отбытием в Штаты? Что-что? Дудки! Не самый глупый человек, Наполеон, говорил: «Думаете – случайность, а это – судьба», – Владик рассмеялся. – Писака-растяпа умудрился посеять свою нетленку, но я-то чуял, что встретимся, возил эпохальное сочинение в бардачке, – Владик не спускал с меня весёлого колючего взгляда. – Нетленка вылежалась в столе? И никакой это не отработанный пар! Ты ведь ещё в году восемьдесят четвёртом-пятом, помнится, убеждал меня, что скоропортящийся продукт – само время – можно отформовать в брикеты, законсервировать… Ну так вскрой тетрадку, сдуй пыль с пожелтелых страниц, сканируй, загони в компьютер, и перед последней правкой слетай за свежей достоверностью на натуру, оцени пейзаж после абхазско-грузинской битвы. Знаешь, что родовой дом Звияда сожгли в Лидзаве? – Владик уже смотрел на меня и строго, и доверительно. – Ил, пора бы то, что было там с нами, увидеть наново, понимаешь?
Я промолчал.
А что, собственно, исключительного выпало нам там, до исторической судороги, в неге блаженных дней?
Ну что в самом деле обрели мы там сверх того, что, как и пристало курортникам, загорали и купались, жевали хачапури, пили вино и болтали, болтали, болтали, не замечая часов?
Этого я ведь так и не смог уяснить тогда, когда сезон за сезоном упрямо собирал в зелёной, с коленкоровой обложкой тетради пёструю курортную дребедень.
Допустим, безотчётно собирал впрок.
Но и сейчас я усомнился, что в картинках прошлого, слепленных из пустяков, закодированы какие-то важные уроки и смыслы, а дешифровать их ныне мне поможет актуальная достоверность.
Назавтра Владик на мощном слоноподобном БМВ повёз меня в заповедный, с высоченным секвойевым лесом Биг Сур. Дивная дорога виляла над океаном.
– Вот ранчо Дорис Дей, а там – видишь крутую красную крышу? – доживал свой век Генри Миллер.
Слепило солнце, вдобавок к тёмным очкам Владик опустил дымчатый козырёк-фильтр, укреплённый над ветровым стеклом, проглотил какую-то яркую таблетку – барахлило сердце и неожиданно для меня вернулся к вчерашнему разговору на кармельском пляже.
– Надо бы оживить то, что было, – наставительно сказал он с характерным для него сухим смешком, переходящим в тряский беззвучный хохот. – Ты готов?
– Оживить беспутную круговерть?
Воскликнул, не поворачивая головы:
– Да!
– Как? Припоминая мелочи, засорявшие нам глаза?
– Почему нет? Время и есть поток мелочей, лишь постфактум привязываемых к великим событиям. Настоящее пускает нам пыль в глаза, невразумительно сорит мелочами, а уж когда делается прошедшим… Ил, не придуривайся, ты же собрал потоки сознания целого поколения, ну не всего поколения – языкастой его прослойки… Пролистай тетрадь, что-то вычеркни, что-то подправь…
– Есть блошиный рынок, где раскупят мишуру тупиковой цивилизации? Кому-то понадобится сор того времени?
Владик не знал сомнений, не допускал возражений.
– Тупиковой? Не торопись! Прежде чем столбить рынок, в слежавшемся соре, как в культурном слое, не худо бы покопаться, – вновь сухо хохотнул, затрясся. – Ил, не прозевать бы археологический бум! Тебе кажется, что советчина никому больше не интересна, однако я склонен поверить Воле: на вес золота будет вскорости любой черепок.
– Фасоны купальников и плавок, запах огуречного крема, которым мазалась Любочка, пятна жира на меню в «Руне», перлы пляжных златоустов, антисоветские анекдоты под музыкальный грохот и суррогатные напитки в баре Элябрика начнут ценить, как древние черепки?
Торопливо кивнув, Владик спросил, опять неожиданно:
– Помнишь Ахата?
– Милиционера?
– Да, милиционера и по совместительству – вышибалы в «Руне». Я узнал, что Ахат после боёв за Сухуми…
Что всё-таки понуждало Владика в эпицентре калифорнийских красот и благополучия вспоминать о дураковатом Ахате?
– Как ты узнал, что он…
– Своевременно, – состроил очаровательную гримасу, стянувшую загорелые морщины в уголках глаз и губ в выразительные пучки, – стукнул осведомитель… Я получил мейл от Митьки…
– От Митьки?!
– Он сейчас экскурсии по Пицунде водит.
– Ну вот, ещё Митька, выходит помимо нас с тобой жив.
– Руфа, – вздохнул Владик, – утонул на «Нахимове».
Что тут можно было сказать? Я промолчал.
– А знаешь, что случилось с мисс-мыс?
Я знал.
Солнце оглаживало жёлто-зелёный кудрявый склон и сиреневую, тающую в дрожащем мареве горную гряду над ним, а глубоко-глубоко внизу по глянцевому иссиня-чёрному океану скользили клубы голубого тумана… Вскоре на террасе греческого ресторанчика, безупречно вписавшегося в райские кущи, Владик продолжил:
– Воля воспевал Пицунду как незаёмное наше Средиземноморье, уверял, что и опостылевшая советчина будет восприниматься теми, кому её руины повезёт увидеть в обратной перспективе, сквозь толщу лет, как своя доморощенная античность.
Вот-вот грядёт археологический бум, – ловко всё сходилось у Владика, подхватившего песнь Воли: где руинированная античность, там и археология.
– Трёп у пляжных костров под звон стаканов с маджари Воля, выпрыгнув на минуточку из античности, уже называл нашим приветом «Декамерону»… – подхватил я, с удивлением ощутив, что заражаюсь волнением Владика. – Помнишь Волю, озарённого пламенем костра?
Глупый вопрос! Разве Волю можно было забыть?
– Там, за горами, – Владик до смешного точно сымитировал голос распалённого Воли, – однопартийная чума, а здесь, на мысу, мы так свободны в своих желаниях и словоизлияниях, так счастливы!
– А помнишь…
– А помнишь, как укорял нас, разомлевших от пляжного счастья, Воля, когда, выпив лишнего, испытывал угрызения совести?
Не дожидаясь моего ответа, Владик уже цитировал: «Мы, погрязшие в усладах юга, ни пятнышка не хотим замечать на солнце, мы похожи на страусов, засунувших головки под крылья, в мягкий и тёплый пух…»
– Ил, что превращало пляжный трёп в брикеты времени?
– Может быть, само время?
– Как?
– Прикидываясь потоком слов…
– Брикеты – жидкие?
– Возможно, ещё и газообразные…
– И как же ты писал время?
– С натуры.
Вернувшись в Кармел к вечеру, прогулялись по главной, сбегавшей к океану улице городка. Вспыхивали белые и розовые огоньки симпатичного деревянного мола, ресторанчиков и кафе, струился лазурный неон магазина «Средиземное море», похожего на аквариум, за стеклом – живописные горки ракушек, пучки трав, баночки с провансальскими соусами, маслинами…
И впрямь райское местечко: берег Тихого океана, а Средиземное море – с доставкой на дом.
– Воля называл Пицунду нашим Средиземноморьем, – с упрямым нажимом повторил дневную мантру Владик, глаза маниакально блеснули.
Через день я улетел, но более года он бомбардировал меня электронными письмами, увещевал, торопил, пока не дошла до меня весть о его внезапной смерти во сне, и я подумал, что, повстречавшись с Владиком на том свете, мне будет не по себе от колюче-укоряющего взгляда его, если я не исполню последней просьбы покойного. Я тронулся в путь.
Итак, пограничная суета и мост через Псоу, обшарпанный вокзальчик в Гантиади, спуск к Гагре под пошловатый вокальный аккомпанемент – о, море, о, пальмы… Итак: Воля, Валян, Любочка, Красавчик, Гия, Вахтанг, Ахат – самые обыкновенные, курортники и аборигены-кавказцы, волею судьбы и, если угодно, истории, внезапно сменившей на наших глазах эпоху, ставшие необыкновенными: распалась советская империя, и оборвался инерционный ход лет. Иных уж нет, но вместе с ноющей болью я испытываю аберрацию зрения, вознамерившись по завету Владика воскресить их, обыкновенно-необыкновенных, – я вижу их сквозь фильтр лет в ином, возносящем свете. Внизу – растрёпы-эвкалипты, бледное бесцветное море… Подъём к развилке дорог над лентой Сухумского шоссе; большущий, в полнеба, рекламный щит Suzuki, потряхивания на разбитом, лишь грубо залатанном кое-где асфальте; поворот направо, к Пицунде, и – вниз, вниз плавно заскользил автобус. Не верилось – тишайший дебиловатый Ахат расстреливал генерала Аласанию? И почему Владику в его комфортном калифорнийском далёке так важно было это узнать? Гурам, Мишико, Бичико – гулкий мост над вспененной Бзыбью, два подорванных, с языками копоти, крестьянских дома. Что ещё могло сплотить нас, случайных пляжных знакомцев, кроме отпускной праздности и языческой преданности волшебному мысу? Вылепленные южным солнцем, но призрачные, вынутые из своих суетных городских жизней, мы ведь чаще всего даже не знали фамилий друг друга, и уж точно, что бы ни обсуждали с потугами на серьёзность, о чём бы легкомысленно ни болтали, не касались драм, изводивших каждого из нас там, за горами, в «теневых», как говаривал Воля, буднях. Владик, Геша, Милка, Тима-капитан, Гия, Арчил, Зося, Аркадий; толща лет – моя чудесная линза? Вряд ли я выделил бы их лица в уличной толпе, а теперь, оглядываясь, вижу их, замурованных в сезонных лучах свободы и – бессмертных, этаких мифологических героев античности, нашей античности. Я вижу их неповторимые черты, мимику, слышу доносящиеся из прошлого голоса, и при этом все они, канувшие, – уже нерасторжимы. Ей-богу, я вижу-слышу их теперь, спустя годы, вместе, в хоровой слитности, как некую вобравшую в себя, но не уничтожившую индивидуальности, нервно-подвижную, словно взывающую о помощи человечью плазму… Что я мог бы сделать для них? Не смешно ли – спасать живыми подробностями от забвения? Смешно, но если моя наивность и способна вызывать смех, то лишь сквозь слёзы. Безнадёжная сверхзадача, наверное, проклёвывалась ещё тогда, когда я принялся выписывать пицундский микрокосм, попросту – всё то, что видел и слышал, но теперь-то из мелочей прорастало главное в завершённых судьбах. Меж чёрными кипарисовыми частоколами – ответвление-коридор к цитрусовому совхозу; Алик, Ариша, Инга (мисс-мыс), Наденька, Гия, Цезарий, Суренчик, Нора-Нюра, Элябрик, Баграт, Рен, Любочка, ну да, Любочка, как же без неё… Перед отлётом из Петербурга я пролистывал толстую тетрадь, гроссбух, как сказал Владик, царственно возвращая мне забытую у Гии рукопись, и пытался раз за разом запускать в памяти, как если бы запускал звуковую дорожку, возбуждённо-сбивчивую речь Владика, который мне чудесно повстречался в Москве как раз перед отбытием в эмиграцию. Владик, настырный биограф своих сопляжников, даже в вихрях перестроечных перемен, когда пришлось ему забросить науку и покрутить баранку такси, старался уследить за судорожно ускорявшимися, по сути – прощальными, жестами и репликами наших финишировавших героев, а уж потом, из калифорнийского Кармела, маниакально вопрошал: ну как, заточил перо? Однако чувствовал я, критично озирая написанное давным-давно, что композиция группового портрета не складывалась, кто-то не помещался в раме, кто-то нагловато вылезал на передний план, а меня ведь ещё поджидали подсказки укрупнившихся деталей, наново заигравших красок, оттенков; спасибо Владику, снарядившему в путь. Что же изменилось после распада империи, в частности, после безумной абхазско-грузинской битвы? Я, оказывается, помнил силуэты крон, изгибы дороги, узоры расшивочных швов на подпорных стенках. Всё знакомо, всё на своих местах. Но откуда это чувство опустошённости, какой-то безжизненности? И право, где же тенты кофеен, яркие лёгкие платья, соломенные шляпы? Так, самшитовые заросли, густые-густые, со спутанными ветвями, так, бетонный козырёк над срезанной макушкой «Литфонда»; щебёнка в лужицах битума, яма – воронка от бомбы? А-а-а, наконец-то поодаль заклубилось хвойное облако рощи… Итак, Мэри, Гаяне, Веник, Пат, Тима-капитан, Милена, Звияд, Тина, Боря-Борух, Руфа, Мурад, Нодар, да, покойный Нодар обычно первым мне раскрывал объятия… Меня била дрожь, я прижался горевшей щекой к стеклу: вот-вот лоджии расчертят гнёздами-квадратами блочную коробку киношного Дома творчества, а слева, под оплывшей пепельно-зеленоватой, с земляными проплешинами грядой мюссерских холмов блеснёт Инкит…
КНИГА ВТОРАЯ
Энциклопедия дикаря
и сага о бархатных сезонах
Экспресс из сочинского аэропорта выкатывает на площадь, торжественно огибает отравленную выхлопами бензина клумбу.
Совсем как тогда…
1
– Координаты: сорок три градуса, десять минут северной широты, сорок градусов, двадцать одна минута восточной долготы. Для плавающих по правой стороне Понта, – сообщает Флавий Арриан, – первая стоянка для кораблей, двинувшихся на север от Диоскуриады, будет в Питиунте, на расстоянии трёхсот пятидесяти стадий…
Так-так, посмаковать коктейль из разогретых, щекочущих ноздри испарений бензина, хвои, цветов, поозираться с ещё в полёте предвкушавшимся наслаждением – ну-ка, что изменилось за год? Ничегошеньки не менялось, конечно, разве что новый киоск, увешанный галантерейным ширпотребом, лепился под тяжёлым бетонным навесом. И деловито зашагать к храму. Так-так-так, привычно красуется древняя, размноженная почтовыми открытками обитель: бурая кладка толстой защитной стены, белёный барабан со щелевидными окошками, оцинкованная нашлёпочка куполка на небесной лазури, над зелёными кляксами крон, оранжевыми брызгами хурмы, угольными штрихами кипарисов; всё, слава богу, на своих местах, всё как всегда.
«О, дорогой!» – вынужденно разгибает поясницу Нодар, раскрывает объятия. Взаимные похлопывания по плечам, троекратные касания щекой щеки слева направо, справа налево, опять слева направо, обмен дежурными приветствиями, сводками погоды под сонными взорами лидзавских торговок в чёрных платках с корзинами фейхоа, вёдрами с мандаринами… О, Нодар такой же, как всегда, моложаво-сухой, прокопчённый немилосердным абхазским солнцем – директор краеведческого музея, ютящегося при храме, в подсобных монастырских строениях, не признаёт кабинетного заточения. В официальном, аккуратно отутюженном светло-сером костюме-тройке, при галстуке и японских электронных часах коротает он рабочий день, облокотившись на капот своей вишнёвой «Волги». (Владик, будто он был очевидцем случившегося, рассказывал мне на другом конце земли, в Кармеле, на пляже, как в этой привычной всем завзятым курортникам праздной позе скосила Нодара лёгкая смерть, как вломилась в заведённые ритмы площади бесполезная крикливая паника, когда бездыханное тело Нодара сползло вдруг с крыла машины.) Скупой на слова, жесты, лишь изредка кидающий отрывистые команды экскурсоводам, которые тут же, меж газующими автобусами и соблазнами грузинской галантереи, сколачивают равнодушные группы, сросшийся с зеркально-блестящим, разогретым горячими лучами капотом Нодар время от времени всё же принимается лениво вращать связку ключей на указательном пальце, другой рукой пощипывает в глубокой задумчивости щёточку тронутых сединой усов. О, Нодар, вечный экспонат площади, внимающий историям, шуточкам соплеменников и заезжих друзей, музыке гудков, шин, женскому гаму у киосков, журчащим, как поток на каменных перекатах, голосам горцев, в ожидании сухумского автобуса присевших на корточки в тени акаций у кованых ворот храма. Объятия, однако, разомкнулись, новости иссякли. Короткий ритуал прибытия соблюдён, остаётся шмыгнуть в ворота храма и цок-цок по розовому шероховатому плитняку, замусоренному жирными красными лепестками. И нежный ветерок принимается сушить прилипшую к спине рубашку, теребит отцветающие кусты. Цок, цок, цок – сквозь плотное жужжание экскурсантов, мимо фасадика с провинциальной аркадкой, одетого в дырявую шубку плюща, теперь за угол… Окно на первом этаже продолговатого домика, где располагались когда-то монашьи кельи, а теперь расквартирована тбилисская археологическая экспедиция, открыто.
2
– Многолетними наблюдениями отмечено наибольшее на Кавказском побережье число солнечных дней в году. Благодаря массиву хвойной растительности и морским бризам здесь целебный, без изнурительной жары, микроклимат…
Гия неподъёмным бревном лежит поверх байкового серого одеяла в одних трусах, его окутывает сумрачный хаос. Грязные щетинные кисти, выдавленные искорёженные тюбики масляных красок, на клеёнке – рыбьи скелетики, придавленные гитарой, горки пепла, какие-то тёмные, обкусанные помадой окурки, которые ещё источают дымно-мятный запашок, повсюду пустые бутылки, как снарядные гильзы на поле брани. Излишества ночи усугубляют врождённую Гиину меланхолию. «Гудит голова, – виновато улыбается он, словно не год пронёсся, а вчера, только вчера расстались после дружеской попойки. – Хочешь, чачи налью за встречу? Ну виноград пробуй, – не настаивает Гия на утреннем возлиянии и, мужественно собравшись с силами, высвобождает из-под наслоений пощипанную гроздь «изабеллы» в мокрой тарелке, где устало ползают осы. – Трудный сезон, да ещё слетевшиеся друзья хуже врагов мордуют, шашлыки им маринуй-жарь, вином обноси. Думают, во мне духанщик с незаменимым тамадой умирают! Да ещё бренчи им, пой, вчера в Мюссере на пикнике за третьим ущельем так во вкус вошли, что дня и вечера не хватило, фалко расстафаться ф такую лунную ночь, прафда, милый? – вяло передразнивает кого-то Гия и тяжело вздыхает. – Зимой не вспомнят, живопись моя сезонным друзьям до лампочки, хотя московскую выставку вполне могли б протолкнуть, вон Валян президента Академии оперировал… Но всем не художник в отпуске нужен, а пляжный паяц с акцентом для местного колорита». На холстах, пригашенных пыльной полутьмой комнаты, купаются в лунной призрачности чёрные кипарисы, а окно слепит солнцем. Умиротворённый привычными Гииными излияниями Илья блаженно щурится от жёлто-зелёного огня патио. Поодаль, за массивной стеной, которой обнесена ухоженная территория храма, плещутся в лазури акации, рядышком – можно рукой потрогать – клонится к оконной раме морщинистый ствол с затянутым искристой паутиной дуплом, подвижной бахромой свисают покраснелые листья, и дрожит тёплый воздух, поют птицы, под брюхо самолёта, когда разбегались, мела позёмка, а тут – рай! «Адское лето, жара небывалая, под сорок, тушь сразу сохнет, – снова скорбно вздыхает Гия, – и, как назло, на мраморную жилу напали. Гурам откопал античную дорическую колонну с базой, вроде бы провинциальная поделка неумелых каменотёсов, но для нашей дыры – шедевр, надо атрибутировать, публиковать, даже Нодар задёргался, хочет поскорей выставить находку во дворе музея. А я и обмерить эту ископаемую колонну толком не успеваю. И потом – ночь, луна… Послушай, Ил, почему женщины стали такие наглые, жадные? Думают, если грузин, так обязательно сексуальный гений? У них что, мужья импотенты?» Опёршись на руки, Гия с трудом отрывает от байки волосатый крестьянский торс, напрягает шею, но тут же грузное тело, сломав руки, со скрипом продавливает кровать, голова, опрокинутая увесистым носом, безвольно сваливается на подушку, ещё глубже западают страдающие угольки глаз. «Отсыпайся», – берётся за чемодан Илья. «Тебе повезло, что на вчерашний пикник опоздал, голова не будет трещать… Но ты вовремя прилетел, море тёплое, вся пляжная кодла в сборе, да появилось ещё и новое украшение у кодлы, Любочка, – мрачно информирует Гия, дотягивая зевок. – И Митя ждёт тебя не дождётся, – потирая наждачно-синюю щёку, Гия добавляет задумчиво: – Зимний ураган с громом-молнией сломал четырёхсотлетнюю сосну в роще».
3
– С древнейших времён сосновая роща, сохранившаяся с третичного периода, почиталась и оберегалась как святыня, царил языческий культ поклонения деревьям, их обожествления. Лес – сосна, сосновое – дал название самому мысу: Питиус – его греческое имя, Питиунт – латинское. И после того как язычество сменилось христианством, новая религия не отвергала традиционной святости рощи…
Вот времечко было: поставишь палатку в конце Кипарисовой аллеи, под четырёхсотлетней сосной, и ни души окрест. Никем не потревоженные роща, море словно только тебя одного заждались…. Как все курортные фанаты, по гроб преданные мысу легенд, давным-давно со всеми психологическими удобствами в них, легендах тех, поселившиеся и сами эти же легенды творящие, Митя, о чём ни заговорит, маниакально возвращается в те сказочные годы, когда не было корпусов… и уходит, уходит в прошлое, девственное, безлюдно-таинственное, где волны ласкают бесконечный, ещё не рассечённый железными решётками пляж… И внезапно выскальзывая из элегии в прокурорскую речь, Митя клеймит госдачу за многокилометровым забором, отрезавшим у дикарей самый буйный участок рощи, чёрные лимузины, размножение вохры, челяди, да и вообще всё то, что виновно в необратимых переменах, захлестывающих ныне мыс сезонным человеческим штормом. Всё Мите теперь не так, всё – грубо, бездарно; Митя корит официального прародителя пицундского курорта Никиту, хотя тот, будем справедливы, не только отрезал-взял ломоть дивной территории для госдачи, но и дал: то ли от боязни походить на развенчанного им подозрительного тирана, предпочитавшего глухую изоляцию от верноподданных масс, то ли в припадке щедрой барской чувствительности отвалил-таки демосу впритык к своей, пусть и отгороженной неприступным забором отпускной резиденции немалый, лакомый вполне участок райского побережья. А уж как частит Митя исходную бестактность благодеяний цивилизации, чьи разлагающе-губительные подарки… Ох, как едко вышучивает он наивненькие восторги столичных курортников-дикарей по поводу шахмат для великанов, плетёных креслиц в лоджиях. Кривя губы, Митя даже самокритично вспоминает собственную вовлечённость в наигранный, но по сути постыдный ажиотаж зашоренных дикарей, мечтавших хотя бы одним глазком заглянуть в «роскошные», устланные синтетическими коврами, как приюты обедневших набобов, малометражные двухкомнатные люксы на восьмом этаже «Золотого руна» – негласно привилегированной в ряду семи одинаковых, скучно разлинованных четырнадцатиэтажных хоромин. И глумится Митя, выразительно косясь на Илью – как если бы именно он, архитектор, на несчастье своё, должен был бы сейчас же профессионально ответить за позорное прожектёрство коллег и его плачевные результаты, – над планировочным замахом грандиозной затеи, отвечающей, само собой, нищенским стандартам всеобщего равенства, хотя и не без завистливой оглядки на заграничный шик – затеи, что испоганила заповедный ландшафт вторжением блочных башен и кафельных, журчащих и фыркающих под бетонными грибами сортиров, кои безобразно окаймили чудесную бухту, вгрызлись в пушистую кромку рощи. «Как славно и привольно было без корпусов!» – заводит снова шарманку Митя и, несколько идеализируя быт доходных клоповников-бедонвильчиков, кишевших крысами, принимается живописать очаровательные итальянские дворики, свисающие с неба лиловые грозди, томительные закаты, расточительно пылающие над пустынным пляжем, предваряя пряные ночи, сходки на Гочуа, на скромненьком местном Броде, с первыми трескучими транзисторами, громоздкими магнитофонами, наяривающими на подоконниках, танцы на тускло блестящем под луной пупырчатом гудроне дороги, редкие слепящие удары фар, накаты тёплого воздуха, падение звёзд, настороженную заинтересованность подростков-абхазов, окружавших танцующих, занозистые скамейки, пузатые бутылки, стакан по кругу, огоньки папирос, смех, смех, поцелуи в кустах, звенящих цикадами.
Признаться, меня разочаровал поначалу этот мифологический мыс.
Нетерпение паломника, наслышанного о чудесах и красотах, обгоняло шаги, заранее разыгрывало всплеск чувств на кончике клиновидного острия.
А вышел я к вялому скруглению пляжа – линялое море льнуло к нему, как к любому заурядному пляжу.
Бескрайняя графитно-белёсая россыпь гальки, по которой брело вдоль рощи рыжее стадо, навевала тоску; не было скал, пальм.
И вовсе жалкими были тылы природного чуда, намытого неутомимой рекой.
Чего ради трудилась Бзыбь?
Пыль, коровьи лепёшки, хрюканье из сараев.
Обошёл неряшливый, оплетённый сохнущим бельём посёлок.
Постоял перед неказистым храмом с проломленным куполком, с деревцем, растущим из кирпичной расщелины.
Не зная, куда податься ещё, присел у вытоптанного крикливыми мальчишками-аборигенами футбольного поля – сейчас на его месте кегельбан, корты.
Стоило ли трястись в автобусе?
И что особенного?
Роща?
После Гагры с её пахучей глянцевой флорой меня не сумели поразить тогда сосны; даже реликтовые.
Роман с первого взгляда не получился.
4
– В трёх километрах южнее Питиунта располагалось небольшое винодельческое поселение Лдзава…
А Лидзава, утопающая в садах Лидзава, прибежище анахоретов, благороднейших психов, разномастных романтиков, всех, кто не от мира сего и потому уже украшает своей исключительностью передаваемые из уст в уста – теперь можно сказать: из поколения в поколение – героико-занимательные истории, обходилась без Брода с музыкальными шкатулками, танцульками. Её клубом был пляж: выползает из-за мохнатых Мюссерских холмов соглядатайка-луна, взлетают к небу искры костров, тут и там жарится мясо, рыба, шумно опорожняются трёхлитровые, из-под кабачковой икры, банки местного вина – Изабеллы, Цоликаури… О, такие ночи – испытанный катализатор невероятного, и хотя лидзавский фольклор Митя знает лишь понаслышке, главные руны, ставшие духовным достоянием всего мыса, он с певучим упоением пересказывает из года в год, например впечатления безвестных свидетелей ночного переполоха, который наделала выходка тбилисского десятиклассника, проводившего в Лидзаве летние каникулы, тайно влюблённого в прекрасную Нану. По ней, впрочем, вздыхает весь пляж. Однако же соперничество всего пляжа ошалелый молокосос достойно сносит, когда же появляется единоличный счастливец – родовитый интеллигентный красавчик Звияд, отпрыск знаменитого тбилисского писателя, заполучающий, как кажется, ключи от Наниного недоступного сердца, уязвлённый гордец, отчаявшись – тут и луну под похоронное настроение заслонила туча, – уплывает в кромешную тьму, чтобы свести счёты с жизнью. На беду, в ту ночь штормит, никто не купается, но, само собой, все накачиваются вином, тары-бары, смех, песни, и хотя луны нет, сохраняется обычный градус веселья… В общем, исчезновения юного ревнивца не замечают, а когда спохватываются, и начинается тот самый легендарный переполох. Но не дано отвергнутому влюблённому утонуть, далеко в открытом море, откуда не видны даже огни костров – у Мити, благодарного справедливой судьбе, вздрагивает от волнения подбородок, – пловца-самоубийцу на исходе сил его вопреки жестоким законам мелодрамы готовится подобрать иностранный корабль. Но это ещё не счастливый конец – в операцию спасения на водах вмешивается пограничный патрульный катер…
Теперь-то и мне ничего другого не остаётся, как прибегать к жалким уловкам, чтобы вернуться на тот мыс.
Вот открытое, частично плющом занавешенное кафе вблизи пристани, где я частенько посиживаю, вот прихваченный клейким пластырем к стеклу сувенирного магазинчика шикарный интуристовский фотоплакат – завлекательнейшая глянцевая сине-зелёная панорама мыса, заснятая с вертолёта на импортную плёнку.
Откинувшись на спинку пластмассового ажурного креслица, я мысленно сметаю с плаката торчки панельных корпусов, плашку курзала, прочий коробчато-модерновый сор – всё сметаю, вплоть до пляжных парусиновых зонтиков, лежаков и теннисистов, скачущих по кортам, как белые блошки. Всё-всё сметаю прочь, пока не возникает желанное видение первозданности, которым столетиями владели, паря в восходящих потоках воздуха, одни лишь зоркие птицы.
Всё чудесно меняется, когда смотрю издали!
И – в данном случае – сверху!
Теперь-то я вижу остриё, похожее на нос брига, зарывшегося в пенный бурун.
Вижу бескрайнюю искрящуюся стихию – пронзительно синюю, слепяще-синюю: лазурь, кобальт, ультрамарин, перетекая, смешиваясь, поигрывая переливами, бликами, слегка пушатся у горизонта, нежным сиянием касаясь небесной голубизны.
И мягко чернеет роща – выброшенная на берег морем исполинская губка.
Я и сам меняюсь, когда смотрю издали и сверху, когда осознаю, сколько лет заслоняют время, которое хочу разглядеть.
Смотрю, постигаю эффект дальней оптики.
Смотрю, удивляюсь и умиляюсь, не спеша отделять цвета предметов от окраски переживаний.
И не стыжусь, если сбиваюсь на плаксивую интонацию.
Иным слёзы туманят взгляд.
Мне – это действительно так! – служат увеличивающими линзами.
5
– Политическое влияние Рима усилилось в первом веке, когда Нерон про возгласил Питиунт провинцией империи и ввёл сюда оккупационные войска. Сорок военных кораблей – по свидетельству Иосифа Флавия – поддерживали мир на несудоходном прежде и суровом море. В стратегическом отношении Питиунт становится самым важным и удобным для Рима опорным пунктом в Колхиде…
Какое многолюдье, даже осенью – многолюдье! Мода ли, соображения престижа сюда в октябре окультуренный плебс сгоняют. Не протолкнуться, а когда-то ставил палатку вблизи устья Кипарисовой аллеи, под четырёхсотлетней сосной, и – никого, ни-ко-го. Лишь разок ещё выпадало потом такое ошеломительное одинокое счастье, в благословенный холерный год, – Митя хлещет рукою воздух, да так сильно, что, теряя координацию, разворачивается к озлобленно гудящему у кассового павильона рою авиапассажиров, домогающихся обратных, домой, в холода и слякоть, билетов, к нервным очередям к таксофонным кабинкам с вечно барахлящими, заглатывая серебро, аппаратами, к мельканиям в небесных витринных отблесках собранных под общую крышу торговых точек знакомых и незнакомых фигур, поглощённых суетой курортных забот. Описав замысловатую дугу корпусом, Митя обретает всё-таки равновесие и обращает внимание Ильи на припаркованную у внешне прескромной конторы «Интуриста» итальянскую, похожую на платиновую ракету гоночную машину Элябрика. Да вот и сам Элябрик, как по заказу, – с пучком шампуров направляется к своему колёсному сокровищу; наверное, пикник для важных гостей готовится… «А-а-а, юноша бледный со взором горящим! – кричит с другой стороны улицы Воля и в приветственный замок сцепляет руки над головой, и сразу, – капитан, капитан улыбнитесь!» – ну да, Тима-капитан вышагивает вразвалочку. «А вот гипнотизёр Шпильман с бутылкой мацони, а ещё, – говорит Митя, – мисс-мыс объявилась после нескольких лет отсутствия, помнишь её?» Но тут же Митя натыкается ищуще-жадным взглядом на новую достопримечательность и энергично машет, машет рукой, приветствуя довольно славненькую, коротко стриженную особу в ярчайшей пышно-оборчатой юбке. Особа, дабы заклеить конверт, старательно слюнявит пальчик за стеклом почты, но всё же удостаивает Митю кивком с улыбкой. «Это Любочка, сенсация нынешнего сезона, – забыв об упрёках столпотворению, возвещает Митя с растущим энтузиазмом. – Язычок у неё подлиннее и поострее Волиного, да, да, невероятно, но факт: Волька был вынужден признать своё поражение и сказал гениально, что Любочку лучше один раз услышать, чем сто раз… – на полуслове Митю передёргивает судорога. – Ну-у, парад-алле!» Надвигается Ожохин – задубело-плотный, вытесанный из коричневого кряжа обрюзглый идол в мешковатом тренировочном костюме светло-голубой ворсистой фланели с белыми лампасами на рукавах и штанинах. Он тащит тяжеленный баул с теннисной амуницией, на локте его висит тощая кривоногая птичка и всё залетает-заскакивает вперёд, чтобы заглянуть в толстые очки покровителя преданными бесцветными глазками. Залетает-заскакивает и щебечет, щебечет про неберущийся закрученный удар справа, а Ожохин хмуро непроницаем, ступает, как монумент. «Очередная клюнула, с неделю уже никак не расцепятся, браво, браво, рекорд постоянства», – ухмыляется Митя, замолкает и смотрит вслед. Могучие оплывшие плечи стареющего атлета, чуть сбоку – перисто-лёгкая плиссировочка вспархивает над щуплыми ягодицами, и клочок холёного газона, поодаль – ротонда храма, оцинкованный куполок, а на сутуловатой спине птички вздувается тонюсенькая, будто бы из смятой папиросной бумаги, фирменная серебристая курточка, информирующая эмблемой с красно-синей гарнитурой, что теннис is aua geim, и белёсо-нитяной след в небе едва различимого самолётика, облако, бодающее ультрамариновую гору… А чуть пониже овальной эмблемы на курточке выписано мелкими буковками: cap of Devis.
Ностальгию нередко объясняют неким химико-биологическим мороком индивида, сроднившегося с окружающими ландшафтами, а вынужденно покинув их, эти ландшафты – природные, городские, – испытывающего гнёт разлуки и потребность восстановить контакты с привычной средой.
Другими словами, вину за смутные томления души частенько сваливают на так и не раскрытый наукой, но всесильный химизм, на неведомую пока, но приковывающую организм к месту и поддерживающую внутреннее равновесие индивида цепь формул, разрыв которой, вызванный потерей дорогого пространства, чреват мучительной неприкаянностью.
Вероятно, подобные, ловко пришиваемые к материальной подкладке гипотезы развитие науки возведёт в ранг теории.
Ещё того вероятней, что я, чересчур вольно тасуя факты и впечатления, приравниваю ждущий анализа объективный феномен к причудам своей ментальности – мне лишь бы говорить о своём.
Но как бы то ни было, я полагаю ностальгию недугом скорее временного, чем пространственного происхождения.
Недугом неотпускающей, как фантомная боль, порой съедающей личность и – на фоне актуальной повседневности – отдающей нарциссизмом тоски по себе-бывшему или, что то же самое, по времени, в котором выпало жить и которое миновало.
Хотя, само собой, те, кто далече, те, кто не могут вернуться в белоствольные пенаты или знакомые до слёз города и даже понимают, что не вернутся в них никогда, склонны привязывать болезненное чувство разлуки к месту.
Место конкретно.
Пропитанная историей топография, краски, запахи отпечатываются в памяти.
Более того: зрительные образы «неизменно неподвижного» места – старый дуб, купол церкви – продолжают жить в памяти, присутствием своим маскируя разрушительную работу времени, которая идёт в нас самих.
Даже распознав или интуитивно ощутив бессердечность времени, человек отчаянно цепляется за любовь к домам, деревьям, самонадеянно считая их хранителями своего прошлого.
Увы: дома, деревья недолговечны, как и года.
Я не улетал навсегда в дальние страны, не покидал город, где рос и жил, по сути, не покидал и мыс, где репетировал уже много лет тому назад ностальгию и на который с умилением смотрю сейчас.
Стучу, чтобы не сглазить, по деревянному цветочному ящику, одному из тех, что обрамляют кафе у пристани: до сих пор между мной и местом время не возводило непреодолимых преград.
Их громоздило мнительное воображение.
Сколько сезонов, восторженно жмурясь от изумрудного сверкания моря, омывающего аметистовую горную цепь, я боялся лишиться своих сокровищ!
Сколько раз, прощаясь, суеверной монетой выкупал у волн право на возвращение!
И судьба снисходила, я возвращался.
Почему же стенаю, как обделённый?
Каждый прожитый год – что там год, бывает, что и день, час – отношу к утратам, принимаюсь заново расписывать и переписывать минувшее чистейшими красками, пытаюсь оживить то, что казалось утраченным и невозвратимым.
Возможно, странноватая реставраторская миссия, которую взвалили на себя память с воображением, имеет какой-то познавательный смысл?
Ведь я, хоть и безуспешно пока, но стараюсь уразуметь, по какой такой надобности время с издевательским постоянством подносило мне дивные подарки и тут же торопилось отнять их, едва я успевал сорвать с них пёструю упаковку.
Притча во языцех этот мрачный антигерой с ракетками, наложницами – видали ли, кого вчера танцевал, слыхали, что отчудил? Ну и гнусный этот Ожохин, вот уж обормот-обормотище, вот уж носорог настоящий – несётся святое негодование с курортных амвонов. Ну и сукин сын, хам, матерщинник, как земля таких держит, и опять – Ожохин, Ожохин… Загадочный перекос неприязни, свидетельствующий лишь о несомненной популярности антигероя: даже за много лет случайных вынужденных контактов отпускники так и не узнают фамилий друг друга, а у Ожохина почему-то никто не знает имени, только прозвище, которым собутыльники величают с уважительной интонацией, – Веник, Веник… Что-то вроде преступной клички, да и чёрт ведает, как зовут его в паспорте, не интересно, зато фамилия ему так идёт, так созвучна его замшелости, что нарочно лучше было бы не придумать. Вахтанг, помнится, театр одного актёра затеял и ну смаковать тембровые оттенки, так, сяк произносит и вдруг – поспешно выдыхает, а то и, кажется, выплёвывает фамилию целиком, будто обжёгся горячей картофелиной, а потом перекатывает, перекатывает под языком по буквам: о, ж, опять о, растягивает по слогам уникальную фонетическую конструкцию смутной этимологии и вовсе забавно на китайский манер выворачивает – О-жо-хин, тем паче что по контрасту с большим пористым носом, большим, рваным ртом близорукие зеньки у Ожохина под роговыми окулярами маленькие, узкие, слегка раскосые, а когда очки снимает, то органы зрения вовсе забиваются в щёлки между жёсткими, тёмными веками, и получаются вроде как приоткрытые подозрительно створки озёрных ракушек, а в глубине – грязно-жёлтые слизняки.
Митя сторонится, пропускает несущуюся с лаем, визгом мимо курортного торгового центра стаю бездомных собак – лохматые, гладкошёрстные создания вольных кровосмешений! «Бабник, поддавала, горластый хулиган, трактор, кичащийся происхождением от сохи», – ярлыков хватает, но Митя добавляет отталкивающему образу ещё питекантропа с неандертальцем, ни за что ни про что оскорбляя неприхотливых поселенцев каменных эр. Ожохин-то, по правде сказать, не такой дремучий, как любит прикидываться, валяя Ваньку на людях и раздражая лощёных умников. Воля, пуще всех бед предостерегающий от убойной убогости российского ницшеанства, едва увидев, ещё ничего про Ожохина не разнюхав, уверять стал, что Ожохин насквозь коричневый, притом прилично подкован теоретически и ждёт, когда пробьёт час развесить на фонарях инородных болтунов, которые бредят чуждой соборному православному народу парламентской демократией. Короче, копится и подспудно бродит в нём национально-социальная злоба, а пока грубо выплёскивается по бытовым мелочам. Владик – даром, что ли, всё о всех знает? – коротенькую казённую анкетку достать сумел, так точнёхонько всё в ней соответствовало Волиному интуитивному фотороботу: окончив юридический факультет МГУ, новоиспечённый законник из села утверждается в столице, сколачивает шайки бригадмильцев, потрошащие стиляг и нарождавшихся фарцовщиков, выявляет и запоминает врагов, дежурит на джазовых концертах, поэтических сборищах, вернисажах оттепели… Недурно начинает, вот-вот совсем уж далеко-высоко попрёт, да вдруг – заминочка в карьерном росте, да надолго; похоже, скучно ему по крупицам подличать, не хватает ему оперативного простора, чтобы с тормозов сняться и врубить скорость. Но ни мычат ни телятся верховные власти, только орденами с золотыми звёздами утешаются дряхлеющие вожди да при встречах-проводах, истекая слюнями, лобызаются. Вот и затаился трезвый Ожохин в сокровенных своих намерениях, наблюдая затяжные эти маразмы по телевизору; заждался властной отмашки, зато в пьяном кураже открыто заявляет с презрительной, имитирующей ненавистную гнилую породу картавостью, что пробьёт час расплаты по идейным счетам, а он, Ожохин, ввергнет болтунов-разрушителей из интеллигентской прослойки в заслуженные страдания. Пора, кричит, перепившись, подлинного страха на них нагнать, чтобы сидели тихо и не высовывались, лишь на тесных кухнях своих могли за кофе помечтать о свободе как об абстрактной очищающей категории.
Я обвиняю время?
Пожалуй… Хотя это и глупо.
А пока – пока съезжает Ожохин на выгодную обочину. От роду не гнушающийся прихватить лишнего, теперь, по сведениям Владика, караул какую крупную деньгу зашибает, сохраняя для прикрытия неблаговидных своих делишек старые, со студенческой скамьи связи. Диплом за шкаф кинул, положил, как доверительно хвастает за выпивкой, болт на официальный статус и… Послушаешь его «не хухры-мухры» или юмор про кильку с тюлькой, которые, выйдя за евреев, стали мойвой и сайрой, – ну пьянь подзаборная, скобарь скобарём, по ведь при этом не только словечки про абстрактные категории и тонкие страдания вдруг в матерный загиб вставит или очки а-ля профессор солидно поправит на переносице – корифеем джентльменской игры заделался! Кто его самого обучил, когда, где – загадка, но вот вам упрямый незаурядный факт: Ожохин наживается теперь на теннисном буме, захватившем, как всякий бум, по преимуществу обделённый взаимностью слабый пол. Чуть ли не по двадцатке за час берёт, учит азам неумех, которые готовы регулярно деньжата выкладывать, чтобы форсисто выхаживать с ракетками в данлоповских чехлах на молниях; и всё подороже заламывает Ожохин за натаскивающее киданье мячиком слева-справа, да пользуется вдобавок дамскими прелестями, да так успешно, что отбоя нет от учениц, – отрабатывает Ожохин славу не только тренера, но и любовника-зверя. Заработал – спустил, эхма, пей-гуляй в баре, всегда готов на груди рубаху рвануть с купеческим ухарством, эхма, всё моё, всё, всех куплю! Всегда самый дорогой коньяк на столе, а ярится – как с бормотухи, нутро клокочет, для него вечер без дебоша – пропащий, лезет на рожон, швыряет в неугодных бутылки… До чего же гонорист сей чистый великоросс! Аборигенов провоцирует, дразня черномазыми, Нодара в дневном подпитии задрал на площади: что, орёт, чурка, тачку лакированную свою учёной должностью дутой-передутой день-деньской караулишь, когда держава на полях и в цехах горбатится. Ну схлопотал сдачу, не отходя от кассы, дружки-то у Нодара с тяжёлыми кулаками, слава богу, тут же у храма топчутся, в обиду не дадут, хоть Мохаммеда Али скрутят, превратят в отбивную. Вот и расхаживал потом Ожохин, на радость идейным противникам, с распухшей рожей, впечатляюще замазанной марганцовкой. Да он и дорогих подруг, теннисных питомиц своих, что гроздями на нём виснут, рад-радёшенек до драк стравливать – залыбится вдруг эдак мило-мило, дескать, и у него, толстокожего, может быть слабость: кетч обожает. И до чего ж скандальная, с публичными истериками на пляже, рыданиями и царапаниями в опасной близости от сомнительно защищённых очками глаз тянулась у Ожохина связь с намертво втюрившейся в него дылдой-чешкой. Припухло-розовая, светло-крашенная, завитая Милена, шизанутая училка из Брно, исхитрялась без путёвок сезон за сезоном возникать в кульминациях ожохинских романов и, шуганув очередную соперницу так, что её и след простывал, обрушивать на изменщика изнурительно-крикливые страсти, которыми, как уверял Вахтанг, она подсознательно мстила за братскую оккупацию.
Однако словно комариные укусы для бронированного Ожохина и кулачищи джигитов, и женские ногти… скорей даже почётнейшие знаки внимания, льстит ему любой хибиш вокруг несравненной его персоны. Пробить же Ожохина может только его оружие – только поражения на корте ему истинную боль причиняют, это не то что хрип от удушливого удара под дых или разодранная щека, украшающие героя. Из глаз-щёлок, когда очки снимает, чтобы отереть полотенцем мокрую будку, вытекает белёсая щёлочь беспощадной, но в миг поражения бессильной злобы. А повергнуть Ожохина ракеткой на всём мысу один Владик может, если, конечно, в ночном преферансе не перегорит, настроится; всё цивильное племя дикарей на него в канун игры молится, напутствуя на смертный бой, кидаются на шею, чмокают презирающие хамский ожохинский напор, незапятнанные его теннисным наставничеством интеллектуалочки. «Владюша, – пищат, – держись, крепись, за победу всё отдадим, это же событие!» Решающий поединок, финал турнира, собирающий на облупленных скамейках главной площадки сливки общества, к петушиной гордости Цезария, пожизненного властителя кортов. Цезарий, забавнейший тиранчик с подбритыми усиками, брюшком, нависающим над затейливо выштампованной рельефными женскими телесами и жеребцами блестящей пряжкой ремня добротного кипрского производства, который поддерживает белые фирменные штаны, с австралийским свистком на цепочке – подарок самого Метревели! Да-а, с выкладкой и аксессуарами у Цезария всё о’кей, – Цезарий важно взбирается на судейский насест демонстрировать серьёзно-озабоченной суетой привязанных к мячу чёрных жуликоватых глазок доброжелательную, строго-неподкупную спортивную справедливость. И как побил Давид Голиафа, так вертлявый, веса пёрышка Владик, он же просто Вла, он же Дик, ибо за двоих носился по корту, хотя ракетка была одна – что бывало, то бывало, – побивал в решающем сете тяжеловеса Ожохина. И только последний невзятый мячик по корту чиркнет, как бедняга Ожохин из железного бойца в мешок с дерьмом превращается, бездыханно рот разевая, как боксёр в состоянии грогги, – кажется рефери отсчитывает секунды, хотя Цезарий отсчитался уже и бабки в счёте подбил, сейчас памятный приз вручит… Как-то Владик до того уверенно на победу настроился, что какая там пулька в сигаретно-винном ночном угаре – даже спортивный режим не испугался нарушить всего за час до начала матча: на пари пару литров маджарки выдул под трепетной пергалой лидзавского дворика. Не иначе как счастливый случай подгадал у него подъём биоритмов, а у грозного противника – спад, чудеса – вчистую разбил, хотя в животе помузыкальнее, чем в бурдюке, булькало… То-то дикарские ликования огласили мыс, то-то закатила отдыхающая интеллигенция пировы торжества! Но вообще-то – справедливость так справедливость! – Ожохин теннисист классный, матёрый, знающий себе цену, пусть на вид лучше бы ему штангу жать или возиться на борцовском ковре. Играет Ожохин без тенниски, в одних – красных, с разрезиками – трусах, чтобы зримо подавлять мускулами, обманывать простаков, что грузен чересчур, неповоротлив, не выдержать ему темпа, а до неожиданно резко закрученных мячей не дотянуться, однако реакции у гада отменные, там ждёт, туда прыгает, куда мяч летит, чувство позиции, техника выручают. А сваливал его Владик исключительно азартом, наскоком, преданностью заведённому безостановочному движению, а Воля добавлял, что – классовой ненавистью, хотя ещё ох как точно измерять надо было бы, у кого она, классовая ненависть, посильнее…
О, эти замедленно-тягучие, вкрадчивые ожохинские перемещения, эта затравленность и напускная сонливость дикого зверя в игровой клетке, эти ожидающие подачу, впрямь похожие на закрытую боксёрскую стойку позы с напружиненными ногами, ссутуленной могучей спиною, как бы безвольно опущенными плечами, потно-блестящими складками брюшного пресса! Замах с подъёмом на цыпочки, удар – прочерчивает заросли лавра белое ядрышко, Ожохин под одобрительные кряканья своих поднабравшихся секундантов и болельщиков отбивает, ловко разводит многоходовую, усыпляющую долгими невинными перекидываниями комбинацию, которую вдруг кончает лёгким скачком к сетке и хлёстким – будто, всю злость вложив, прихлопывает муху – неотразимым своим крюком справа, таким стремительным, что даже не удаётся разглядеть взметнувшуюся ракетку… – А Виталий Валентинович приехал? – спрашивает Илья и, не дожидаясь ответа, сообщает без всякой связи, что заходил к Гие, услышал о гибели четырёхсотлетней сосны. Митя после минуты молчания печальную новость подтверждает личным свидетельством: стоял рядом со срубленной воздушным топором головой, вот и преследуют – никак не отстанут – виденья давнего палаточного счастья под хвойной сенью.
Угасая, час, день, год уходят.
Остаётся бесплотная образность прошлого, его вокзальный привкус.
Горчит, словно расстался навеки с женщиной в тот самый миг, когда вдруг понял, что полюбил.
И добро бы испытывать горечь расставания раз, два… А если – ежедневно, ежечасно, ежеминутно?
Если будто бы живу на перроне, не отнимая платка от глаз?
О! Оплакивая угасания, расставания и прочая, прочая, я готов выложить на бумагу щедрую поэтическую обойму!
Вспоминать для меня – всё равно что сидеть, поёживаясь, у догоревшего костра и ловить в золе перемигивание искр.
Или – провожать в воду солнце и обманываться потом под вспыхнувшими холодом звёздами, что поймал-таки промельк последнего зеленоватого лучика, посулившего трепетность духовных прозрений.
Но будут же другие дни, годы!
Плевать на паспортные данные! Чувствую себя молодым, меня влекут свежие впечатления.
Только в том-то невесёлая заморочка и кроется, что другие.
А точат сознание те, ушедшие, их лучи, отблески…
Удлиняя зыбкие тени, прошлое бередит воображение, непостижимо соединяет в одну две контрастные картины, две цвето-теневые гаммы.
Оживают былая чёткость, яркость.
И размываются черты, меркнут краски: лик мира окутывает траурная вуаль.
Не потому ли любуюсь лицом, пейзажем, что помрачившееся сознание ждёт утраты?
Неужто так испорчен, что, едва соприкасаясь с жизнью, тут же отвергаю её, как бы мысленно обращая пережитое вспять?
Но разве это не от века заведено? Нежная весенняя листва помнит щемящую красу осеннего увядания, притаившаяся в любой радости, в любом проявлении красоты боязнь утраты делает бесценным всякое переживаемое мгновение. Разве, прежде чем необратимо перетечь в прошлое, настоящее не авансируется из его запасников, обосновавшихся в памяти?
Допустим…
Но от этого не легче.
Хорошо хоть – пытаюсь утешиться, наблюдая завидное здоровье отдыхающих масс и жертвенно ставя на себе крест, – хорошо хоть, что немного таких, как я, отравленных прошлым.
Иначе стряслась бы общечеловеческая беда.
Сладкий яд прошлого, накапливаясь в коллективном сознании, угрожал бы будущим поколениям пострашнее, чем оседающий в костях стронций.
Если бы мне хватило пороху, я написал бы белую книгу утрат.
Многостраничную – по числу утекших дней, минут, секунд – книгу.
Неподъёмно тяжёлую, до скуки подробную, дотошную.
Вроде конторской.
Но – паряще-возвышенную.
Тянет породнить поэзию с канцелярией.
И ещё: привиделась большая весомая книга как квинтессенция мелкотемья, всего того, что заведомо исчезает.
6
– Вдоль моря, в роще, тянулись могильники. Многие из них обнаружились при возведении корпусов, профсоюзный курорт построен на античных захоронениях. Групповые погребения – это продолговатые, с закруглёнными краями ямы, в которых покоятся в разных позах неодинаково ориентированные останки. В предхристианских захоронениях погребённые лежат, скорчившись, на боку. Можно предположить, что покойников опускали в яму в деревянных гробах. Однако к той эпохе относятся и захоронения покойников в амфорах – иногда в них хоронили тела, чаще – оставшийся после кремации пепел, обгоревшие кости. В двухметровой амфоре найден согбенный скелет и серьга из тонкой золотой проволоки…
Лёгок на помине! Виталий Валентинович Нешердяев, седовласый профессор-зодчий, изумительный педагог, знаток архитектурной классики и тонкий акварелист, со вкусом пьёт тархунный лимонад – сумка с ракетками прислонена к ножке белого креслица – под полосатым тиковым тентом, тет-а-тет с прехорошеньким свеже-румяным длинноволосым созданьицем, отмеченным также стройной шейкой и очаровательными ямочками на упругих смугло-румяных щёчках. Сибаритствуя в солнечной жёлто-зелёной пятнистости, достойной импрессионистской кисти, сидя бок о бок с тонизирующей цветущей юностью, Виталий Валентинович ничем решительно в импозантной своей осанке, никаким мимическим нюансом на лице строгой патрицианской лепки не выказывает эгоистического довольства, напротив, его притягательный облик победителя лет и баловня обстоятельств приглашает, не медля, шествовать за ним по пути блаженства. Неторопливыми выверенными жестами, улыбками он не только демонстрирует несказанно-приятную готовность потакать милым прихотям прелестнейшего ребёнка, доверчиво трущегося о его плечо тугой щёчкой, но и заражает случайных прохожих, желающих причаститься, реальной картинкой счастья, какое видится разве что в дерзкой грёзе. Виталий Валентинович зримо напоминает о радостях жизни, которые госпожа удача вручает тем, кто изъявляет порывистую охоту ими, радостями, с толком распорядиться. Однако же приглашает-заражает-напоминает он в высшей степени деликатно, без подстёгивающих, а то и отпугивающих назиданий, не выпячивая то, чем владеет. Ни на йоту нет в нём от примитивного сластолюбца, истекающего от одного взгляда на едва оформившуюся девчушку, от рисовки пижонов-бодряков в возрасте, напоказ, как ирокезы скальпы, выставляющих трофейные юбки, и ничуть не походит он на вызывающих усмешечки мотыльков-долгожителей, хоть и на грани инфаркта, но порхающих от увлечения к увлечению. В том-то и штука, что этот пожилой голубоглазый вдовец спортивно-мужественной и при том утончённой наружности, продолженной безукоризненными манерами, привлекает солидностью, естественностью поведения. Стоит задеть его краешком глаза, как даже в закоснелых натурах просыпается чувство подъёма, кровь ускоряется не обязательно возвышающей, но зато мощно стимулирующей завистью к столь впечатляющему союзу здорового духа с натренированным, сверхздоровым телом. Да-да, поражает духовность, светящаяся в его седом щегольстве, удивляет стать старца – гибкого, стройного кудесника горных лыж, тенниса. Шутка ли, семьдесят с хвостиком, а выбежит на корт – так изрядную фору молодым даст. И не тужится до седьмого пота – играет. Если финальный поединок между Владиком и Ожохиным, настоявшись на нездоровых инстинктах идеологической неприязни, попахивает грубой смертельной схваткой, то утешительный матч за третье место с участием Виталия Валентиновича выливается в чистой воды спектакль, а заодно – в урок сценического движения. До автоматизма усвоенные ещё в детстве теннисные приёмы-жесты не стесняют импровизационной свободы, плавно и отточенно-экономно переходят один в другой, сплетаясь в цельный, по-балетному пластичный узор. Выверенные взмахи-удары, мелькания, взблескивания на солнце тянущегося к мячу прозрачно-сетчатого овала, хищноватый очерк устремлённого профиля – чем не образ борзой в полёте? Его испытанным оружием была, есть и будет, наверное, красота! Щедро уступая победные очки молодым амбициям, он тонко переводит спортивный бой в его захватывающее пантомимическое изображение, не менее щедро дарит эстетическое наслаждение от гармоничного непревзойдённого стиля игры, чуждой как силовой устойчивости Ожохина, так и суетливо-избыточной мобильности Владика. В драматичнейших перипетиях представления, когда Цезария, кажется, вот-вот катарсис свалит с судейской, похожей на насест вышечки, неутомимая поджарость Виталия Валентиновича, не теряя темповой лёгкости, остаётся воплощением достоинства, подкупающей особенно в нашу стрессовую эру старомодной невозмутимости, лишь глаза горят синим вдохновением актёра, овладевшего вниманием партера. А после игры, после непременного поклона сопернику, затем – зрителям, так и подмывает обратиться к нему: милостивый государь, а то ещё лучше: сэр… Веет от него обольстительной сдержанностью, каким-то антиисторическим ветерком вечного аристократизма, чудится порой, что чары его переносят нас в старую добрую Англию. О, он не меняется, совсем не меняется, ведь и двадцать лет тому назад так же выглядел, улыбался, кланялся, так же играл, правда, тогда ещё, до сооружения на мысу курорта с отменно оснащённым спортивным сектором, блистал Виталий Валентинович на стареньких, видавших виды кортах в Гагринском парке.
Вот именно: неподъёмная книга, возвышающая долгое оттепельно-застойное время, – как квинтессенция мелкотемья.
Скромненький Брод на Гочуа, одомашненный клуб Лидзавского пляжа, покой, тишина и прочие прелести девственного древнего мыса ценились на фоне Старой Гагры – до дивного, разбитого принцем Ольденбургским дендропарка её, где по вечерам кипело веселье, было всего-то двадцать пять километров. Испытав вдруг острое желание встряхнуться, пошуршать, как говаривал Воля, на людях, где себя можно показать и на других посмотреть, отправлялись в возбуждающе-праздничную толчею Жоэкуарского пятачка, этой асфальтовой площади неправильной формы меж деревянным морским вокзальчиком и расположенным визави побеленным гастрономом, чья витрина, удваивая закат, заодно кружила головы внушительной пирамидой Кахетинских вин. Всё как всегда, начиная с пятидесятых-шестидесятых, словно время остановилось – на ярко подсвеченной веранде ресторана «Гагра», примыкающего к гастроному сбоку, кутят дельцы с аляповато разодетыми матронами в перстнях; прыщавые гастролёры-стиляги при коках, в тёмных пиджаках с осиными талиями, шёлковых галстуках с обезьянами, песочных ли, кремовых брючках-дудочках, пугают конвульсивными танцами, отдыхая на всю катушку от фельетонных преследований московской и ленинградской «Вечёрок», ополчившихся против плесени; и конечно, неотразимые, с ленивыми движениями горбоносо-усатые боги картинно пируют за столиками для дорогих гостей, вплотную придвинутыми к резному лазоревому барьерчику веранды, за которым…
Досужие философы охотно рассуждают о духовной трагедии, о том, сколь методично был бы изведён бесцельно-беспроблемным существованием людской род, если бы человек вдруг обрёл бессмертие.
Стращают: мол, человек бы неминуемо размяк без страха ухода и стимула созидания, погряз бы в нирване безделья и напрочь лишился бы обещанного праведным трудом шанса на счастье.
Если бы да кабы…
Искусственный ужас этих абстрактных угроз бессмертия вызывает улыбку – его не испытать, не вообразить.
Зато гроб высится неопровержимым аргументом на пьедестале вечных споров о смысле жизни.
Вчера в курзале.
Солидная, залитая мягким светом гостиная с ампиром красного дерева.
Дородный седовласый господин в кресле.
У фортепиано – белокружевная, в жемчугах, холёная дама с гладко зачёсанными блестящими волосами.
И тут, оплавляясь, скукожились стены, потолок, окно с гардиной.
Метнулось по гаснущему пространству лилово-угольное пятно с толстеющим огневым кантом, раскололось на острые куски ветвисто-зелёной, как молния, трещиной, которая, обратившись в горизонтальную полосу, сразу же взрезала сужающейся щёлкой в ничто глубины распадающегося кадра, и – тьма.
Пока склеивали плёнку, подумал, что на таком скоропалительном ребусе вполне может оборваться жизнь.
Навязчивые мысли-картины драпируют дни крепом.
Сознание примеряется к неминуемому исчезновению, возвращающему в бездну, из которой оно пришло, опробывает жуть забвения, свербящего расставания со всем, что было и есть.
Но страшней, противней самой смерти – похоронный обряд: сопяще-потное копание ямы, заколачивание, удары земляных комьев…
Или – после скорбно-елейных речей с Шопеном – пламя механической преисподней.
Вот бы раствориться, распавшись вмиг, вне тягостных химико-биологических возгонок, которыми верховодят бактерии или высокие температуры!
Разве могут утешить по сути атеистические молитвы за упокой ли, во здравие, превозносящие обращение того, что было человеком, в травинку, поглощение небесной синью облачка угарного газа, продрогшего, как мираж?
Насколько гуманнее обставлялся уход, когда встречал старый угрюмый перевозчик и вместе с всплесками вёсел замирали всплески памяти об уплывающих берегах.
Скользили тени, смеркалось.
Притихшие пассажиры лодки всматривались нетерпеливо: как там?
А сзади, за кормой, и где-то высоко-высоко над покинутою землёй мерцали отнятыми зарницами стычки бледного света с матовой тьмой.
Убогость фантазии!
Стикс, неотличимый от Сестры или Оредежи? Извивы берега, глинистые проплешины в ивняке…
Тонуло солнце, дотлевал закат, и с наступлением темноты – вязкой, жирной, как масляная краска для написания южной ночи, – асфальтовую опушку парка затапливает человеческая лава, алчущая наслаждений. Ленивая томность атмосферы, жадная распалённость тел. Да, вспыхивают фонари, и едва ль не всё тайное становится явным: округлые мраморные плечи, распущенные волосы, знойная полнота крашеных блондинок, делающихся лёгкой добычей литых брюнетов с остекленелой влагой во взоре, дерзкие дефиле на высоченных шпильках юных модниц со смелыми разрезами на юбках, показная независимость дамочек бальзаковских лет, тайно постреливающих глазками по мужским компаниям, напыженность мозгляков с прилипшими к черепам отчаянными зачёсами, удаль мичманов-сверхсрочников, метущих клёшами, – кого только не увидишь здесь! Весёлые завихрения вокруг остряков с золотыми коронками, самодовольная, выжидательно-притягательная медлительность любовников-рекордистов с культуристскими мышцами, гарантирующими стальные объятия… Бог мой, где все они теперь, незабвенные соискатели тех гагринских наслаждений, куда подевались? Лифчики сквозь капрон, соблазнительно расстёгнутые на волосатой груди рекордистов рубашки, болтающиеся амулеты из крабовых клешней, акульих зубов, пенящееся сусло желаний, вожделений, тщеславий, возбуждение пляжем, алкоголем, сексом, оранжерейная влажность воздуха, коктейль духов, пота, пряных цветов, пережаренного кофе, горелого мяса… Бело-ало-жёлтая спираль на клумбе, изумрудные всполохи листвы и – шарканье подошв, смех, хохот, приправляющие музыкальный салат, суверенные повадки завсегдатаев из двух столиц, которые хорошо знают, что обещают им ежевечерние гагринские представления. И робость провинциалов – заскочили в гастроном отовариться к жалкой домашней трапезе, а случай выталкивает на авансцену в клетчатом штапеле, китайских штанах, с кефиром в авоське. И расслабленность зевак, сосредоточенность выжидающих, кажущаяся беззаботность махнувших рукой на удачу в этой ночи: сидят себе спиной к чёрному, как нефть, морю на алебастровой балюстраде, о бетонное основание которой в музыкальных паузах бьются волны… Сидят, болтают ногами, глазеют на монотонное колыханье толпы, а пожилые хозяйки спальных мансард и пеналов-сарайчиков в байковых цветастых халатах и стоптанных войлочных туфлях застыли тряпичными изваяниями на прогнивших крыльцах ближайших халуп, выискивая любопытными глазками в толпе своих квартирантов. Бурлит подсвеченная электрическими огнями неряшливая порочная Пьяцца, а рядышком, за опутанной вьюнком полуразвалившейся стеной старинного форта затаённо дышит обходящаяся без электроподсветок Пьяццетта. Лишь угадываются во тьме изящные металлические воротца, да ступеньки почты, да задраенные на ночь киоски левой, завезённой из нелегальных сухумских артелей галантереи, и покоем замкнутого уюта веет от деревянных балкончиков, крутых черепичных скатов, обрамляющих выступами и нависаниями экзотический островок тишины с еле слышным лепетом волн, хрустом гравия на дорожке, приглушённой воркотнёй парочек и нашёптываниями ленивых пальмовых опахал, в комплекте с большущими звёздами и полумесяцем похищенных у какой-то мавританской идиллии.
И сколько же времени прошло – час, два? Трам-тарарам с ресторанной веранды зовёт обратно, на Пьяццу, на веранде уже подают горячее, норильчане-мурманчане с длинными северными рублями в карманах силятся перещеголять крезов-кавказцев крупностью купюр, которые бросают оркестру, и оркестр разогрелся, раздухарился, а денег вообще не считающие, шикарные, со смоляными шевелюрами, грузинские герои-любовники, эффектно обтянутые полосатым импортным трикотажем, и усом не ведут – что им до показного пижонства сорящих купюрами закомплексованных северян с обгорелыми, облезающими носами, когда они, подлинные хозяева праздника, покровительственно поаплодировав солистам-стилягам, исполнившим коронные буги-вуги, уже допаивают за столиками у привилегированного барьерчика шампанским и коньяком отловленных в Сочи мягкотелых шестимесячно завитых блондинок с выщипанными бровями, карминно-жирными ртами, трогательными мушками и прочими жгучими прелестями, запрятанными в пышные тафтовые складки до предъявления товара лицом, до ночных неистовств в гагрипшинских номерах, за свой неполный век столько стенаний краткого счастья выплеснувших в отворённые окна на металлический блеск магнолий…
Но, бывает, пухлых знойных раскрасавиц умыкают не в Сочи, а тут же, на аллее чудесного, орошённого солнечными лучами парка, которая тянется от автостоянки у полукружья розовой колоннады к пруду с чёрными лебедями, пеликанами и очаровательной, будто скопированной с подкрашенной японской гравюры, фоновой бамбуковой рощицей. Умыкают заблаговременно, днём ещё, пока экскурсовод вдохновенно расписывает деяния родича царя, чудака принца Ольденбургского, превратившего малярийное болото в цветущий курорт и разбившего здесь, на гиблом месте, этот дивный дендрарий-парк. Потом он показывает вкрапленные в кудрявый склон сказочные домики-пряники с башенками и красными крышами – из этих домиков любовались когда-то морскими далями приживалы царской семьи и прочие бывшие, давно умершие или убитые… И уже без попутных раскрасавиц, легкомысленно ублажавших сборную экскурсию заливистым смехом и оголёнными формами светлогривых львиц, двигает после парковой передышки на Рицу кавалькада голубых открытых авто с нестерпимо горячими, смрадно дышащими радиаторами. И зияют бреши на кое-как затенённых мотающимся парусиновым тентом протёртых кожемитовых сиденьях, и, громоздясь на своём отдельном, возвышенном месте, привычно зажав тяжеленную треногу между коленями, прикидывает убытки от беспутных беглянок сопровождающий экскурсию фотограф… Но где бы ни захватывали свою соблазнительную добычу всемогущие кавказские боги, по обыкновению – странная традиция! – празднующие упоительные знакомства на доступной всем взглядам демократичной веранде с лазоревым деревянным барьерчиком, назавтра вечером, накануне расставаний с клятвами в верности до гроба и жаркими поцелуями, они, не боясь умопомрачительных счетов, закатывают прощальные банкеты с купленными музыкантами и лезгинкой под занавес непременно в высоком, торжественном, как неф собора, «Гагрипше», где столы с словно вылепленными из цветного воска грушами, персиками, обложенными прозрачно-розовым виноградом, свисающим из плоских, приподнятых над остальными блюдами ваз, заказываются в торце зала, поближе к вычурному витражу с фантастическим видом на глицериновое море и луну, которая беспомощно застревает в циферблате и стрелках затейливо вкомпонованных в стёкла и изгибистые переплёты часов.
Дабы ощутить длительность, Анри Бергсон рекомендовал проследить, не отрываясь, за тем, как тает кусочек сахара в стакане чая.
Вряд ли желая отравить этим простецким, с уклоном в натурфилософию опытом приятное чаепитие, лукавый интуитивист-идеалист тем не менее, как кажется, намекал, что даже безобидное наблюдение за ускользающим объектом – или процессом? – выльется в душевное страдание, ибо слежение за убыванием сладкого кирпичика того и гляди подскажет, что в любом моменте своего дления время и из нас вымывает молекулы жизни, вымывает, оставаясь незамеченным и не оставляя улик.
Не убеждён, что в испытании, предложенном Бергсоном, содержалась недвусмысленная оценка мокрых дел времени, которое не знает морали и тихим преступлениям которого попустительствует принятый раз и навсегда надмирный закон.
Но я подумал, что благодаря бессрочной индульгенции и статусу невидимки время творит свой жестокий суд не таясь, открыто, хотя по сути – с изворотливостью убийцы, растворяющего жертву свою в ванне с серною кислотой.
Покружив по асфальтовой плеши-площади, насмотревшись на чужой праздник, который стал общим праздником, остаётся занять поскорее шаткий столик под разлапистой чинарой на задах ресторана, чтобы обжигаться чебуреками, только-только выхваченными из булькающего прогорклого масла. Всё как всегда – вторая порция, третья, потом шашлыки. Стол укрепляется предусмотрительно привезённой чачей, огонь заливается терпким Телиани, слегка подслащённым Киндзмараули, купленными за углом, в гастрономе, благо гастроном открыт до полуночи; звенят стаканы, щедрые жилистые куски шашлыка летят нагловатым псам, гоп-компания гуляет в полутёмной кулисе театра кукол, теней, силуэтов… Всё как всегда – трепыхаются подсвеченные фонариками пятнисто-изумрудные кружева, приторной вонью несёт из мусорных баков, тёмные личности, на минутку оставив кушанья с дамами, обговаривают гешефт за кустом азалии. Тут же, на гравии меж столами, разгораются кровавые стычки местных подростков, крики, свистки, топот убегающих, преследующих, которые врезаются в лениво кружащую, как по фойе, толпу. На железной площадке открытой лестницы с бесстыдством неореализма намыливает голову над тазом женщина в комбинации, под площадкой, у проёма раздачи чебуречной, судачат официантки, а только разбегаются с подносами, в продолговатый горизонтальный проём высовывается багрово-потная, в грязном колпаке, физиономия, и оживает клеёнчатый шедевр Пиросмани. В окошке, что горит в хаосе перил, лестничных маршей, ржавой жести, цинковых заплат и верёвок с распятым бельём, со вкусом возится парочка – взлетев над занавеской, четыре руки стягивают через голову юбку. Цветисто, переливчато попыхивают гирлянды лампочек над прилавком с ядовитыми сиропами, мороженым, всё гуще, гуще пропитывают воздух кофейные испарения. «Кофе, ещё кофе!» – орут из-за столов. Кофе перешибает прочие запахи, с ним соперничает лишь парикмахерская, единственное громоздкое кресло которой вынесено на свежий воздух. Очередная благодушная жертва, погрузившись в кресло, с готовностью отдаётся в волосатые лапищи только-только наточившего длинную бритву десятипудового усача-цирюльника, а пока приступает он к экзекуции, вокруг продолжают смешиваться, сгущаясь в возбуждающий гул, восклицания, повизгивания, шуточки, матерок, пьяные пререкания, вскрики, женский смех… И звенят стаканы, выдёргиваются из бутылок пробки, и сколько же прошло времени, – ещё один час? За ресторанным барьерчиком комкает, волнуясь, синенький скромный платочек задастая, затянутая в муар певица. И уже щекочет ноздри пахучее дуновение – клиента толстяка-парикмахера окутывает прохладное, пощипывающее облачко «Шипра», в обмахиваниях хлопает полотенце, словно парус фелюги. Голос, зычно возникающий из щелчков громкоговорителя, оглушительно, силясь оповестить Вселенную о соблазнительной плав-услуге, зазывает на ночную морскую прогулку с музыкальным сопровождением и буфетом, и белеет у причала, взлетая и падая, юркое судёнышко с полотняным оборчатым навесом над кормовыми скамьями, и матрос уже таскает разливное вино, пиво, и, несколько опережая отплытие, желая поспорить с ресторанным оркестром, после вальсовых сантиментов наяривающим – у лабухов второе или третье уже дыхание? – к припадочной радости вмиг помолодевших стиляг, финальные буги-вуги, пронзительно запускается в капитанской рубке пластинка Шульженко о голубке из Карибского края, или Ружены Сикоры про московские окна, или снятся Лидочке Клемент озёра Карелии. И сразу, спохватившись, о море в Гаграх и пальмах напоминает, пережимая акцент, абхазский артист вокала, а когда отчаливают, терзает душу проникновенностью «бесаме мучо» зарубежный шептун. И смотришь, смотришь на заключительные томления распадающейся на парочки нарядной толпы, а вдали, точно мираж, чудесно подгаданный расписанием крымско-кавказской экспрессной линии, обозначая затерявшуюся в черноте черту горизонта, к которой шумно устремляется катер с клюнувшей на музыкально-лирические посулы счастья хмельной ватагой, главной зрительной приманкой для осовелых романтиков ползёт в театрализованном зареве брильянтовая россыпь «Адмирала Нахимова», даже красные полосочки различимы на трубах многопалубного трофейного тихохода.
Снова и снова возникает перед глазами окаймляющий мыс широченный галечный пляж.
Зной.
Ленивые, чуть враскачку, движения рыжих животных.
Одинокий пьяный парус вдали, всплески волн, крики чаек.
И тишина.
Такая же, наверное, какая столетиями околдовывала этот плавно изогнутый берег до того дня, когда я его увидел впервые.
Но тогда меня звала Гагра.
Я спешил на субтропический фестиваль.
И что-то романтичное, тревожно-влекущее завязывалось на этой вульгарной, подсвеченной, как провинциальная сцена, курортной площади, в этом буйном парке у моря, что-то упоительное, непостижимое для разума, бередящее, пронзающее сердце уколами предвкушений, властно торопящее жить, брызжущее, яркое – то, что потом безжалостно тускнело с годами… Юность, юность! Мы, стареющие питомцы твоих бурь и надежд, смотрим на себя – тех, прежних, – прибившись к тихой пристани усталости и разочарований. С вкрадчивостью потаённого знания вели нас судьбы разными дорогами к последнему рубежу, и вот мы вместе опять, на повторенном на бис в памяти безалаберном представлении – смотрим, смотрим назад сквозь влажную пелену. А всё то, что сейчас и рядом, что называется настоящим, с боязливостью незрячего ощупывающим будущее, блекнет, зябнет, вязнет в сомнениях, сопутствующих остыванию крови. И пусть всё минуло, зачем горевать? Пусть только не трогает обесцвеченность умирания этот пошловато-пёстрый квант прошлого, что так живо набухает в глазах. Спасибо за каприз случая, за то, что выпало оглянуться на промельк дерзкого, ослепительного десятилетия: нам между двадцатью и тридцатью, всё предстоит ещё, горизонт громоздится неясными контурами вымечтанных свершений. Юность, молодость – вот она, истинная пора жизни – напористой, открытой, устремлённой вперёд с естественностью, с доверчивой слепотой животного. А потом, потом, когда начинаешь, вспоминая, оглядываться, оступаясь на каждом попятном шаге, всё меньше живёшь, всё больше переживаешь. Но что же завязывалось тогда? Да то, что наливаясь ожиданиями, вызревало позднее – разве мало? – годы, долгие годы. И беззвучный внутренний голос утешает: назло скучным фактам и вопреки сомнениям завязь не обманула, нет, нет, жизнь удалась, состоялась, и длится, длится ещё, если ты до сих пор видишь, слышишь, если кипят над головой могучие платаны, окатывает море солоновато-плотным свежим дыханием, смеются женщины, омоложённые гормонами памяти. Спасибо, случай, спасибо за возрождённый миг пряного великолепия, за юношескую жадность желаний, нежданно разбуженную постфактум иллюзорным блеском возвращённых богатств. Всё здесь опять смутно-многозначительно и прекрасно! И мы по-прежнему шумны, беззаботны, точь-в-точь подвыпившие именинники, встречающие дарителей. Мы забыли о близком прощании и вдохновенно разыгрываем зациклившийся на начале счастливый конец – всё сбылось, всё совпало, а ты так свыкся с ролью назадсмотрящего, так увлёкся собиранием давно облетевшей, разметённой ветрами лет праздничной мишуры, что ощущаешь вдруг, как повеяло робостью, интимностью, чистотой оттуда, издалека, из распалявшей инстинктивными надеждами круговерти. Почему же именно сюда ты ненадолго вернулся, пятясь по невидимым следам ушедшего времени, чтобы облегчить душу лирическим выхлопом? Что за откровение ищешь ты, внимая бормотанию крон и волн, на грубо декорированном пальмами злачном месте? Дивное побережье! Вечные язычники будут провожать здесь в море утомлённое солнце, хмелея на пиру угасания. Даже густая ночь будет ярка здесь, как магниевая вспышка, как эта стольких повидавшая площадь, которая и после тебя будет до беспредельности космоса разлетаться в витрине гастронома от полыханья заката.
Кто-то из древних – кажется, Платон – определял философию как упражнение в смерти. Упражнение интеллектуальное.
А не является ли ностальгия эмоциональным упражнением в этой отталкивающей неотвратимости?
Глотая сладостно слёзы, ретушируя воображением тускнеющие в памяти фото, не готовимся ли к великому и тайному, чего никто не минует?
Ностальгия тревожит не столько тоской по прошлому, сколько предчувствием последнего прощания.
По умственной видимости – она, ностальгия, есть сожалеющее сейчас, по сути – подстроенная интуицией встреча в настоящем с собственным взглядом, который унёсся в будущее и брошен оттуда назад, на всё то, что было, брошен как бы из последнего, завершающего и оформляющего мгновенья на жизнь, ещё длящуюся, но словно накрытую уже тенью.
Выпалил с пафосом прокурора: я обвиняю… Я обвиняю время?
И – прикусил язык, вопрос подставил.
Но не потому, что устыдился высокой ноты – ударило током: это же не отчуждённая абстракция, это и моё время; мне не переправить дату рождения, не откреститься от него, моего времени, не отмыться.
Есть банальности, которые не перестают удивлять.
В акте оплодотворения любой из многомиллионных сперматозоидов может слиться с материнским яйцом.
Каждое их потенциальное слияние – свой вариант индивида.
Стало быть, каждое задирающее нос Я – лишь смехотворно вероятный казус генной комбинаторики, исключительное выпадение в жизнь из тьмы потенциальных возможностей.
Кто, однако, избирательно открывает дверь в мир?
Божественный ли это, благодетельный промысел, и впору пасть на колени, целуя воображаемую руку Творца?
Или истина в разрушительной ухмылке безверия, и жизнь моя, всех – разных, счастливых и несчастных по-своему – анонимная злая шутка, глобальное надувательство, достойное коллективной, общечеловеческой, так сказать, пощёчины, которую хочется неизвестно кому отвесить?
Шутка или случайность?
Да ещё – заурядная?
И тут же ищу индивидуальную лазеечку в исключительность; однако почерк дрогнул, буковки заскакали…
Нет, всё проще, бесславней, всё – как выпадет, как стечётся.
И бесценные жизни с их педантично закодированными неповторимостями вовсе не соизмеряются заранее с высокой ли, низкой целью, а, допустим, какая-нибудь нераспознанная макропульсация Вселенной покачивает колыбель Случая, где бесчинствуют статистические закономерности.
Конечно, эта безликая подоплёка бьёт по самомнению человека, вскормленного из гуманистической соски; лучшим, постигающим тайны мироздания умам, которым органически чужд цинизм, даже при взгляде на сутолоку элементарных частиц материи, а не то что на суету существ высоких и гордых, особенно трудно поверить в то, что Бог, забавляясь, бросает кости.
Но если судьбу каждой ставки и решает случай, лишь условно наделяемый – опять лазейка? – высшим смыслом, глупо было бы бессильную обиду на спущенный с небес распорядок рождений и смертей переносить на слепого исполнителя – время.
Солнышко блеснуло, я размяк и уже готов благодарить время, которое дало мне всё, что я сумел взять у него; глупо, явно глупо корить время за бездушие, за тотальную немотивированную жестокость.
Не отвести глаз… Как живительно и плодотворно для его покоряющего обаяния не ведать сомнений, приковывающих к маниакально замкнутым кругам мысли, не реагировать на болезненные колебания коры, подкорки, толкающие к непредсказуемым словам и поступкам! Заслуженно занимая центр внимания, Виталий Валентинович Нешердяев выгодно выделяется из склоняемых и спрягаемых курортной молвой знаменитостей обезоруживающей положительностью. В спонтанных радостях беспечно-развлекательной отпускной стихии затруднительно узреть все грани незаурядной личности, но некоторые грани, сверкая и переливаясь в щедрых лучах, бросаются в глаза как раз в мизансценах отдыха – ну хотя бы поведенческая уравновешенность и открытость, доброжелательность, тактичность, сплавляемые Виталием Валентиновичем в непревзойдённо лёгкое искусство общения. Подумать только: выходец из довоенного поколения, человек другого уклада, опыта, а – катализатор молодёжных компаний, прирождённый олимпиец, а – всем доступен, всем рад, вот все и восхищаются им с редчайшим единодушием, дивясь участливости, учтивости, неиссякаемому, мило приправленному иронией оптимизму. Всё-всё всем импонирует в нём, не поскупилась судьба одарить достоинствами, по заслугам и отношение – ахают, охают, никак не привыкнут: такие годы, ломаный-переломанный на слаломных трассах, а ни хвори какой, ни эмоционального спада, прочней, чем у молодых, успех у женщин, мало общего, кстати, имеющий с показными успехами Ожохина, Красавчика, Яшунчика-адвоката и прочих корифеев торопливого сердцеедения. Вкупе с множеством приятных отличий от заурядных и даже незаурядных претендентов на ускоренный постельный успех лучшая человечья половина находит в Виталии Валентиновиче столь дефицитный ныне рыцарский идеал – кстати, кстати, за его аристократизм в английском духе языки без костей ему пожаловали герцогский титул и за глаза величали герцогом Нешем. А что? Звучит, как и выглядит. Не зря дамы – от юных до, если помягче сказать, опытных – без ума от него, кажется, что все по уши влюблены, он же платит поклонницам галантным вниманием, внушает каждой, что только к ней одной питает стойкую слабость, в общем, кумир, покоритель. К примеру, девушкам, почти девочкам, не то что в дочери – во внучки годящимся, сезон за сезоном кружит головки. Бедняжки льнут к нему – не оторвать, а за ним ни предосудительного поступка, ни обмолвки для сомнительного намёка. И потом не только обаяние и рыцарские стати, которые заставляют запрыгать мечтательные девичьи сердца, влекут к нему, но и увенчанный профессорским званием педагогический дар, дар наставника во всём, не только в своей науке: он и теннисные хитрости доходчиво растолкует, разложит все движения поэлементно и, вроде как играя в застывшие картины, зафиксирует каждый элемент пластичной позой, и на акварельную охоту в горы и ущелья за собой увлечёт; сумка с ракетками на плече, в руке этюдник, а там – пупырчатая бумага, склянка для воды, кисточки… Трудно им и дивной оснасткой его не залюбоваться…
Только что я машинально следил за встречей Ильи и Мити у кассового павильона после годичной разлуки, смотрел, как шли они вдоль бликующих витрин в зыбкой тени акаций, как Митя помахал Любочке, заклеивавшей на почте конверт, как разминулись они с Ожохиным, у которого висела на локте птичка, и свернули к лиственному курдонёру со столиками. Донеслись приветствия, Виталий Валентинович легко взлетел, отвесил церемонный поклон. Взаимная радость встречи, шутки и смех, пока ветерок перебирает длинные волосы юной спутницы Неша, которую Митя принимается угощать инжиром. Виталий Валентинович поощрительно кивает, как дозирующий удовольствия воспитатель. Он редкостно хорош в белых шортах, светло-бежевой мелкосетчатой тенниске с выпукло вышитым на нагрудном кармашке зелёным крокодильчиком, устрашающе разинувшим пасть. Заиндевелые брови нависают над отрочески блестящими заинтересованными голубыми глазами, да ещё орлиный нос, морщины, энергично рассекающие аскетично худое, удивительно живое лицо герцога ли, прелата – епископа, кардинала, может быть, даже папы… И задорно венчает гордую голову синий, в рубчик, жокейский картузик со служащим защитным светофильтром тёмным плексигласовым козырьком и широкой гофрированной резиночкой на серебристом затылке. «Нет, ничего подобного не бывает, он не всамделишный, – всплёскивает руками, разыгрывая избыток чувств, Воля, – его бы сберечь, как мечту, застеклить аномальным экспонатом гиблого времени в назиданье потомкам, а что за чудесный он собеседник!»
Вот достаёт он прелестный сувенирный бочоночек, расписанный палехскими мастерами, обносит всех мятными подушечками, приглашая доверительно покалякать о том о сём. О-о-о, как плавен, как широк этот обводяще-угощающий жест! И вот уже мелодично течёт его эрудиция после вводной, чаще всего из родной ему сферы искусствознания реплики вроде той, что музыка Гайдна улучшает энцефолограмму мозга… Хотя мятными подушечками и поучительными репликами угощает он не обязательно за колченогим столиком уличной забегаловки с поломанным холодильником и потому – тёплыми пенистыми напитками. Снуют прохожие, машины, за живой изгородью кортов, за стриженым жёстким кустарником взмывают в синеву свечи, но пока он ведёт светскую беседу, сидя за столиком…
Покидал мячик Алёне, под удар слева, под удар справа… Он ласкает взглядом Алёну, это молоденькое чудо природы, этот дивньй бутон, к коему он благоговейно внимателен как истинный ценитель нетронутой красоты. Покидал Алёне под левую, правую, посмотрели пару сетов четвертьфинала, Ожохин был в ударе, несомненно, как бы ни относиться к нему, в ударе… Барабаня длинными пальцами по голубоватому пластику, Виталий Валентинович с умудрённой улыбкой, трогающей лишь уголочки губ, сдувает со столика палый лист. Увы, отдых в этот сезон вынужден проводить он в увядшей Гагре, изменив любимому мысу, где сейчас он всего лишь гость… Он кокетливо ворчит на тяготы преклонного возраста, кладущие конец дикарству, кается, что соблазнился комфортным клозетом в доме творческого союза, молит пренепременно наведываться в его скучненькое гагринское пристанище, чтобы развлечь, потешить старика, поболтать, как раньше бывало, отвести душу, – и вот уже пружинисто вскакивает за крем-брюле для кареглазой Алёны и спрашивает: ещё по чашечке кофе?
Сбоку от продолговатого проёма чебуречной раздачи, в скруглённом окошке ярко-лазоревой фанерной будки, вымазанной той же, что и барьерчик ресторанной веранды, краской, то пропадая, то появляясь, мелькает Валид – рыхлый, мучнисто-бледный, с обвислыми усами, бурыми, как надпись «кофе по-восточному», которая намалёвана над дугой окошка. «Валид, Валид, ещё четыре! Валид, ну-ка пошевеливайся!» – командуют крикуны с нетвёрдой походкой, вернувшиеся с морской прогулки. Вина, пива насосались, теперь горьким кипяточком хотят взбодриться, давай-ка, наседают, шесть покрепче, чтобы ложки стояли. А грузины-кутилы, те, кому не достались привилегированные места на ресторанной веранде у лазоревого барьерчика, не зная имени кофевара, кричат по-свойски: Бичико, Бичико, кричат, будто перед ними бойкий мальчик на побегушках. И Валид-Бичико вертится, что есть сил, раз всем невтерпёж, но в его поспешности нет озабоченности или наигранно-расторопной услужливости – только безучастная зеведённость: молча, бесстрастно, заученными пассами робота – стук-стук-стук – выстраивает он чашки с отбитыми ручками на засаленной полочке, прибитой снаружи к будке, быстро наполняет из водопроводного крана закопчённые джезвы, затем помешивает самшитовой палочкой, возит туда-сюда в калёном сером песке до шипучего вспенивания, разливает по чашкам… Забалдев от тесноты, распарившись угаром, да так, что блестит, как у кочегара, кожа, а из подмышек ползут по линялой ковбойке тёмные пятна, Валид, когда кончается чистая посуда – пока ещё соберут, принесут помыть, – бездыханно слушает стоны сочащихся труб и музыкальные вопли из ресторана, лёжа в глубине своей каморки на топчане, у изголовья которого стоит ведро, куда вытряхивается испитая гуща. Округляя глаза, переходя, будто винясь в собственной непорядочности, на шепоток, Владик божится, что богатств этого ежевечерне наполняемого ведра хватило бы Валиду для покупки самых дорогих удовольствий мира, именно из ведра черпает он баснословные доходы, о которых все говорят, так как ночами кофейная гуща высушивается на огромной чугунной сковороде, символизирующей для наивных курортников тщательнейшее прожаривание бразильских зёрен и висящей потом целый день на гвозде, пока заново пущенный в оборот, лишь слегка оживлённый какой-то ароматизированной химией порошок умножает несметные прибыли жалкого с виду бизнеса. Дело пахнет несколькими нулями, шепчет Владик, караул в какие бешеные суммы складывается незаметно мелочь, сам видел: однажды глубокой ночью, проводив девушку, Владик чесал через парк к стоянке такси, где такси, само собой, никого не ждали, но где легче было поймать попутку, и не утерпел, подглядел в светящуюся щёлку меж листами фанеры, как Валид, досушивая суточные опивки, подбивает бабки, ворошит гору замусоленных купюр, аккуратно разглаживает каждую купюру ребром ладони, прежде чем упрятать в кубышку, а у мутной лампочки под потолком мельтешат мохнатые мотыли… И этот танец глупых ночных насекомых почему-то сообщает свидетельскому поклёпу Владика абсолютную достоверность. Ага, сходятся все, дыму не бывает без пламени, не зряшные это наговоры, не пережаренный факт, торговое местечко у Валида бойкое, доходное, гребёт караул как много, мог бы отдохнуть со вкусом, развлечься. Только, вступив в разговор, пригвождает не терпящий уклончивых оценок Вахтанг, примитивный ворюга не умеет остановиться, пока не сядет. Но тут Милка, адвокатка униженных и оскорблённых, взбрыкивает, мотая рыжей гривой, сверкая, как пучками бенгальских огней, глазами, одна на всех обидчиков Валида-Бичико прёт – жалеет безропотную жертву, загнанную в душную конуру неправедным стечением обстоятельств, приплетает чью-то смехотворную сопливую версию о студенте-заочнике с юрфака, лишь по традиционной на Кавказе сыновней обязанности вынужденного, едва сводя концы с концами, якшаясь с подонками, подпирать дело отсиживающего заслуженный срок отца, и клеветой, низостью было бы раззванивать на весь свет такое, вовсе он не ворюга, не примитив, затылок у Валида честный, вполне интеллигентный, хотя, конечно, линии его не совпадают с абрисом аристократического нэшевского затылка… Ох, сколько её ни поднимают на смех, Милка верна своей оригинальной теории, согласно которой затылок являет точный, тютелька-в-тютельку, слепок с внутренней сути человека. Вспомните, доказывает Милка, нахрапистую холку Ожохина, и потом Валид, не в пример бесстыжим хапугам, виновато отводит взгляд, когда берёт и выполняет заказ, и не потому, что против воли своей мошенничает, не потому, что задёрган раздражёнными приставалами и даже порядочные люди ему противны, это же взгляд мученика, страдальца, которого топчут непониманием. В защитном гневе Милка охрипла, так размахалась граблями, что шов пополз по боку белого в синий горошек платья. Что правда – то правда: Валид изглодан какой-то тайной, непросвечиваемая логикой темень окутывает его. Неужто жалкая страсть наживы дотла сжигает? Ни слова, ни улыбки, ни перемены в коричневых стоячих глазах, отупляющие одинаковые движения изо дня в день, долгий сезон, как в карцере, как в одиночке смертника. Поздно, задраена раздача, нет уже чебуреков, а Валид-Бичико вертится, как заведённый, всё многократно повторяется, всё опять и опять по кругу: он и в этот поздний час варит густой горький напиток, порционными движениями бросает в джезвы кофейный крупчатый порошок и сахар, как автомат, заливает в каждую джезву из крана воду, лениво передвигает джезвы в раскалённом песке и – какая реакция даже в столь поздний час! – ловко и быстро, точнёхонько в миг вскипания коричневой пены, снимает джезвы и не менее ловко и быстро разливает готовый продукт по чашкам, выставленным на полочку-прилавок. Затем – передышка? – бренчит в мокрой тарелке мелочью. Откуда такое стоическое долготерпение, ради чего нажиты болезненная отёчность, бледность, которые упрямо холятся всего в двух шагах от пляжа? Неужели страсть наживы, неужели Владик и Вахтанг правы?
Затихает круговерть удовольствий, выдыхается ресторанный оркестр, дуновения музыки долетают лишь сверху, из бывших пансионатиков знати и вилл великих княгинь, переоборудованных в партийно-профсоюзные бардаки, стулья кверху ножками опрокидываются на столы на ресторанной веранде. Скоро и из-под чинары неохотно расходиться начнут, пора и честь знать. Обнимая добычу за полные плечи, покачиваясь, напевая, бредут уже к «Гагрипшу», на ночлег, кутилы из ресторана «Гагра»; наутро, одурманенные ночью, как тараканы дустом, выползут завтракать с кое-как подмазанными красотками, небрежно откупорят самый дорогой пятизвёздочный коньяк «Енисели», воспрянут, но это – потом, потом, когда солнце за горой встанет, а сейчас притомились все, мира, покоя хочется. Одна Милка, хоть и выпустила немалую порцию пара, никак не угомонится: Валид, бедолажка, у тебя голова трещит, наверное, обалденно, ни сна тебе, ни отдыха, измученная душа, пока бездельники колобродят, но свари без сахара и погуще, чтобы не заснуть до рассвета… И усталое веселье понуро припускает под чинарой по последнему кругу, обжигаясь, прихлёбываем пахнущую веником густую горечь. Но вот и далёкая музыка замирает, уступая пустеющее пространство беспорядочным шлепкам волн, клёкоту и вскрякиваниям с пруда, шуршанию шин с окаймляющего парк шоссе. Пора, пора, уже метёт метла по асфальту, а слепленный из мякины Валид торчит в окошке, обречённо упёршись взором в надоедливое, хотя явно теряющее скорость, как инерционный бег выключенной карусели, сникающее к полуночи представление; кофейные глаза Валида слезятся неизбывной тоской.
Как движется время?
Из чего состоит?
Наивные безответные вопросы.
Время ведь не потрогаешь, не увидишь, не услышишь; и – ко всему – время не пахнет…
Субстанция без свойств – явных свойств, доступных органам чувств: рецепторы ощущений оставлены временем не у дел.
Но как же тянет тайную природу времени постичь!
Ощущения не у дел…
А интеллект – тоже не у дел?
Не исключено, что познавательный магнетизм времени как раз в том, что именно время, легко выскальзывая из логических силков анализа, прозрачно намекает на несостоятельность разума.
Время ведь – всё-таки размышляю – невидимый и вроде бы эфемерный, но неоднородный поток.
Это скорее всего смешение поветрий в сплошной, напряжённой, разнонаправленной и всегда противостоящей индивиду текучей стихии, куда непрестанно вливаются взамен иссякающих свежие струи.
И как-то материализовались мои допущения, сердце учащённо забилось – я физически испытал плотность времени.
Борясь с его проницаемой напористостью, силясь устоять на ногах, я шёл, шёл…
И только увидев летящий мне навстречу обрывок газеты, я понял с удивлением, что иду против ветра.
Несмотря на отрезвляющий казус, ощущаю давление времени – почему нет?
Была ведь чуткая невесомая лопасть в филигранном физическом эксперименте, установившем факт давления света, которая дрогнула и чуть ли не завертелась, когда её тронул световой луч…
Время – поток частиц?
Или плотная волновая среда?
Ввязался в историю.
Текучесть времени, осваиваемая языком, выливается в поток иносказаний.
Уклончивые философские категории не в счёт.
А заносчиво-безапелляционные понятия точных наук тем паче не убеждают – сжимать время строгими терминами и формулами – всё равно что ловить рукой воздух.
Досмотрев, доиграв гагринское представление, надо ещё поспеть на последний – одновременно и рейсовый, и служебный – автобус, который везёт ночную смену в Лидзаву на рыбзавод, надо как-то втиснуться в желанную душегубочку, чтобы больше часа, дёргаясь вместе со старенькой, фырчащей от натуги машиной, тащиться по разбитой дороге. А если упускаем автобус, скидываемся на такси, упрашиваем кого-нибудь из знакомых шофёров ехать без надежды на обратного пассажира.
Отстают высоченные белёсоствольные эвкалипты, смазываясь, уносятся назад мёртвый глянец магнолий и пунктирные вспышечки низких разноцветных фонариков вдоль узкого тротуарчика, полукруг колоннады, ярко подсвеченный уличный вольер с попугаями… На прощанье Гагра мигает редкими огоньками в горах, впрочем, огоньки те нетрудно спутать уже со звёздами. Разогретая старая машина натужно буравит зыбучую темноту, фары пробивают зелёные дымящиеся туннели, загораются, гаснут случайные стёкла, как осколочки неожиданно и фрагментарно обнаруживаемого калейдоскопа… И настаёт миг блаженства! Как хорошо вывалиться наконец из тесной, провонявшей бензином колымаги, задохнуться свежестью, звоном цикад под сизым небесным куполом. Накатывает ласковыми волнами тёплый воздух, предвещая детские восторги ночных купаний, смакование у костра вина из расчётливо припасённой Милкой бутылки. И одновременно с терпкой влагою на губах тает за Мюссерой розоватое бисерное мерцание круизного двухтрубного парохода, заплывшего по ошибке в девственную сонную тишь на траверсе мыса из вожделений разухабистого гагринского спектакля. И нет, нет дураков дрыхнуть в такие ночи в дощатых хибарах, да и развалились бы они от напора желаний скорей, чем от землетрясения. Таинственно-романтическим домом свиданий становится роща, хотя колкие заросли кишат медянками, скорпионами, конусы муравейников темнеют тут, там… Призрачное свечение луны, колебания теней, шорохи, внезапный крик птицы, предрассветная прохлада, пронзающая шелестящими, скрипящими прострелами сквозь кусты и кроны вёрткого ветерка, хмурится, подёргивается рябью море, нетерпеливо ждущее солнце, которое вот-вот выглянет – уже сияет аура гор. Так бы и пролежать на спине весь отпущенный срок под голубеющим шёлковым балдахином, под тяжело покачивающимися лохмотьями хвои с большущими, как ананасы, шишками; сочные густо-зелёные, поблёскивающие побеги цепко карабкаются по сосновым стволам, обвивая их лиственной чешуёй, словно одно дерево растёт из другого. Меж стволами, меж ветвями врезается вдруг налившееся синевой море, далёкая гряда подставляет задремавшему облаку мшистый тёмно-лиловый бок, и опять, одуряя смолистым духом, смыкаются над головами сосны, в бликующем сумраке вспыхивают лаковые гроздья волчьих ягод, костяники, плетениями колючей проволоки встают высоченные шарообразные кусты ежевики… Поражает сказочная преувеличенность знакомых растений – картинно колышутся гигантские папоротники, на рыжей хвойной подстилке аппликации земляничных листьев – каждый из них больше здоровенной ладони… Как, как можно было здесь планировать корпуса?
7
– Найден уникальный клад бронзовых топоров – раннего железа. К древнейшему времени относятся предметы палеолита, неолита, бронзы, продолжительный период истории мыса, длившийся до XI века до нашей эры. Затем начинается эпоха Великого Питиунта, представляющая собой раннюю пору богатейшей городской жизни, нашедшая отражение в сообщениях классических авторов – Артемидора, Страбона, Плиния – и в археологических находках: монетах, амфорах, коричневолаковой, краснолаковой керамике…
Достославное времечко: сочинские рейсы из-за сильного, частенько приносящего с моря грозу бортового ветра, случалось, принимал военный аэродром в Гудауте. Посадка в неожиданном месте, среди зачехлённых реактивных истребителей пропитывала начало отпуска ароматами приключения. – Помню, – Митя жадно заглатывает воздух, – был при деньгах, меня ждала снявшая где-то комнатёнку чудесная девушка, оставалось её разыскать для полного счастья. По совпадению, тем же самолётом летел Вахтанг – он уже перебрался из Тбилиси в Москву, круто шёл вверх; его тоже дожидалась подружка, адреса которой он тоже пока не знал, но мы-то с ним знали, что тогда невозможно было здесь потеряться. Итак, сажают наш рейс в Гудауте, благодаря чему, собственно, мы с Вахтангом, нанимая такси, знакомимся, прикатываем на Пицунду под вечер, тут молния раздирает небо – настигает-таки гроза, и какая! Вмиг вымокшие до нитки, находим в лабиринте сарайчиков свободные ячейки – и кранты, носа уже не высунуть, зигзаги, раскаты, а жрать отчаянно хочется, – Митя снова шумно вздыхает, выгребает из сумки горсть липких, лилово-чёрных инжирин. – Так вот, я как раз перед отлётом получил гонорар в издательстве восточной литературы за перевод Сладкопевца. Гордость распирает меня: богат, как Крез. Но не могу гульнуть вместе с симпатичным попутчиком, хотя в такси ещё мы с ним предвкушали пир на весь мир во славу окольного прибытия. Куда там, даже наскоро перекусить нам не удаётся, дождь лупит так, что с потолка моего пенальчика каплет, да и поздно уже. А Вахтанг всё возится за стенкой, ворочается, не иначе как основательно распаковывается, и при этом приговаривает ворчливо, но громогласно, чтобы гром с дождём перебить голосом и соседями быть услышанным: так, убеждает себя Вахтанг, отлично, занавеска вместо сорванной с петель двери, что ж, грудь надуем озоном, так, негреющее армейское одеяло, ура, начнём закаляться, лебедино-цветастый коврик топорщится – уют, стало быть, пузырятся обои – пусть, пусть шуршат мыши за обоями, вселяя покой в приезжие души заодно с успокающе тиктакающими в углу, ходиками, так-так, всем хороши эти фешенебельные демократические кабинки, вещает Вахтанг, нагнетая до предела патетику, хотя – переходит от оптимистичных констатаций к размышлениям вслух, – если дурная погода помешает раствориться в стерильной роще, то хрен заснёшь под неукротимое пыхтение железных кроватей, пронзительные вскрики валькирий… Тут что, гневно вопрошает Вахтанг, мазохистские камеры пыток прилепились одна к другой, или неусыпно издевается над невинностью ходиков мощный часовой механизм любовной осатанелости? Ну соседи слева и справа ритмичные развлечения прерывают, лежат, во рты воды поднабрав, я давлюсь со смеху, заглядываю в аппартамент Вахтанга – чем он там занят? Мама миа! Кровать, тумбочка, дощатые стены – сплошь сиреневые, оклеены двадцатирублёвками! «Просушиваю купюры, – хохочет Вахтанг, довольный, что удивил, – я, – говорит не без гордости, – хоть не рыночный шкуродёр-кавказец, но неприлично разбогател: по случаю поступления в аспирантуру МГИМО отец мне подарил «Волгу», а я её сразу продал. И с таким фантастическим капиталом обречён теперь пухнуть с голодухи в сырой хибаре». Однако мы не смирились, пошлёпали по лужам во тьму, подпаленную далёкими голубыми всполохами. А мокрые ветки хлещут, хлещут, и нет ни души вокруг, не то что сейчас, только собаки лают, – Митя, скорчив брезгливую гримаску, оборачивается к модному ресторану с терпеливой, как в Мавзолей, очередью, которая застыла под вылетающими наружу из-под крутой чешуйчато-медной крыши бетонными стропилинами, под срывающимися со стропилин багряными ниагарами плюща. – Здесь, на месте модерново-роскошного общепитовского «Руна», – напоминает Митя, – была когда-то занюханная шашлычная. На наше везение, шашлычник громко храпел в хозпристройке. Вахтанг его растолкал, по-грузински втолковал ему, что к чему, малый раскочегарил-раздул мангал и потом всю ночь для нас жарил мясо, подливал вино, а когда солнце встало, мы заснули на кошме, пьяные, как сапожники…. Разве возможно сейчас такое?
Солнечные часы объявились в колыбели цивилизации: человек родился и…
Небесная механика навязала культ ритмической непрерывности и – непревзойдённый эталон точности.
С постоянной скоростью ползла тень шеста – солнце не гасло, не останавливалось.
Но время исчезало между заходами и восходами солнца.
Терялось в пасмурные дни, когда небесное светило окутывали сгущённые пары атмосферы.
Непрерывность времени помогли вернуть огонь, вода, песок.
Закоптили фитили из металлических палочек, обмазанных дёгтем, присыпанных опилками… Зажглись, колеблясь, огоньки свечей: свечи оплывали, таяли вместе с убыванием ночи – свечи-часы, огарки-минуты.
Полусферическая чаша с небольшим отверстием в дне, через которое вытекала вода, – капли-секунды.
И сыпался, сыпался из колбы в колбу песок.
Тончайший песок… Если точнее – порошок чёрного мрамора, просеянного, промытого водой, прокипячённого в вине, высушенного на солнце.
Как просто: надёжность с гарантией.
Какой образ: пылевидные молекулы времени!
Недаром песок мне давно казался идеальным измерительным и выразительным материалом!
Впрочем, я забежал вперёд.
Задолго до изъявления песочных восторгов мне приглянулась в местном, руководимом Нодаром краеведческом музее при храме копия старинных, сработанных с восточной изысканностью часов с флейтовым сигнальным устройством и указательным механизмом в виде четырёх павлинов.
Внизу, в центре сине-розовой росписи по эмали, игравшей роль циферблата, – павлин в фас; над ним – два молодых павлина в профиль, глядящие друг на друга, ещё выше – пава, она медленно, в течение получаса, поворачивается на 180 градусов клювом.
Минуло полчаса.
И оба павлина под павой, начав двигаться, заходятся громким, скрипучим свистом, нижний павлин раскрывает пёстрым веером хвост, пава возвращается в исходную позу. И так каждые полчаса – число получасовок показывают красные шары, гирляндой бус повисающие над птицами.
А позади квартета пернатых спрятан каскад – из бачка вода льётся в сосуд, опрокидывающийся при наполнении в ванночку, откуда струя падает на лопасти колеса, через передачу соединённого с павлинами, с язычком флейты…
Несколько громоздко, но забавно и поучительно – железное сцепление ёмкостей, колёсиков, передач.
И красочная иносказательность, не без жеманства эту механическую сцеплённость прячущая и представляющая.
Не ново: пряча личину, мир доверяет выразить её театру.
Однако даже непритязательное, обслуживающее циферблат зрелище угловато-яркой павлиньей грации знобит обновляемой день за днём догадкою о том, что и все человеческие комедии и трагедии, непрестанно врывающиеся в обжитой мыслью и чувством мир, сведены в метаспектакль, сверхзадача которого – самовыражение времени.
Долой ледяную астрономическую величину!
Время не существует вне представления, разыгрываемого людьми-актёрами на сцене жизни и тянущегося из эпохи в эпоху, сменяя лишь декорации и костюмы.
Времени вообще нет вне нас, как нет, к примеру, тайной мудрости шахмат вне клетчатой доски и резных фигур.
У раздвижной решётки, по усмотрению охранника преграждающей при нажатии кнопки автопуть сквозь сосны к вспененной синеве, бессменный начальник охраны орёт на ёрзающего в кабине «Жигулей» потного толстяка, который посягнул без пропуска на стекле или приказного звонка на вахту осквернить колёсами запретную территорию. Крючконосый, седоусый, пятнисто-красная, изъеденная прединсультными фиолетовыми прожилками кожа, жилистая загорелая шея… Всё, номер не удался, манёвр разжиревшего наглеца, пожелавшего проскочить мимо священного поста без разрешения свыше, пресечён, можно с чувством выполненного долга повернуться к исчерпанному инциденту тёмным, вроде музейной керамики, растрескавшимся загривком, отрывисто-шипяще скомандовать закрывать: пусть следующая машина подождёт, униженно побибикает… С повизгиванием – будто ворота тюрьмы, а не всесоюзного курорта сейчас сомкнутся – ползут навстречу одна другой по желобку, заделанному в асфальт, сварные створки решётки. Всё как всегда, бравого Тамаза Герасимовича не берут годы, верный вышколенный служака из несломленной гвардии гэпэушников-энкавэдистов-кагэбистов и на относительно безобидном, совмещённом с пенсионными льготами посту по проверке курортных карточек и автомобильных пропусков не желает менять обличье, экипировку: он в щеголевато облегающей, неснашиваемой, словно только-только сшитой бежевой габардиновой гимнастёрке с большими накладными карманами, которая туго подпоясана ремнём с надраенной бляхой, на нём галифе цвета морской волны, начищенные до блеска короткие хромовые сапожки на плоской тонкой подошве, словно нарочно вытачанные для профессионально-вкрадчивых удобств мягкой, рысьей походки. И, как всегда в это время года взамен летней фуражки с обтянутым материей козырьком, удачно скопированной с той исторической, полувоенной-полуштатской фуражки, которая так шла другу детей и учёных, на голове Тамаза Герасимовича, знаменуя приближение унылой зимней поры, ловко, как-то молодцевато даже сидит невысокая, слегка расширяющаяся кверху этаким раструбом серокаракулевая папаха-кубанка, на суконном верхе коей, когда Тамаз Герасимович, набычившись, укоризненно наклоняет голову, дабы попенять утрату бдительности вылупившемуся на форсистых девах младшему охраннику, обнаруживается нашитый золотисто-жёлтой галунно-жёсткой тесьмою крест.
Недостойный толстяк, сконфуженно газанув, окончательно избавляет тихий отдых избранных от бензиновых выхлопов и прочих рисков автовторжения. Тамаз Герасимович переключает скучающее внимание на пешеходов, но, полоснув Илью с Митей – они как раз пересекают заветную границу с решётчатыми воротами для автотранспорта, калиткой и бетонной пилонадой на военный манер оборудованного форпоста, – лезвиями прищуренных, проржавленно-стальных глаз, даже не делает напряжённо-настороженной стойки, не шевелится. Четвертовал неугодных в расцвете молодых и злых сил, на старости лет тоже не собирается разоружаться, за версту от охраняемого рубежа чует тех, кому не подобает слоняться в огороженном под боком госдачи месте, летом бы на выстрел не подпустил, однако осенью из-за полулегального просачивания пеших чужачков он не будет драть глотку, распускать руки, папаха – добрый знак, да-да, осень, октябрь… К тому же цепкая профессиональная память помогает Тамазу Герасимовичу увидеть в Илье и Мите старых знакомцев и даже еле заметно, но чуть ли не царственно, кивнуть им в ответ на их заискивающие, по правде сказать, кивки; примелькались за много сезонов. И вообще пора самому себе дать отмашку – с октября бесправие дикарей негласно смягчается относительной свободой передвижения по территории курорта, охранники на вахтах и вышибалы в общепите и злачных заведениях с октября на них лишь лениво косятся, ибо содержимое тощеньких дикарских кошельков заранее учтено-скалькулировано планом выручки киосков, кофеен, баров, терпящих убытки после того, как схлынет летняя, сорящая большими деньгами привилегированная волна. – Смотри-ка, смотри, – Митя хватает Илью за локоть, – наш подобревший цербер ещё и сентиментален, смотри, не выкинул эту рухлядь, – в глубине сторожевой будки, над стенгазетой «На страже» смиренно тикают ходики с кукушкой; перечёркивая красный заголовок стенгазеты, свисают гирьки…
Развитие часовой техники лишало время таинственности.
Время растворял быт, время как бы не замечали, но его чуткое активное присутствие рядом становилось естественным, непременным, само собой разумеющимся.
Время, время… Сколько метаморфоз восприятие времени претерпело, реагируя на способы и формы его измерения.
Какой покой внушили механические часы!
Настенный домик с плоским золотом маятника, баюкающего плавно-умеренной амплитудой, музыкальным боем.
А солидные увесистые карманные луковицы?
А брегеты?
А ручные ювелирно-изящные часики с крохотными, рифлёнными по ободкам, заводными колесиками?
Дальше – больше…
Высокомерные электронные глазищи с пугающим выскакиванием из ниоткуда цифр, знающих свой порядок.
Табло с нервозным мельтешением лампочек.
И ещё – назойливость службы точности.
Уши закладывают сигналы точного времени: проверь, подведи…
Даже во сне – страшном, фантастическом, чарующе-сладком – я не свободен от времени: на пике захватывающего сюжета сновидения барабанную перепонку бесцеремонно пробивает будильник.
Милка налетает огненным вихрем, ур-р-р-ра, ур-р-ра, давно пора тебе приземлиться, а то Митька вконец замучил – не прилетел? Не видела? – но ко времени прилетел, ко времени. Тамаз Герасимович без проблем пропустил, правда? И погода отличная будет, смотри – Милка вытягивает руку в сторону медленно подползающей дизельной подводной лодки. Да, прибытие из Балаклавы на рейд госдачи этой подводной лодки, обеспечивающей защиту госдачи от морских диверсантов-аквалангистов НАТО, воспринималось опытными курортниками как самый надёжный прогноз отличной погоды: лодка ритуально появлялась накануне прибытия на отдых, обязательно – на солнечный отдых, партийного гостя высочайшего ранга. – Ой, измотался за год, задохлик, цыплёнок синенький, огурчик зелёненький, ничего, отогреешься, поджаришься-зарумянишься и, – тараторила Милка, – не соскучишься. Владик здесь, косяки ставриды преследует, Воля, Геша, Валян кейфуют из последних силёнок, жаль только, что ты опоздал на пикник, на день всего опоздал, вчера за третьим ущельем Гурам с Гией обалденный пир-пикник с молочным поросёночком закатили. На пикнике ещё и Любочка блистала на новенькую, это говорливое украшение сезона, поверь, даже Волю играючи затмила своими историями… – Я уже видел её сквозь витрину почты, – умудряется вставить слово Илья. – Видел? Митька показал? – удивляется-догадывается Милка. – А уж когда Любочку услышишь, оценишь по достоинству. Но берегись её сладкоголосия, берегись, – затряслась от смеха. – а в воскресенье праздник Нептуна с самодеятельным маскарадом разбушевался, так Пат осьминогом вырядился, резиновые зеленоватые щупальца выпустил, Жанулю на ступенях курзала-столовой как обхватил-обвил, как потащил в подводное царство, будто верный сатрап Нептуна, а морские коньки, его ассистенты, скок-скок по бокам, скок-скок, – глаза Милки горят, словно глаза ребёнка, заглядывающего в дивный аквариум. – ты Жанулю-то помнишь, ну ту, златоглавую богиньку, мисс-мыс, которая всех-всех курортников покорила, заставила пускать слюни, потом на несколько сезонов исчезла, а сейчас опять объявилась. И опять как с картинки, А-а-а, – раздался фырк дизеля и лязг металла, с подводной лодки бросили якоря, – посмотри-ка ещё и на подарочек модерновый, электронное табло к крыше кафе подвесили минутки отщёлкивать…
Истинные свойства времени внятны одним поэтам.
Как же, как же не помнить, когда глаз не отвести было. Встречали-провожали с любопытством и восхищением, хотя интуитивно сохраняли дистанцию, причём изрядную. На что уж Митя не дурак приволокнуться, а оробел, как школьник, – золотые локоны, серые сердоликовые глаза, бархатная спина в треугольном вырезе платья. Все, кому не лень, в баре «1300» пялятся, а не шелохнутся, не один Митя к стулу прирос, голову откинул, выпятил подбородок, всякие там вздохи, поглаживания пронзённого сердца изображая… Да так и остался с носом, не решившись атаковать. Танцы-шманцы-обжиманцы, звон стаканов, дым коромыслом, а мальчик мается безответным чувством, а Воля и Вахтанг, непревзойдённый тандем трепачей, всегда готовых поизмываться над ближним ради общего весёлого блага, растравляют плосковатыми шуточками потерпевшего, салфеткой обмахивают, как боксёра после нокдауна. «Митька, Митька, где твоя улыбка?» – гнусавят шлягер молодых лет, славят пришествие в приморский, на 1300 персон, вертеп Прекрасной Дамы. И – припадки очищающих вздохов, молитвенно возносящих душу, ибо, подсказывает Илья, и самому страстному телу не дано заключить в объятия символ. «О-ля-ля, – зажигается Вахтанг, шоколадные глаза плавятся, – спешите видеть, перед вами высшая синтезированная форма текстильной, кожевенной, парфюмерной материй, подогнанная к высочайшим шаблонам последней моды, но не менее прекрасная, чем тепломраморные тела Эллады…» – «Па-а-пра-шу внимания, – шарахает ладонью по столу Воля, дрожат напитки, бренчит посуда, – прелестный символ, пусть его и обнять нельзя, надо назвать достойно…» Ох, отдуться бы от танцевальной скачки, остыть, так нет же, другого рода азарт вскипает: хрипнут в дебатах, наперебой подбирая имя для загадочной незнакомки – Жанна, Регина… «Но, – вразумляет Илья, – конкретное земное имя умерщвляет символику, что-то иное для совершенного, если хотите, неземного этого существа надо изобрести». Тут-то Митька, стрелой пронзённый, выходит из гипноза, выдавливает: мисс-мыс, и взрывается овация в честь победительницы конкурса красоты. Превосходная кличка, с тех пор – как приклеилась, хотя Жанулей, Региночкой её тоже по инерции какое-то время звали, да и сейчас, бывает, зовут. Однако заслуженная, клёвая кличка так подсветила обычные имена и их уменьшительные, ласкательные производные, что стали все они нарицательными. Ещё бы, прекрасна, холодна, недосягаема, как звезда из чужой галактики! Помимо Митьки, который с полной задора и огня улыбкою расстаётся и отбой, перетрусив, бьёт – мол, такому совершенству не соответствует, многие сомнительные искатели любовных приключений по-прежнему роятся, роятся вокруг мисс-мыс, а и их будто бы ветром сносит. Пару раз она с Реном в «Руне» за «главным», у декоративного очага, столом обедает, но, разведка донесла, без последствий. Ожохину, хоть частенько натаскивает её на корте, тоже похвастать нечем, а этот-то похотливый амбал своё не упустит. Даже Яшунчик-адвокат, лысеющий ширококостный жуир с развязным языком и хамоватыми ухватками не знающей проколов юридической знаменитости, и тот – в сторонку, в сторонку, будто забастовка у несгибаемого бойца интимного фронта, – закатывает малахольно зрачки, когда мисс-мыс, как мечта, проплывает мимо: мол, высший сорт, экстра, однако же – пас. Что в солнечном подлунном мире творится, неужто прожжённые ловеласы обнаруживают платонические уголки в глубине изношенных душ, ведь, невзирая на ангельские черты лик прелестницы не внушает трепета, скорей приманивает сексапильностью сполна испившей порока женщины, победительно-легко сходящей в расейский раздрызг с иноземных демонстрационных помостов: яркая, не боящаяся нескромных взглядов, всё-всё в ней приманивает, хотя что-то – наверное, звёздный сквознячок, какой несут с собой абстрактные идеалы, – и отпугивает, взывает к осмотрительности.
Стоп!
Если повседневный быт, как повелось издавна, низводит высокую абстракцию до карманного, наручного или настенного счётно-измерительного прибора, если бег стрелок по циферблату этого прибора, худо-бедно одухотворённого затейливостью дизайна, – единственная постигаемая реальность, которую можно увидеть и даже услышать, когда бег стрелок ещё и синхронизирован с периодическим боем или мелодичными перезвонами, а самоё время как извечно-беспокойная тайна – всего лишь средоточие поэтических вольностей, то…
Защекотала шаловливая мысль: не помыкает ли рукотворный прибор-измеритель божественной природой измеряемого процесса, а заодно и формами его, процесса этого, самовыражения?
И почему бы не заподозрить, что не только душевная аритмия не подвластна внешним ритмам, предъявляемым нам часами как механизмом, но и неизбежные погрешности хода самых совершенных часовых механизмов ставят под сомнение плавную непрерывность времени…
Постигая время, увлекался…
А ведь электроника нависала тем временем над моими нестрогими рассуждениями: выпрыгивали на экранах и экранчиках цифры, загорались на табло лампочки, никакие ритмы вообще не воспроизводившие.
Вот – смущённо поднимал глаза – полюбуйтесь-ка вместе со мной: экран-табло, время, взятое в раму из уголкового металлопроката, подвешенное на двух железных крюках к бетонной крыше кафе.
Электроника и поэзия?
Увольте…
Шалунья-мысль, однако, не унималась! – Если время, словно режиссёр, прячущийся в кулисе, разыгрывает из наших жизней ритмизованные – декорированные, костюмированные – спектакли и, не чураясь театральных эффектов, под занавес превращает героев этих спектаклей в трупы, то и нам не возбраняется отдаться изобличающей проделки времени игре ума.
Илья беззащитен, с квёлой улыбкою покоряется напору нескончаемой информации. Мало ему Митькиных экспресс-новостей, так Милку понесло, никак не смолкнет. Далась ей бронзовая от загара мисс-мыс, ну исчезала, ну появилась… От избытка чувств Милка вцепилась в плечи, закружила, хохоча от глупого счастья, и тормошит, встряхивает. «Илюшка-а-а, хорошо-то как встретиться, благодать», – пылают на солнце, взлетая, густые Милкины волосы… Что творится? Тошнотворно-сладкое удушье поднимается изнутри, а руки, ноги обмякают, слабеют; уплывают куда-то вбок причал, роща, бетонное гофре над кафе, растворяется в молочном небе чёрный экран табло… Только торчат два крюка из крыши, которую воровато буксирует с глаз долой блёклое облако, на миг из панической толчеи разбегающихся предметов поочерёдно выскакивают на передний план белый столик с бумажным тюльпаном в вазочке, гранитный столбик питьевого фонтанчика, вытащенные на просушку белобрюхие глиссеры, но они, перечёркнутые напоследок барьером цветочных ящиков, подожжённые огнём герани, исчезают бесследно, заместившись сырым дуновением, – ненастье накрывает мокрым серым крылом. Проваливаясь куда-то, теряя ориентировку, Илья слышит издалека Митин голос: гололёд, занесло на дерево, всмятку, а невидимая Милка вскрикивает. Блестят залитые водой плиты набережной, клейкие бурые комочки земли темнеют у неровного края газона, чаща травинок усыпана капельками, к стеблю розового куста присосалась перламутрово-коричневатым костяным завитком улитка, и бьёт озноб. Промозглость, смешавшись с острыми запахами земли, травы, роз, пропитывает мгновение чужеродной, против воли растягиваемой длительности. Тяжело, невыносимо тяжело от набухания низкой тучи, но из давящих сгущений влаги вдруг узнаваемо возникает Милка. Она в свитере грубой вязки, охватывающем шею толстым, точно шина, воротником; ломается на Милке её видавший виды просторный жёсткий клеёнчатый плащ, который надевает она, когда проливаются дожди и снаряжает она экспедицию в Мюссерские леса за грибами. Сползают по плащу капли, волосы подёрнуты водяным туманом, а Митю, тоже высунувшегося из тучи, обтягивает вишнёвая водолазка, хотя он был только что в белой марлевой рубашке с оторванной пуговицей… И эта тонкая матово-белая рубашка просвечивает сквозь водолазку, а под плащом и свитером у Милки всё отчётливей проступают яркий, вырвиглаз, синий купальник и загорелая кожа. И хочется пить, хотя бы смочить пересохшие губы… И уже чистое небо теснит тучу, раскалённые зноем палево-румяные плиты наползают на мокрые плиты с лужицами, двоятся контуры, будто два сюжета сняты на один томительно долго разглядываемый в затемнении сознания слайд, в который возвращаются разбежавшиеся предметы. Резко повисает на крюках чёрный квадрат табло с пощёлкивающей суетливой цифирью, и резко приближаются Милка в купальнике, белорубашечный Митя, и падают на Илью их головы с оранжево-красным и чёрным контражурами, омытые жаркой безоблачной голубизной, и расплющиваются на груди горячие Милкины груди. «Сердце? Нет? Гипотония, наверное, вот тебя и шатает, кружит, меня тоже в Питере от перепадов давления водит из стороны в сторону, пока к морю не прилечу…» Илья не понимает, что было с ним только что, он уже сидит на скамье, у вороха Милкиных одежд, тупо рассматривает на газоне извилистые следы косилки. Митя бежит из кафе со стаканом сока; а собаки – ноль внимания на переполох – изнывают, высунув языки: жарища…
«Оклемался? Не ушибся?» – заглядывает Митя в глаза, а Милка лаваш и сулугуни достаёт из сумки, чтобы подкрепился Илья, и обмахивает веером его, покрикивает на собак, чтобы не полезли лизаться, выпрашивая угощение. И сыпет, сыпет какую-то чепуху: «Отошёл, слава богу, отпустил спазм, а если ещё хворь какая – травами отпою. И учти, в лидзавской тишине не укроешься, устроим прочёс, найдём. Я-то в корпусе маюсь… Тащусь с чемоданом, а Рен из окошка «Интуриста» увидел, не иначе как муха цеце его укусила, выскочил, рассыпался, чёрный козёл, в любезностях, говорит, Милочка, неувядаемая твоя красота – награда выше правительственной, в светлую память о наших встречах, которые никуда не вели, хотя я был моложе, лучше и мог составить тебе неплохую пару, прими скромный дар… Рен – может, с бодуна был или травы нанюхался? – обратный билет вручает, законным росчерком пера в “Руне” селит, хоть и не на восьмом этаже… – Милка растягивает брезгливо рот. – Угораздило меня приволье на похлёбку по часам променять, маюсь меж шахтёров-стахановцев, хлеборобов со звёздами героев, хлопкоробов в тюбетейках и прочих передовиков социалистического труда, разбавленных блатниками. А по вечерам у Элябрика со скуки дохнем, не то там теперь, не так, как раньше бывало, когда пол с потолком качались, – тараторит без остановки. – Я вас с Митькой засекла, как только вынырнули из сосен. Сижу, смотрю, ага-а, шагают двойнички, ну-ка, сцапаю цап-царап, – и опять исторгает эмоциональную бурю, словно впервые увидела, причитает: – До чего похожи, как две капли, вы случайно не родственнички? – и вдруг говорит: – Знаешь, четырёхсотлетнюю сосну сломал ураган?» И опять тараторит, тараторит – может собаки её внимательней слушают?
Только что мчались сквозь торгово-бытовой центр курорта – и уже греются на набережной, нежатся, свернувшись калачиками, развалясь на горячих плитах. А солнце всё выше, всё горячее плиты: нестерпимо жарко уже. А заводилы бездомной собачьей стаи – у Милкиных ног, липнут, будто Милка мёдом помазана. Но вот один, другой пёс встают, отправляются бродить, слоняться, лениво лезть носами под хвост друг дружке, этим вольным мигрантам курорта неведомы графики заездов-отъездов, пропускные барьеры… Набережная кормит их, широкая лестница, ведущая на балкон курзала, дает крышу от дождя, солнца, а сразу за курзалом, в роще, суки щенятся, вскармливают молодняк. Но повинуясь павловскому рефлексу, в часы режимной кормёжки курортников все собаки уже у столовых, чтобы урвать с послеобеденной щедрости. Если не наелись, попрошайничают на пляже, наконец, набив животы, укладываются на час-другой для пищеварения, пока внезапный, им одним внятный сигнал не сплачивает разморённых жарой засонь в резвую стаю. Потягивались, зевали и – вот уже летят, летят, как бешеные, словно там, за каменными извивами парапета, ждёт постоянное изобилие мясных костей, надёжность челевеческого жилья, которое им доверят стеречь. Летят, свесив на сторону чернильные языки, вперёд вырывается невзрачный беспородный заморыш с перебитою лапой, отороченный колтунной, грязно-красной бахромой ирландского сеттера, в которой застрял репейник. По всем статьям аутсайдер, а несётся, несётся выскочка, будто больше всех ему надо. И опять внезапно распадается устремлённая стая, опять умиляет невинными ласками групповых забав, искренними беспризорными объятиями, покусываниями, повизгиваниями, и вот уже пара, а то и две, три, смущая курортниц-профсоюзниц в кримплене, торопливо совокупляются, быстро охладевают, расходятся… – Пума, Пума, – почёсывает Милка за ухом чёрную старенькую догиню, возможно, и чистокровную, но растерявшую стать свою за долгие годы беспорядочных любовных связей, лишений. (Возвращаясь с Сухумского симпозиума по кибернетическим моделям, Владик завернул как-то в межсезонье проведать родное место и угодил на зимний отстрел четвероногих бродяг – пустынным пляжем, обезумев, бежала Пума, Баграт-хачапурщик под радостные возгласы пьяненьких зевак-профсоюзников палил из двустволки, подрабатывал, сукин сын, мало ему ворованного сыра и масла.) На ребристых боках Пумы протёрлись проплешины, от частых родов сосцы обвисли лилово-пепельными мешочками. Когда грубо гонят, кричат, Пума отпрыгивает с дивной молодой грацией, останавливается поодаль, давая нервному грубияну шанс опомниться, извиниться. И никогда Пума не попрошайничает, не пристаёт, молча ждёт, надеясь, что позовут, приласкают, не брошенного куска ждёт – тёплого слова, доверчиво смотрит, смотрит умными янтарными глазами, в них тлеет боль, нерастраченная преданность кому-то, кто ей пока не повстречался, но повстречается непременно. – Илюшка, – продолжает информировать Милка, – у меня радость, Варька на биофак поступила.
Время не безгрешно.
Почуяв неладное, искал улики в старинных книгах.
Их, проспавших века в пыли на богом забытых стеллажах, не по силам было притащить в читальный зал библиотечной барышне, и меня допустили к морёным полкам с фолиантами. Подымая иные – в толстых переплётах, обтянутые телячьей кожей, с пожелтелыми плотными страницами и поблёскивающими вклейками чудесных старинных гравюр, на которых воспроизводились часовые изобретения прошлого, – устрашался, что наживу из-за сомнительной своей пытливости грыжу.
Давняя, ещё на заре туманной юности проснувшаяся страсть к песочным часам, к принципам их устройства и причудливой образности, предопределяемой формой и компоновкой колб, наконец получила выход.
Полюбовавшись гравюрами, подивившись выдумке и вкусу часовых мастеров далёких веков, я вникал затем в технологические свойства самого «материала времени» – песка, изучал разнообразные механические хитрости – от них зависела точность измерения времени.
Отожжённый, тонкозернистый красноватый песок, просеянный через сита.
Беловатые песчинки из жареных тонкомолотых яичных скорлуп.
Сероватые – из цинковой или свинцовой пыли.
При длительном использовании песочных часов точность нарушалась, так как зёрна песка постепенно дробились.
Точность зависела также от формы колб, от гладкости их лекальных стенок, степени равномерности сухого потока.
Нелегко было и бороться с обтиранием отверстия в сужавшейся диафрагме – только при неизменном диаметре отверстия неизменной оставалась бы и скорость струения потока песчинок.
Но труднее всего, как я и предполагал, было автоматизировать, когда иссякает песочный поток, текущий из одной колбы в другую, опрокидывание колб.
– Душа моя на колбочку похожа…
У юного поэта был писклявый голосок, глаза прятались в большущих очках; он заметно волновался, не привык, очевидно, читать на людях.
Люди – молодые, бесшабашные – галдели за столиками с салатами оливье и сухим вином; столики теснились меж толстыми чёрными колоннами, покрытыми битумным лаком.
Давно это было.
Теперь так не оформляют интерьеры для заведений общественного питания, приправляемого культурной программой.
Но именно теперь я почему-то вспомнил про колбочку.
Итак, я подолгу разглядывал гравюры, наводил лупу на сгущения тончайших штрихов. Вот знаменитые Нюрнбергские часы с четырьмя системами поочерёдно опрокидывающихся колб, заключённых в общий футляр.
Как много было придумано!
Но все механические ухищрения, которыми было бы несправедливо не восхититься, лишь маскировали пусть и исчезающе малый, но неустранимый интервал пустоты между прерванными струями песочного или – если угодно – временного потока.
Повторяю: усомнившись в точности измерения скорости потока, я поставил под сомнение его непрерывность, абсолютный ритм длительности.
Куда же девается время, пока заводят механические часы, меняют батарейку в электронных часах или опрокидывают песочные?
О, потери секунд, даже долей секунд ничтожны, они всё меньше – прогресс часовой техники стремителен: самозавод, автозарядка батареек, мало ли что ещё сработает на иллюзию непрерывного хода, адекватного измеряемой непрерывности.
Однако опрокидывание колб как принципиальный образ потери плавности и непрерывности разрушало и, думаю, будет разрушать впредь иллюзию поточно-сплошного времени.
Из пустотности периодических разрывов, останавливающих время, тянет могильным холодом…
Меня лихорадило, бросало из жара в озноб, когда я приникал пылающим лбом к прозрачной прохладной сфере.
Время струилось, бомбардируя стеклянные стенки колбы.
Видимость потока времени завораживала – куда свечению плазмы, пируэтам элементарных частиц!
Безразличное ко мне время струилось, струилось, струилось, пока не иссякало вдруг до последней смущённо проваливающейся в бездну песчинки.
И я переполнялся сочувствием, жалел истекающее время, глядя, как иссякает, слабеет тонюсенькая полупрозрачная струйка.
Мне делалось неловко, как румяному здоровяку у одра умирающего: я превращался в свидетеля последней секунды.
Но кто кем повелевал?
Не знаю.
Увеличить бы ёмкость колб, ещё больше, ещё… Сократить число пустых интервалов безвременья, темноватых стыков между периодами, мечтал я в тягостных снах, которые продолжали разгадку досаждавшей наяву тайны.
Во всю мощь лёгких мне удалось как-то выдуть две необъятные, сросшиеся сиамскими близнецами колбы, способные измерить век Сахарой песка.
Но и эта махина была конечна, как конечны мои усилия, и ей не напасти было пищи для прожорливой вечности, и её пришлось бы когда-нибудь опрокинуть.
И выросла бы страшная – страшней чёрной бездонной пропасти – зияющая дыра во времени.
Вечность, бесконечность враждебны человеку.
С высоких гордых абстракций, словно с недосягаемых слюдяных ледников, стекает унижающий простого смертного холод.
Солнечные ванны Милка принимает в истоке набережной, с незапамятных пор обосновывается она на крайней скамье с могучей скруглённой спинкой, на той скамье, что и сейчас стоит между открытым кафе и пристанью. Поджаривается Милка день-деньской, ей что ультрафиолетовое излучение, что инфракрасное – лишь бы небесное светило-ярило грело. Но приятное не заслоняет полезного, тут же, впрочем, в приятности превращаемого: ни штришка не проморгает в меняющейся картине, не скрыться от нее, с выгоднейшей для наблюдений позиции засекает она идущих на пляж, с пляжа, сводит, сколачивает, сплачивает, у неё – клинический зуд компанейства. Волю, к примеру, неудержимо несёт стихия словоизлияния, в коей он, уникум монолога, неутомимо готов блистать, понуждая обалдело онемевших собеседников развешивать лопухами уши, а вот Милка организует общение, презирая изоляционизм узких пляжных кружков картёжников или книжников, запрещая подолгу млеть пузом кверху в ленивом трёпе, отвлекающем от знакомств, шуток, красноречивых взглядов. Она также безжалостно снаряжает лежебок в походы, зазывает на пикники, поощряет внезапные визиты в «Литфонд» или киношный Дом творчества. О, властная её суматошность, конечно, что угодно обещает, кроме элементарной организованности. Узлы отношений, которые запутала, затянула, с диким пылом кидается разрубать, вконец все запутывает. Что толку роптать, рыпаться? Она уже подстраивает новые встречи, перепасовывает записочки, номера телефонов, навязывает планы бредовых проказ, запоминает, кто когда прибыл, убыл. Воля величает её генеральной секретаршей курорта. Даже купается она без отрыва от наблюдательного поста – почти у подножия прозрачной железной этажерки спасательной станции, где фырчат глиссеры, стартуют-финишируют водные лыжники, где слышно, как склянки бьют на подводной лодке – форпосте надёжности. Да ещё, соблазнительно позвякивая посудой, кафе гудит рядышком, за дышащей морскими бризами зелёной лиственной изгородью, лафа! Захочет Милка, так резиновую хачапурину пожуёт, кофейком запьёт, мороженым охладится – всё под боком, но главное, далеко видно сквозь прорези пальм. Глазищи сверхзавидущие у неё, всё, что двигается, стягивают-сжимают в точку, в которой она, генеральная секретарша, греется. Неуёмность её с Митькой сближает, хотя она не носится угорело, чтобы догнать, схватить, держится места в отличие от него, всё ей сюда, на скамью, подай сразу, чтобы, не раздумывая, поспешно поглотить горячительную смесь лиц, поз, слов. Милке не грозит несваримость, буйный нрав гонит неунывающую великовозрастную дурищу всё, что минута дарит, объять, усвоить, мгновенно и наново испытать здоровое чувство голода, жажды впечатлений. А если кто другой кинет какую свеженькую идейку времяпрепровожденьица, подскакивает ужаленно: и я хочу, и я, хоть и рыжая, и, мотнув роскошной огненной гривой, беспардонно перехватывает бразды правления и всех-всех, кто подвернётся, гонит-погоняет развлекаться, смеяться. А ведь не троном владеет – скамьёй, на реечную облезло-белую спинку которой брошены узорчато-полосатый, под зебру, махровый халат, розовые махровые полотенца, раскиданы по скамье и позарез нужные вещи: старинный театральный веер из пластинок слоновой кости, на расширяющихся закруглённых концах скреплённых с нежно-серыми, будто макнули их в пепел, страусовыми перьями, да ещё соломенная шляпища, коллекция лоскутков, которую сезон за сезоном грозится употребить в умопомрачительный туалет, реют на ветру разноцветные ленты…
Воля, набедренной повязкой приспособив какую-нибудь важную тряпку, припускает вокруг скамьи в ритуальном плясе… Тот ещё балаганчик, а длиннющий Милкин шарф из туманного сиреневого капрона тем временем ретрокиношно взлетает над вялыми розами, жёсткими стрижеными кустами лавра. Ох и подзаводят Милку трепыхания воздушных материй! Бывает, залихватски повяжет своенравный шарф узлом на шее и, покинув свою скамью, будто под стрекот кинокамеры катит с Элябриком в открытом платинированном автомобиле. Шарф телепается сказочным хвостом, Воля орет вслед, чтобы не нарывалась на беду, мол, одну резвую дамочку уже задушила в открытом авто газовая змея, а Милка, балда патлатая, хохочет, мол, ей лёгкая красивая смерть не светит, и уже ни черта не слышно; обеими руками придавливает к макушке шляпу, Элябрик поддаёт газу, поддаёт, шарф сплетается с выхлопным шлейфом… Пёстрая выставка курортных товаров на скамье включает также баночки с кремами, баллончики дезодорантов, щётки для волос, гребни, маникюрный набор, кипу захватанных польских женских еженедельников – в них Милка штудирует светские сплетни, репортажи с показов мод, хотя не впрок ей адаптированные соцлагерем ужимки Карден-Лоранов, со вкусом у неё не ахти, когда-то в скромном, в горошек, платьишке покоряла, а теперь какие несуразные самопалы напяливает; потому, наверное, и на мисс-мыс косо смотрит – завидует искусству подать себя… – Неповторимым ансамблем поднялись над волнами семь высотных корпусов, собранных из унифицированных деталей. Прямо по курсу, напротив причала, «Абхазия», за курзалом – «Бзыбь», «Золотое Руно», прошу не путать с одноименным рестораном, а далее – «Колхети», «Амра», по другую сторону мыса, – громыхает, приближаясь, просветительский бас, – за столовой на 1300 мест с дансингом эффектно вырастают из рощи «Иверия», «Маяк»…
Милка закрепляет зонт сбоку, на чугунном остове скамьи громоздким, вроде больших тисков, зажимом, лет с десять тому выточенным для неё на Потийской верфи давним Милкиным дружком и душой распивочных компаний Тимой-капитаном, морским волком, весельчаком, жизнелюбом, командующим на мысу прогулочным катером. – С плоских крыш корпусов открывается чудесный вид на морскую панораму курорта, в барах – коктейли на любой вкус, можно культурно отдохнуть, побеседовать с друзьями, потанцевать… – и будто бы оборвалась плёнка, конец рекламе! – Ну, подплывает Тима: свистать всех наверх и спасайся, кто может! Скоро зашуршит брюхом по гальке, носом в берег уткнётся, – счастливо смеётся Милка, только что прижимавшая к ушам ладони, чтобы от рекламного баса барабанные перепонки не пострадали. А глаза уже вытаскивают на свет из тёмной аллеи знакомую, ладненькую, как с картинки, фигурку. – Смотрите, смотрите…
Конец ознакомительного фрагмента.
(Источник текста: https://rbook.me.
Прочитать произведение целиком в электронном виде можно, купив полную легальную версию на ЛитРес, а в печатном виде - купив книгу, например, на сайте издательства "Геликон Плюс".)
