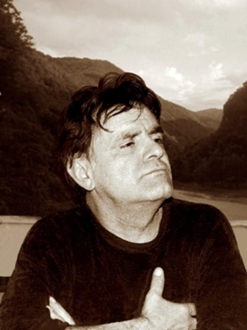
Об авторе
Искандер Фазиль Абдулович
(6 марта 1929, Сухум - 31 июля 2016, Москва)
Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения. Родился в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. В 1938 г. отец писателя был депортирован из СССР. Воспитывался родственниками матери-абхазки. Окончил русскую школу в Абхазии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный институт в Москве. После 3 лет обучения перевёлся в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в 1954 году. Работал журналистом в Курске и Брянске. В 1955 году стал редактором в абхазском отделении Госиздата. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов начал печататься в журнале «Юность». Известность к писателю пришла в 1966 г. после публикации повести «Созвездие Козлотура». Автор романов «Сандро из Чегема», «Человек и его окрестности»; повестей: «Стоянка человека», «Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура», «Софичка», «Школьный вальс или Энергия стыда», рассказов: Тринадцатый подвиг Геракла, «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и других произведений. Искандер-прозаик отличается богатством воображения. Искандер предпочитает повествование от первого лица, выступая в роли явно близкого самому автору рассказчика, охотно и далеко отклоняющегося от темы, который среди тонких наблюдений не упускает случая с юмором и критически высказаться о современности. В 1979 году участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 года. В 2006 году участвовал в создании книги «Автограф века». По произведениям Искандера сняты худ. фильмы: «Время счастливых находок», «Воры в законе» (1989), «Пиры Валтасара» (реж. Ю. Кара) и другие. Особое место в творчестве писателя занимают его худ.-публ., лит. и филос. статьи и эссе и многочисленные интервью, опубликованные в центральной российской и зарубежной прессе во второй половине XX в. Среди них: «Ценность человеческой личности», «Человек идеологизированный», «Поэты и цари» и др. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), III степени (1999) и IV степени (2009). 12.06.2014 президент РФ В.В. Путин вручил писателю Государственную премию РФ в области литературы и искусства.
(Источник текста и фото: http://ru.wikipedia.org.) |
|
|
|
|
Фазиль Искандер
Рассказы (часть 4):
РЕМЗИК
В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.
Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки патефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце.
Им всем было по двенадцать лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрышек, которую многие теперь носили и называли ее "мухус-сочи", имея в виду, что ей нет сносу. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и от этого Ремзик испытывал некоторую неловкость.
Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и смотрела на крыльцо, где сидели ребята, с рассеянной бесплодностью стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика.
Несмотря на то что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно — на небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым.
Лицо ее Ремзику было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признавался в этом. Он считал, что ему, двенадцатилетнему мальчику, девочка вообще не должна нравиться, тем более сейчас, когда идет война.
Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал все эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы.
Да, дядя Баграт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тылы врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того что он был замечательным летчиком, он еще был и везунок.
Он летал на "ПО-2" с хвостовым номером 13. Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что! Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет.
Вообще ему всегда во всем везло! Ну хотя бы такой случай! Мальчик задумался, стоит ли рассказывать такой случай, потому что его навряд ли можно было назвать подвигом, но случай этот полностью оправдывал его прозвище везунка.
Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про тот случай вспомнить.
...Это был такой случай, когда они с фронтовым другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них у обоих были полные, ну представляете, полные-преполные планшеты денег. И они на радостях так крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Просто ничего не помнили. А у них были полные-преполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты лопались от денег, потому что они целый год не были в отпуску, а на фронте денег тратить негде, да к тому же он еще был холостой.
А утром они проснулись в гардеробе у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы, а ведь кругом жулики — война! Просто смешно! И они для смеха пересчитали деньги в своих планшетах, и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане каких-нибудь (для них, конечно) две тысячи...
— Мальчики, может, вы все-таки зайдете? — сказала Вика, опять некоторое время выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзика.
— Охота была в жару в комнате сидеть, — за всех сказал Ремзик и посмотрел на нее своими большими глазищами. Девочка снова исчезла в окне.
— А то зайдем, может, угостят? — сказал Чик и искоса посмотрел на Ремзика.
— Сейчас все на карточки живут, — рассудительно отрезал Ремзик.
— Много ты знаешь, — возразил Чик, — у них бывают бракованные пончики и конфеты, еще вкуснее, чем небракованные...
— Чик правду говорит, — сказал Лесик. Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерживал.
Из окон донеслась веселая музыка "Кукарачи", которую так любила жена дяди, тетя Люся.
— Или взять, как он женился, — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудачествам дяди, — опять приехал в Москву на три дня, уже с другим товарищем... Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: "Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой..." И что же? Он догнал эту девушку, помог ей донести сумку до дому, и она стала его женой.
— Ух ты! — удивился Лесик. — Только из-за этой сумки согласилась?
— Может, у него опять был полный планшет денег? — с некоторым ехидством заметил Чик.
Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость такого предположения.
— Не в этом дело, — сказал он, — в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала, а он ее именно заметил.
— Пацаны, — кивнул Чик на окна, — может, угостят... Они однажды угощали горелыми конфетами... Еще мировее, чем настоящие...
— Кто тебя угостит, если все на карточки живут, — снова заметил Ремзик, — другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь... Но у них нет в деревне родственников...
— Ну тогда расскажи что-нибудь интересное, — сказал Чик, — а то — напился, женился... Скукота...
— Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори, — ответил Ремзик, обидевшись за дядю. — Он напился, — продолжал Ремзик, оживляясь оттого, что вспомнил еще один нерассказанный случай, — с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что не дотягивает до линии фронта. Видно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. Два дня все летчики аэродрома его искали...
Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома на противоположной стороне улицы стоит человек. Неосознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но ты знаешь, что он хочет тебя убить.
В первое мгновение он подумал, что это шпион какой-нибудь, а потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на два-три дня с попутным транспортным самолетом.
Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала его страшный силуэт.
Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но чего? Омерзение догадки пронзило мальчика: "Он ждет, когда мы разойдемся! Так, значит, мама была права!"
— Ну а потом? — донесся до него голос Чика. — Ты что, оглох?
— Его искали все летчики, — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил, — но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал... Он верил...
— Да знаем, что верил, — перебил его Чик, — но почему именно он нашел его?
— Потому что он верил, — упрямо повторил Ремзик, — он верил, что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому времени уже мало оставалось опытных летчиков. На том аэродроме только их двое и оставалось, и потому он верил в него. В лесах бывают тысячи всяких полян. Но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снижался над теми полянами, на которых он сам мог бы приземлиться. А над другими полянами он не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам... И учтите, — продолжал он, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев.
— Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лесик, — тогда было бы ясно, что там немцев нет...
"Махнуть рукой"! — с горечью повторил Ремзик и украдкой взглянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее...
— По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждение и забрать самолет...
— Но почему был, Ремзик, — спросил Абу, — он ведь жив?
— Конечно, жив, — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке.
Он подумал: "Он ждет, чтобы мы все разошлись, а потом он войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати".
— Пацаны, тише, кажется, "мессершмитт" летит! — сказал Чик.
Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграла пластинка под названием "Брызги шампанского", и вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась, на Чернявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаяли зенитки.
Девочки в доме завизжали и выключили патефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одуванчики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле слышные звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает из рта кольца табачного дыма: пуф, пуф, пуф.
Снова загремели зенитки. По небу зашарахались прожекторные лучи. К зениткам на Чернявке присоединились зенитки с Маяка. Прожекторные лучи шарахались по небу, то скрещиваясь, то разбегаясь, но самолета не было видно, и только было слышно, как позвякивают оклеенные окна домов, отражая залпы зениток.
В промежутках между залпами высоко в небе продолжал зудеть "мессершмитт". Потом залпы совсем замолкли, а по небу все еще бегали прожекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика.
— Опять ушел, — сказал Чик и сердито сплюнул.
— На Чернявке девчонки-зенитчицы, кого они могут сбить? — сказал Абу презрительно.
— Я и то раньше услышал, — сказал Чик.
— Настоящие зенитчики на фронте, — сказал Ремзик, — кто их будет держать в тылу...
Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил.
Он снова вгляделся в тень дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. "Может, мне тогда показалось", — подумал он. Вернее, попытался подумать. Но он знал, что ему ничего не показалось.
Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень, и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика, там тоже короткая тень, от забора.
Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали, только когда приезжал дядя, и раньше, когда еще был папа...
Давняя боль пронзила Ремзика, словно новая боль сорвала кожицу со старой раны: "Па, я больше никогда-никогда не сдрейфлю! Ведь я все-таки был тогда маленький! Ты же помнишь?! Мне же было тогда восемь лет!"
...Он подумал: наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крылечке директорского дома, и он не мог сдвинуться с места, потому что боялся, что я его замечу.
Девочки в доме снова завели патефон. И снова музыка сладостной болью обволокла его душу. Эта пластинка называлась "Риорита".
— Ну я пошел, — сказал Ремзик и встал с крыльца.
— А как же самолет? — спросил Чик.
— Какой самолет?
— Ну тот, который сел в Брянском лесу, — напомнил Чик.
— Ах тот, — вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу, — им не разрешили спасти его...
— Ремзик, ты уходишь? — спросила Вика, появляясь в окне.
— Да, — сказал он сухо, — мне завтра рано вставать.
— Спокойной ночи, Ремзик, — сказала она, как бы растворяя сухость его ответа своей доброжелательностью.
— Спокойной ночи, — ответил Ремзик.
— А на море когда? — спросил Чик.
— Часиков в одиннадцать, — ответил Ремзик не оборачиваясь, — я тебе крикну.
Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то собака его не кинулась ему навстречу. Обычно она лежала у крыльца под огромным стволом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями она нашла себе уютное место.
С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым младшим, переехала в родную деревню Анхару, где работала в больнице и жила в доме дедушки.
После того как ее младший брат женился и привез из Москвы свою жену, Ремзика решили оставить в городе, чтобы он ей помогал и ей не было страшно одной.
С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая, Ремзик это знал точно. На нее посматривали мужчины. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпиталя, однажды, увидев их вместе, крикнул Ремзику:
— Ремзик, родственника не хочешь?
— Ты что, — ответил ему Ремзик, удивившись его неосведомленности, — тетя Люся жена дяди Баграта!
— Ну и везет же некоторым! — сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу.
Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика.
Да, Ремзику нравилась жена дяди, ее красота казалась ему заслуженным подарком для дяди. Единственное, что огорчало его, — это то, что мама явно ее не любила. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит своего младшего брата и ревнует ее к нему. Он знал, что это с женщинами бывает.
Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не был виден на улица. Стол был накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом.
Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и вошел в столовую. Он увидел тетю Люсю и ее подругу Клаву. Тетя Клава стояла на четвереньках и, неприятно выпятив зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь оттуда выгнать собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки.
Тетя Люся, держа в одной руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые бывали на собаке, хотя он часто купал ее в море.
Тетя Люся была очень брезглива и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой.
Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос был приподнят на затылке. Ладонью одной руки прикрывая свет от окна и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок ковра, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, просвечивала розовой кровью.
Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как он вошел в комнату. Дверь в спальне была слегка приоткрыта. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку кровати, простыню, свисавшую с края расстеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобученную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна.
Мальчик сделал еще один шаг, так, чтобы в приоткрытую дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тебя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову. Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь.
— Помоги нам выгнать Барса, — сказала она, — меня мутит от его блох.
— На нем клещи бывают, — ответил Ремзик, — блохастым он никогда не бывал.
— Тем хуже, — сказала она, нахмурившись, и опять склонилась над кушеткой, — я, по-моему, видела эту мерзость... но никак не могу найти.
Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта и он мог что-нибудь увидеть.
— Барс, ко мне, — сказал Ремзик, и собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом.
Тебя Клава продолжала стоять на четвереньках, неприятно выпятив зад.
— Барс, ко мне, говорят!
И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику.
— Ужин на столе, — сказала тетя Люся, — можешь весь хлеб съесть...
Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, он услышал из столовой голос тети Люси, угадал значение слов, произнесенных тихим раздраженным голосом:
— Дверь прикрой...
Ремзик вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса, собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: "Ну, что теперь будем делать?"
И эта полотняная кепка, нахлобученная на шар и увиденная в приоткрытую дверь, и эти упорные поиски клеща на кушетке, и эта розовеющая кровь в свете лампы, и этот оттопыренный зад тети Клавы, и эти попытки выгнать упирающегося Барса — все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности.
Все-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе теплого кипятка, закрасил его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, запивая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогорклый, и он третий кусок хлеба ел без джема, хотя в банка его еще было много. Последний кусок хлеба он бросил собаке.
Выпив чаю, он продолжал сидеть за столом, не зная, что делать. По возне в столовой он чувствовал, что они продолжают искать клещей. Он подумал: они ищут клещей, а Этот притаился в спальне и ждет, когда она придет к нему и ляжет вместе с ним.
Временами с моря доносился ночной ветерок, и листья виноградных плетей, вьющихся под карнизом веранды, тихо лопотали. Гроздья недозрелой "изабеллы" темнели в зеленых гирляндах листвы. Он дотянулся рукой до ближайшей грозди и машинально отщипнул несколько ягод. Кислая мякоть скользила в горло. Он сплюнул шкурки на пол. Барс тотчас же слизнул их.
Он подумал: "Оказывается, она предательница, а я ей еще магнолии рвал". Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую, пахучую чашу цветка.
— Божественно, — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки. Может, она для Этого украшала цветами магнолии свою спальню? Он подумал и честно откинул такую возможность. Она Этого еще не знала, она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда они впервые вместе приехали из Москвы.
Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народу в доме, сколько стояло на полу ее небрежно полураскрытых чемоданов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сокровища ее одежд, какой она была радостной хохотушкой, как она бесконечно чмокала дядю, как она с Ремзиком бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяким сорнякам, которые здесь, оказывается, вымахивают до размеров, неслыханных в Москве! Как он тогда любовался ими обоими, как он с тайной щедростью позволял ей любить его!
На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовались его приезду и женитьбе, и все крепко выпили, а потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестнице, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали его. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же:
— Баграт, ты же выпивший... Баграт, ты же выпивший...
— Чтоб ночной бомбардировщик рухнул с какой-то паршивой магнолии, — рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и, наконец, дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз.
Ремзик навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь на землю, чтобы спрыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, и наконец под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целуя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала:
— Людей постыдитесь...
...Громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца.
— Я же говорил, угостят, — сказал Чик.
— Ты всегда угадываешь, — восхитился Лесик.
— У меня нюх, — сказал Чик.
— Но ты же не знал, что будет арбуз, — заметил Абу.
— Я знал, что что-нибудь будет, — это главное, — сказал Чик.
— Пацаны, значит, завтра на море? — раздался голос Абу уже издалека, и было ясно, что Чик и Лесик свернули к своему дому, а Абу пошел дальше к своему и уже оттуда крикнул.
— Да, — ответил Чик, — ко мне Ремзик зайдет, и мы тебе крикнем.
— Собак возьмете?
— Там видно будет, — важно сказал Чик, и он услышал, как хлопнула калитка в соседнем доме.
Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. "Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они?" — подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким.
Дверь из прихожей отворилась, и тетя Люся вышла на веранду.
— Ты еще не спишь? — спросила она, поеживаясь от ночной прохлады, скрещивая и с любовью поглаживая свои тонкие, голые руки. — Клава остается у нас...
— Знаю, — с невольной прозорливостью ответил он.
— Знаешь? — переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза. Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глазищи, из-за которых дядя шутя называл его "Птица Феникс".
— Ну да, — сама ответила она за него, — уже ведь поздно... Ложись и ты...
— Мне неохота, — сказал он и неожиданно для себя добавил: — Я буду спать здесь...
Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: тетя Клава остается здесь, потому что Этот остается здесь. Он подумал: так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя.
За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом, и всегда ночью. Ремзика всегда будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным, белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя.
Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого он спас. Оба они были чем-то похожи друг на друга. Оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и чиркают их глазами, а пацаны с уважительной завистью смотрят на Ремзика. В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдает кто-нибудь из тех людей, которые должны разобраться в деле отца с этой распроклятой ртутью. Он думал, что этот тайный наблюдатель призадумается, глядя на дядю, и скажет себе: не может быть, чтобы в одной и той же семье был и вредитель и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах, может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват...
К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше двух-трех дней, а в последний раз сказал, что теперь не скоро прилетит, потому что фронт ушел вперед, а аэродром перебазируется.
Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку.
— Что это ты киснешь, Птица Феникс? — спросила она, взметнув простыню и постелив ее на топчане. — Сейчас я тебе взобью подушку...
Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимой фальшью. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как его называл дядя. Она и раньше иногда его так называла, но сейчас это было невыносимо.
— Ложись, — сказала она. Он не двинулся с места. Он подумал: она хочет, чтобы все в доме успокоилось и она спокойно ушла к Этому.
— Мне еще ноги надо вымыть, — все же добавил он, смягчая свое упрямство. Она в это время стояла у раковины и долго мыла зубы, потом так же долго мыла с мылом лицо и руки, а потом так же невыносимо долго вытирала их полотенцем. Он подумал: она так старательно моется, чтобы получше погрязнеть с ним.
Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую она почему-то фальшиво называла компаньонкой (раньше казалось смешно), потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь.
Мерзость! Мерзость! Мерзость!
Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои "мухус-сочи", вымыл их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидаясь, чтобы они высохли. Ноги приятно холодели после обуви, горячащей и саднящей ступни.
"Оказывается, я был дураком, — подумал он, — оказывается, мама была права". После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неполное высшее образование, и мать Ремзика, которая сама там раньше работала, помогла ей устроиться.
В этом госпитале был кружок, которым руководил этот доктор и в котором сам он пел. Этот кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзик несколько раз провожал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно: тогда же Ремзику показалось, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее вовсю расхваливает. Он тогда подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле или этот доктор слишком добрый.
Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет, во всем остальном прекрасна. В конце концов, он решил: или этот доктор слишком добрый, или его кружок слишком плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понял, как он был прав! Оказывается, этот доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству.
___
Жена Баграта любила своего мужа так, как она могла любить, и так, как, по ее разумению, любили и другие молодые женщины в ее окружении. Она заранее не думала, что изменит своему мужу, но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был огражден той силой нравственного воображения, которая задолго до реальной опасности подает сигналы тревоги и задолго до нее заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна.
И когда все случилось, она сначала погрустила, а потом решила, что во всем виновата война да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась как могла.
___
"Да, — думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения, — я был прав, но больше всех была права мама".
Мама в месяц раз или два приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу.
Первая стычка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же госпитале фельдшерицей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обыкновенной больницей и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала.
Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама неправа, а права тетя Люся, которая говорила, что ей скучно одной и ей нужна компаньонка.
Ну ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь чистоплотность? Правда, она у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости.
Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщиной мужчины или мужчиной женщины. Но ведь тетя Клава не замужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала.
Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом. Тетя Люся была на работе, и Ремзик был дома один.
Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая ее аджикой.
— Ремзик, — сказала она, — по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей.
— Какая глупость, — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. — У него есть жена.
— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку. Ремзик страшно не любил, когда она вот так уставится в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее в такие минуты, но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.
— Я же лучше знаю, — сказал он раздраженно, — у него есть жена и двое детей... Они живут в военном городке...
Он заметил, что она его не слушает. Она уставилась в пространство и думала о своем.
— Господи, — сказала она, — какой доверчивый дурак... Жениться на девушке, встреченной на улице...
Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было жалко маму и неловко за то, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за ее какую-то несовременность. Ведь это раньше когда-то было, что если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.
— И что это за сборища, — продолжала мать сквозь слезы, — такая ужасная война... Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. А они только и знают, что крутят патефон...
Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджикой оставшуюся часть початка, чтобы легче шло.
По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет сорок, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом сообразил, что мужчин и так всегда меньше, чем женщин, так что приходится пользоваться и пожилым доктором. К тому же он частенько пел и приносил спирт из госпиталя, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой и сиропом.
Ремзик любил эти вечеринки потому, что на них бывало сытно и весело. На столе стояли американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали разводить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывала изжога.
Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирать платком лицо. Он подумал: скоро должна прийти тетя Люся и она не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко ее.
— Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни, Баграт ничего не должен знать... Он каждую минуту рискует жизнью...
— Глупости, — сказал Ремзик сурово, — она обо всем ему пишет... Я же лучше знаю...
— Обо всем, — вздохнула она и спросила у него: — Где ключ от парадной? Почему он не висит на месте?
"В самом деле, — вдруг подумал он, и что-то екнуло у него в груди, — ключ не висит на месте". Он и раньше это заметил, но не придал этому значения. В следующее мгновенье он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся и как много вещей она забывает, где положила.
— Через парадную никто не ходит, — сказал он твердо, — мало ли куда она могла положить ключ...
Вечно у мамы какие-то глупости в голове! Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу.
Мама опять уставилась в одну точку. Он быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом опять испортит ему настроение.
— Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди, — сказала она, выходя из задумчивости, — иди к соседям или читай у себя в комнате.
— Хорошо, — сказал он ей, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерыжку во двор. Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерыжке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.
— Только бы окончилась война, — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение, — духу ее здесь не будет...
...Потом пришла тетя Люся, и мама как ни в чем не бывало разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла про свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали и она даже не вспомнила про ключ.
Мама уезжала вечером автобусом, и он провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.
— Следи, — вдруг сказала она ему из автобуса, — если этот подлец будет приходить.
— Отстань, — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась. Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус.
Он понял тогда, что ничего не забылось, а все затаилось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она не только унижает тетю Люсю, но и своего любимого брата.
И вот оказалось, что все правда! Стыд и мерзость! Стыд и мерзость!
Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспомнил, что однажды на одной вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, став возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг рухнул на колени и пропел арию из "Евгения Онегина":
Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны...
Ремзик тогда хохотал до слез! Это было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу гадливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали!
Но главное, она! Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает!
Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел а саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду рухнула груша, шелестнула а траве, замолкла. Барс, сидевший возле топчана, сонно зарычал. Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней.
Она предала дядю. Это так же точно, как то, что сейчас ночь, как то, что он лежит на топчане и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминой комнате.
Надо закричать, надо прогнать их из дому! Но ведь тогда дядя все узнает, а мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но он знал, что не только это, он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал: "Ведь если не сказать, значит, и я предатель, ведь мне было сказано, что я здесь остаюсь за мужчину".
Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую змею.
Он подумал: "Но раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю". Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие дореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи бывают в наши дни. Тем более с женой его дяди.
Но как же он сможет любить дядю, когда дядя приедет? Он с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то, чтобы гордиться им. Ведь получается, что и он предает, раз он знает и ничего не делает.
"Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядю!" — пронзила его страшная догадка, и он застонал от боли. Барс встал и, цокая когтями, подошел к его изголовью и ткнулся носом в его подушку. Не дождавшись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним.
___
Это было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так.
Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не зная, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди.
— Сейчас, — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети. Это слово он услышал, уже проснувшись, и, словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец.
— Мы и так задерживаемся, — сказал тот.
— Сейчас, — сказал отец и открыл дверь в комнату, где спали дети.
Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из тех следом за отцом вошел в комнату и стал в дверях.
И Ремзика сковал ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца — смесь запаха табака и еще чего-то связанного с навьюченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец надолго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селе Чегем, откуда мама была родом и где, только окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились.
Видно, отец не решался его разбудить. Ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал.
— Может, в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату, — зачем пугать?..
Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчетливостью, как если бы отец еще был здесь.
— Обязательно сходи в управление, — услышал он голос отца уже с веранды, — я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует.
— Конечно, — ответила мама, и голос ее сорвался, — помни... сколько бы... сколько бы... я всегда...
Он почувствовал всю силу ее отчаяния, он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени, но она так и не решилась. Хотя отец был русский, мать, по абхазскому обычаю, никогда не называла его по имени.
Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца и неосознанно боясь, что этот запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоял немного, а потом тихо-тихо улетучился.
Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой.
Он знал, что отец его геолог и во время одной экспедиции нашел в горах ртуть. Но потом оказалось, что допущена какая-то ошибка.
Так говорили маме. Но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминая следующее утро после ухода отца, разбросанные книги на полу, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал.
От отца пришло несколько бодрых (слишком бодрых, он это почувствовал) писем из Воркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великолепно, но очень просил прислать теплых вещей и чесноку.
Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попрощаться с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, он чувствовал: что он! он! он! виноват в том, что отец не попрощался с детьми.
Отец его, как самого маленького, больше всех любил и потому первым делом подошел к его кровати. Он столько раз об этом думал, что пришел к выводу, что именно его (неспящего!!!), как самого маленького, он не решился разбудить, и потом уже, исчерпав время, отпущенное на прощанье с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если он попрощается с остальными, не разбудив Ремзика, то Ремзик утром обидится на отца.
И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила его. Он вытащил руку из-под простыни и нашарил в полутьме собачью морду. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немного легче.
Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей покачивались над верандой, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша.
Он подумал: надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если она рассердится на его отъезд и обо всем напишет дяде? Он опять почувствовал тоску безысходности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немного успокоило его, и он уснул.
Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльцо и натянул на ноги свои "мухус-сочи". Они еще были влажные, и шершавая резина неприятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разносится.
Он поел винограду, прямо отщипывая от кистей спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно соскальзывал в горло. Барсу он также бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей.
Он знал, что он сюда никогда не вернется. Во всяком случае, не скоро, во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки он отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем он так делает, он только знал, что это правильно.
На веранде он нашел огрызок карандаша, нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой "хорошо", выведенной красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Все это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подпись Александры Ивановны и отметку.
Он подумал-подумал и написал: "Я навсегда, навсегда уезжаю к маме. Ремзик". Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же слово не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирается ее разжалобить. Он замарал карандашом одно из двух повторенных слов.
Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не сдунуло ветром.
Он снова открыл ящик стола, вложил туда свою тетрадь и вбросил огрызок карандаша. Он закрыл ящик, стараясь не шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и снова, стараясь не шуметь, вынул его и снова закрыл ящик.
Он надел на собаку поводок, вышел в сад и подошел к подножью старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводу, раздвигал ногой траву, ища спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он сразу нашел и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали, по крайней мере, две спелые груши. Поэтому он искал. Наконец он ее нашел.
Она закатилась в заросли бурьяна, и пока он ее искал, у него по колено промокли брюки.
Держа Барса на поводке, он вышел на улицу, просунув руку сквозь штакетник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаги, потому что ему было бы стыдно, если бы Этот как раз в это время выходил из дому.
Он решил идти не на станцию, а на Эндурскую дорогу, где бывало много попутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там бывают военные машины, которые вывозят лес за селом Анхара, а военные шоферы не берут денег, во всяком случае с ребят.
Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чику пойти с ними на море. Он подумал, что они его будут дожидаться и им не у кого будет спросить, потому что тетя Люся уйдет на работу. Он повернул обратно, и Барс стал упираться, но он прикрикнул на него, и собака пошла свободней. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзик почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например собаки Чика, любил купаться в море.
Он опять очень быстро прошел мимо своего собственного дома, подошел к дому Чика и, вытянув руку, слегка постучал по открытому окну.
Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше.
— Эй, кто? — отозвался сонный голос Чика.
— Это я, — сказал Ремзик.
— Чего тебе? — спросил Чик, и его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки.
— Я уезжаю в деревню, — сказал Ремзик, — я на море с вами не пойду.
— Ты что, малахольный? — ответил Чик сердито. — Что, мы без тебя дорогу не найдем, что ли?
— Я ведь обещал, — сказал Ремзик.
— А Барса зачем берешь? — спросил Чик, окончательно просыпаясь. — Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море.
— Нет, — сказал Ремзик, — я должен ехать с Барсом...
— Ну, пока, — сказал Чик, и по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоит.
— Пока, — сказал Ремзик и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с Этим.
Завернув за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороспелки всегда бывают такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндурской дороги.
___
В это время подруга жены дяди вышла на веранду и обнаружила, что Ремзика нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дому. Она окликнула его, думая, что он в саду, но ей никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет.
Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик и собака куда-то ушли.
Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и раньше иногда рано утром уходил на рыбалку, всегда беря с собой собаку. Правда, он раньше всегда с вечера предупреждал, что уходит, хотя вчера вечером он был какой-то рассеянный, вспомнила она, не удивительно, что забыл.
— Он ушел на рыбалку, — ответила она подруге, — будем завтракать на веранде.
— Хорошо, — ответила та и, выйдя на веранду, зажгла примус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она готовила завтрак, слетела со стола и залетела под топчан, где ее через три года обнаружила мать Ремзика.
Они спокойно позавтракали на веранде, потому что она была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов.
___
У края дороги стоял "студебеккер". Машина была совсем пустая. Он решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками, и стал его дожидаться.
Направо от дороги на той стороне улицы был расположен базар. У входа в него сидел инвалид и показывал карточный фокус, на который часто попадались крестьяне, приезжавшие продавать фрукты и овощи.
Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти три карты картинками вниз на мешковину, расстеленную перед ним, переставлял их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера, а потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот когда кто-нибудь из зевак не выдерживал — до того ясно было, где лежит валет, — и начинал играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте.
Ремзик, бывало, когда его посылали на базар, подолгу следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал некоторое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику бывало жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немного выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошалевшими глазами следя за неуловимо исчезающим валетом.
Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, который почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом и часто выигрывал у него и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть.
...На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши (Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте), ела их и незаметно сбрасывала огрызки назад в бочку. Ремзик отвернулся.
Взвод бойцов, пропахший могучим солдатским потом, с песней прошел по улице:
Украина золотая, Белоруссия родная,
Наше счастье мо-ло-до-е!
Мы стальными штыками отстоим!
Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их и первый огрызок бросила в бочку, а на втором вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию и сбросила огрызок за прилавок на улицу, словно говоря: "Подумаешь, какая разница..."
Из базара вышло человек десять матросов, очень веселых и бодрых. Похохатывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на "студебеккер". Ремзик сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чачей и они все здорово выпили.
— Давай, пацан, подвезем! — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзика и его собаку.
— Спасибо, мне не в ту сторону, — сказал Ремзик. Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят поиграть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть.
— Все на месте? — спросил шофер, высунувшись из кабины.
— Полундра! — крикнул кто-то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова.
Ремзику стало страшно за него, но матросы с кузова весело загалдели, и несколько человек, вытянув руки, схватили опоздавшего товарища и с небрежной дружественностью втащили наконец его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. У Ремзика отлегло на душе. Несмотря на то что матросы были очень пьяные, он все-таки любовался ими, пока они влезали в машину, такие они все были бравые, здоровые, красивые!
Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать, но машины или были переполнены, или не останавливались. Было уже около десяти часов утра, и на солнце сильно пекло. Он стоял в тени камфорового деревца, но каждый раз, когда на мосту показывалась более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку.
Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высохли и как-то неприятно топорщились. Проклятые "мухус-сочи" тоже сильно пересохли и давили ступни ног, хотя изнутри, он это чувствовал, ноги сильно потели. Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша показалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, подумал он, никогда толку не бывает.
От голода и долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и когда Ремзик выходил из тени, собака упиралась, и ему иногда приходилось выволакивать ее оттуда.
Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпающихся, то сливающихся возле маминой юбки.
Цыганка, прислонившись к прилавку и как-то удобно переломившись, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим шесть стаканов компотом, и цыганята все разом потянулись за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка.
— Стаканы не разбейте, чертенята, — услышал Ремзик голос продавщицы, и детишки, наконец разобрав стаканы, угомонились и замерли кто где стоял, всосавшись в стаканы. Продавщица легла грудью на прилавок и подала ладонь гадалке.
Стоя в жалкой тени камфорового деревца и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались домой и долго "голосовали" на дороге, но ни одна машина не останавливалась.
— Вы не так голосуете, — сказал дядя и, вынув из кармана две красные тридцатки, помахал ими перед первые из грузовиков, и он как зачарованный остановился. Да, за что дядя ни брался, у него все получалось...
Наконец проехал "студебеккер", и Ремзик довольно уверенно поднял руку, другой рукой подтягивая поводок с Барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в пятидесяти от него, шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая держать собаку на поводке.
— Тебе куда, малец? — спросил шофер, выглядывая из кабины.
— Нам до Анхары, — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее.
— Влезайте, — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину.
— В кабину? — удивился Ремзик.
— А куда же? — сказал шофер. — Побыстрей.
Ремзик с собакой обежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверцу. Ремзик уселся на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загородил ногами собаку, чтобы боец, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и в голову не приходило, что этой маленькой дворняжки надо опасаться.
Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое стояние на жарком, пыльном тротуаре. Его "мухус-сочи" раскалились, и ступни от них сильно саднило, но он не решился их снять, чтобы запах потных ног не чувствовался в кабине. В носке правого башмака и так была дыра величиной с трехкопеечную монету, и он знал, что оттуда немного попахивает.
Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его дружка.
— А она что? — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу.
— А она — ничего, — отвечал дружок.
— А ты что?
— А я свое долдоню...
— А она что?
— Она грит, приходи завтра...
— А ты что?
— А я, грю, что ж мне, в самоволку идти...
— А она что?
— Сегодня, грит, не могу, сегодня, грит, мать не дежурит...
Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжание голосов.
Машина внезапно остановилась у въезда на Кодорский мост... Направо от дороги лежал перевернутый "студебеккер", возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, о чем-то расспрашивая штатского человека, стоявшего рядом с ним.
Вдруг откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой, перевязанной ослепительно белой марлей. Даже издали было видно, что у него обезумевшие глаза, и он, махая руками то на дорогу, то на машину, стал что-то объяснять милиционеру, по-видимому противоречащее тому, что рассказывал штатский человек.
Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Он подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости оттого, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было.
Шофер собрался выйти из машины, чтобы узнать, что случилось с тем "студебеккером", но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до заставы, где она живет.
Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием поедет в кузове.
— Ничего, — сказал дружок шофера, — в тесноте, да не в обиде.
— А собака не укусит? — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и вторым красноармейцем. Она была в легком крепдешиновом платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, располагает к предательству.
— Нет, — сказал Ремзик, — она не кусается.
— Вот кто кусается, — кивнул шофер на своего дружка, и они оба рассмеялись. Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку.
Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый "студебеккер" поближе, но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших внизу, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин.
— Я видел эту машину, — сказал Ремзик, — там было много пьяных матросов.
— А-а-а, — кивнул головой шофер и, подумав, добавил: — Не... Я за рулем ни-ни...
— Да, — вздохнул Ремзик, — они вышли из базара и были все пьяные.
Когда они въехали на Кодорский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению.
Он подумал, что где-то в верховьях Кодера глушили рыбу или травили тем химическим средством, которым лечат чайные кусты. Скорее всего, травили, догадался он, потому что от глушения так много рыбы не может погибнуть. Ему было жалко эту ни в чем не повинную рыбешку и жалко матросов, хотя он не знал, погиб там кто-нибудь из них или нет.
Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами.
Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.
...В тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся в другую, а Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко.
На тротуаре напротив гастронома сейчас стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задернут по локоть, а глаза блестели свинцовым безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигом опустел, а Альберт приставал к редким прохожим, явно чтобы подраться с кем-нибудь из них, но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них придраться.
— Моя рука, — почти плача, с каким-то странным умилением говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом.
Ремзик сразу почувствовал, что Альберт пристанет к дяде, как только тот выйдет из гастронома. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронома рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него.
— А-а-а-а, летун, — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты.
Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, рот пересох от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож.
Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загораживая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульку и в таком странном вида стоял против бандита.
— Ну, что скажешь? — грозно спросил Альберт и еще ближе придвинулся к дяде.
Дядя продолжал молча стоять со своими кульками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя, словно врос в землю, продолжал стоять, сжимая в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита.
— Моя рука, — снова сказал Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак.
Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойно прижимая к груди свои большие кульки.
О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбежал из КПЗ, приподняв одну из десятипудовых бетонных плит потолка камеры.
— Жена? — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю. Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта.
Ремзику показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, продолжая прижимать к груди свои такие неуместные кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена.
— Тогда поцелуй ее, — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю.
Дядя, не двигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта.
И вдруг бандит, сделав шутовской полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря:
— Орденоносцам почет и слава...
Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, ища глазами Ремзика. Ремзик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки.
Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним, как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье такой храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, гуляя с дядей, он тайно показывал им его: пусть призадумаются, это им пойдет только на пользу.
Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус, что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов. Что-что, а трусом Ремзик этого Альберта никак не мог считать, о его драках рассказывали всякие чудеса. И что же? Даже в этом дядя оказался прав. Оказывается, у этих бандитов была своя "малина", и милиция там устроила засаду, когда они все собрались. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались, и только Альберт поднял руки. Оказывается, им руки подымать нельзя, оказывается, у них тоже есть свои законы чести. И Альберт, подняв руки, опозорился, и через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказание разбил о его голову одну за другой три бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке "смирно". Ну и голова же у этого Альберта, надо сказать!
...Вдруг Ремзик заметил, что эта женщина, косясь на Барса, слегка воротит нос. "Учуяла, — подумал он, внутренне замирая, — учуяла запах моих ног". Ему стало ужасно неприятно, что она учуяла этот запах.
Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил ему, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр, он был такой дырчатый и вкусный. Но не станешь всем говорить, что точно так пахнул довоенный дырчатый сыр.
Женщина время от времени неприязненно посматривала на Барса и морщила свой нос, показывая, что туда попадает совершенно невозможный запах, хотя запах был вполне терпимый и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал.
Когда она морщила нос, она посматривала на Барса, а потом на сидящего рядом красноармейца, как бы призывая его тоже поморщиться вместе с ней. Но красноармеец не только не собирался морщиться вместе с ней, он даже не понимал ее намеков.
Все-таки Ремзику было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и неприязненно смотрела на ни в чем не повинного Барса. Эти проклятые "мухус-сочи", которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются.
Он старался сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он знал, что если не шевелить ступней и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабины, и женщина перестанет так нечестно морщить нос. Ведь даже если ты слышишь какой-то неприятный запах, ты должен перетерпеть его, если ты не у себя дома, конечно.
Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых в доме царит неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают. Потому что они привыкли к нему.
Если Ремзику попадался дом с таким неприятным запахом, он его честно терпел, только потом старался не заходить туда, если уж очень местный запах этого дома был неприятен.
Ведь ты не почтальон, ты не обязан входить в каждый дом, но если уж вошел, то ты не должен показывать, что местный запах этого дома тебе не нравится.
Ремзик решил чем-нибудь заткнуть все-таки свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было.
Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины и делая вид, что возится с ошейником, вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик так странно использовал поводок, и, выпрямив уши, уставился на башмак так, как, бывало, уставится в подвальный люк, учуяв там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит.
Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. Сейчас она все поймет, глупый Барс его выдаст.
— Эта собака, — вдруг сказала женщина, — очень неприятно пахнет... Вы ее купаете?
— Почти каждый день в море купается, — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила.
— А по-моему, хорошая псина, — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней.
Молодец красноармеец! Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с нею шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами, но она не захотела слушать его шутки, намекнув, что ее муж лейтенант погранзаставы. Все-таки это было довольно грубо — давать знать рядовому красноармейцу, что ее муж лейтенант погранзаставы. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие и не такое терпят.
Воспоминание о случившемся такой режущей болью отдалось во всем его теле, что он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых "мухус-сочи".
Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в то лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при папе.
Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не ссорился со своей юной женой, но это были очень короткие ссоры, и запах праздника никуда не уходил.
Во время этих ссор дядя всегда говорил одну и ту же непонятную фразу:
— Я таких, как ты, — говорил он. — имел на бреющем...
Самое смешное, что эта непонятная фраза действовала на тетю Люсю вразумляюще. Она или переставала ссориться, или, смеясь, подходила к нему и начинала целовать его и чего-то намурлыкивать в ухо.
Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь и снова появился запах праздника! После того как четыре года тому назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти никогда не проходил до прошлогоднего лета. За эти четыре года запах праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облаке воспоминаний. Это было тогда, когда кто-нибудь из родственников или знакомых, а чаще всего мама вспоминали об отце.
— Ваш отец... — говорила она и рассказывала какой-нибудь случай из их жизни.
Особенно он любил рассказ о том, как он был совсем маленький и заболел каким-то желудочным заболеванием и долго-долго болел, и никто не мог его вылечить, а папа был в экспедиции.
Наконец врач, уставший лечить его, сказал маме:
— Я больше ничего не могу... Попробуйте сменить климат...
Мама дала телеграмму отцу, и через два дня он был в городе. Они решили Ремзика вывезти в Чегем, в дом дедушки. По словам мамы, он был уже так слаб, что не мог поднять голову, а не то чтобы говорить или ходить...
Они поехали в машине до села Анастасовка, и отец его все время держал на руках, а мать время от времени заглядывала ему в лицо и дула ему в глаза, чтобы посмотреть, жив он или уже умер.
И вот, когда они вышли из машины и дошли до Кодера и стали ждать парома с того берега, а паром долго не приходил, и, наконец, когда паром уперся в берег и отец с ребенком на руках вошел на паром и сел у борта, ребенок вдруг ожил. Маленький Ремзик стал тянуться к воде, что-то мыча и показывая на что-то рукой.
Сначала никто ничего не мог понять, а потом отец посмотрел на воду и увидел, что в воде, прижатый течением к борту парома, покачивается карандаш, выпавший из кармана, когда он садился. Ремзик обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю!
Это было, по словам мамы, первое, да еще осмысленное, оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзик все-таки выживет!
Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, что он отчетливо помнит этот случай, хотя как будто он не должен был его помнить по возрасту. Ему было тогда полтора года.
Но ему казалось, что он помнит, как они ждали парома и как промчались, пока они ждали, вниз по течению плоты с плотогонами, стоявшими с шестами на плотах, отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног, помнит, как один из плотогонов что-то им крикнул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотом, и, главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от остро заточенного конца его!
— Мама, — спрашивал Ремзик каждый раз, когда она об этом рассказывала, — а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?
— Ну, откуда, Ремзик, — отвечала она ему каждый раз, — мне тогда было не до этого.
Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш, но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзик уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказала. Он много раз думал об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геолог, а геологам приходится и в горной реке мокнуть, и на лошадях трястись, поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзик так думал, но не был уверен в этом.
От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привязанного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман, но он был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла.
Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзик помнил, что орел был большой, просто неимоверный, особенно когда расправлял крылья!
Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзик. Взрослые часто забывают про многое... Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые.
У поворота с Эндурского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзик открыл ей дверцу, встал и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытащила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего дружка.
— Не будем разорять лейтенанта? — спросил тот у шофера. Он это сказал серьезно, но Ремзик сразу понял, что он шутит, вернее, даже дразнит эту женщину.
— Не будем, — немного подумав, еще серьезней ответил ему шофер.
— Как хотите, — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения. Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины и, перейдя улицу, пошла в сторону берега.
Ремзик снова сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхару.
— То у нее собака не так пахнет, — подмигнул красноармеец Ремзику, — то у нее муж лейтенант...
— Некоторые люди шуток не понимают, — ответил Ремзик.
— Пацан точно сечет, — сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзика.
— Пацан молоток, — ответил шофер, объезжая большую выбоину на дороге.
Они проехали армянское село и въехали в село Анхара. Когда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, Ремзик сказал:
— Мне тут...
Шофер затормозил, и, когда Ремзик открыл дверцу, Барс, которому, видно, машина здорово надоела, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик чуть не слетел с подножки.
— Спасибо, — сказал он, смущаясь не столько оттого, что у него не было денег, сколько оттого, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были.
— Кушай на здоровье, — сказал шофер, и машина запылила дальше.
Барс слегка ошалел оттого, что они наконец приехали. Он все время рвался с поводка, но Ремзик его придерживал, потому что собака хорошо знала дорогу и она явно прибежала бы в дом к дедушке раньше его. Почему-то Ремзику было неудобно, если бы собака пришла раньше его. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребятами. Но, слава богу, был жаркий полдень, и все попрятались в тени, никого не было видно.
Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжуха, собака дедушки Шаабана, по прозвищу Колчерукий, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полпути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошутила, чтобы напугать их. Несколько секунд Рыжуха и Барс чопорно обнюхивали друг друга, а потом Рыжуха стала прыгать возле Ремзика, стараясь лизнуть его в лицо. Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, на кого лаяла собака. Сначала он узнал подбежавшего Барса, а потом и Ремзика.
— А-а! — крикнул он по своему обыкновению. — Наш русачок прибыл, русачок! Мало того что сам дармоед, так он еще и собаку с собой привел!
За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка.
— Что-нибудь случилось? — спросила тетушка издалека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы загородиться от солнца.
— Чего там могло случиться! — заорал на нее дедушка. — Соскучился по мамалыге — вот и приехал!
— Ничего не случилось, — сказал Ремзик, и, когда они подошли друг к другу, она, улыбаясь, повертела рукой вокруг его головы, что должно было значить, что она берет на себя все его болезни и горести.
— Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной, — сказала она, улыбаясь своим морщинистым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахло запахом очажного дыма, уютом деревенской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать предательницей.
— А где Яшка? — спросил он про своего двоюродного брата, озираясь.
— Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Кодор, — ответила тетушка, — они теперь не скоро придут...
Тетушка и Ремзик взошли на кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра.
— Ремзюша, — сказала сестра и бросилась его целовать. Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было пятнадцать лет, и она как-то здорово изменилась за последние несколько месяцев. Она уже становилась девушкой, то есть входила в тот возраст, когда можно стать предательницей.
— С чего это ты вдруг? — спросила она у него по-русски.
— Я приехал навсегда, — неожиданно сказал Ремзик и сам почувствовал, что сказал что-то лишнее.
— Как навсегда? — удивилась сестра. — А как же Люся?
— Посмотрим, — сказал он, — там видно будет.
У него снова испортилось настроение, а он-то думал, когда открывал ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить свой приезд. Но потом он подумал: если уж объяснять, то только маме, а мама раньше вечера домой не придет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что мама раньше вечера все равно домой не придет, а до этого можно будет все выкинуть из головы. Он подумал: до вечера еще долго, долго... До вечера еще что-нибудь может случиться... Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась... Тогда все будет просто...
Ему стало как-то веселей и проще. Он с удовольствием оглядел большой зеленый двор с яблоневыми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зеленый двор. Во дворе паслись два теленка и каурая лошадь, которая с какой-то странной яростью щипала траву.
С той стороны плетня, огораживающего двор, у подножия яблонь лежало много паданцев. Во дворе тоже валялось несколько яблок, и одно из них теленок смешно катал по траве, пытаясь укусить, и никак не ухватывал его зубами.
— У дедушки новая лошадь? — спросил Ремзик.
— А что ему больше делать, — ответила тетушка Софичка, сворачивая цигарку, — только и знает, что менять лошадей... Уже сбросила его раз... Думаю, в следующий она его прикончит...
— Чем болтать всякую чушь, — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал к седлу подпругу, — ты бы лучше курицу зарезала да угостила нашего русачка... Глядишь, и нам чего-нибудь перепадет.
Все это он сказал, не поднимая головы и орудуя шилом и большой иглой.
— За курицей дело не станет, — ответила тетушка Софичка, и они все трое вошли в кухню.
В очаге горел огонь. В придвинутом к огню котле варилась фасоль. Ремзик сел на скамью у очага. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно.
В это время одно за другим несколько яблок шлепнулось под яблоней во дворе и на огороде.
— Деньги падают и гниют, — крикнул дедушка с веранды, — некому подобрать.
— Чем причитать здесь, повез бы в город и продал! — в ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзиком тарелку с вареной тыквой и ножом,
— Подкрепись до обеда, — сказала она.
— Совсем выжила, — крикнул дедушка в ответ, — где же у меня время возиться с яблоками...
Барс, который вместе с ними вошел в кухню, посмотрел на тарелку, потом на Ремзика и как бы показал на себя. Ремзик вырезал ножом мякоть из одного куска тыквы и бросил Барсу. Барс понюхал тыкву, осторожно попробовал, а потом стал быстро уплетать ее, как бы вспомнив вкус полузабытой еды.
Ремзик тоже стал есть холодную вкусную тыкву. Он чувствовал, что тыква вкусная, но почему-то она плохо лезла в горло. Он не знал, что случилось с горлом, но он знал, что это связано с тем, что он узнал вчера. Горло стало как-то плохо работать. Все же он съел два куска холодной вкусной тыквы, и хотя горло плохо работало, он заставлял себя глотать приятную мякоть тыквы.
Еще один кусок он бросил Барсу, и Барс с удовольствием съел второй кусок. Интересно, подумал он, у собаки, когда она узнает о чем-то неприятном, может горло плохо работать или нет?
— Ну, как там Люся, не скучает? — спросила сестра.
— А чего ей скучать, — ответил Ремзик, — у нее ведь там компаньонка.
— Пора бы ей хоть котенка выродить! — крикнул дедушка с веранды. Оказывается, он все слышал оттуда. — Слава богу, больше года замужем...
— Не твое дело! — крикнула ему тетушка Софичка и подвесила над огнем очага мамалыжный котел и засыпала туда муки для заварки. Потом она вошла в кладовку и вынесла оттуда в подоле кукурузные зерна. Пыхтя цигаркой, она вышла из кухни, высокая, костистая, худая.
— Тетя Софичка еще сильнее похудела, — сказал Ремзик, глядя ей вслед.
— Еще бы, — ответила сестра, размешивая мамалыжной лопатой заварку в котле, — она ведь два дня в неделю ничего не ест.
— Почему? — удивился Ремзик.
— Она дала богу обет, — сказала сестра, — на каждого из наших близких, чтобы вернулись живыми с фронта. Сегодня как раз день Баграта... В такие дни только воду пьет и курит... Конечно, глупость.
Сестра положила мамалыжную лопату на котел и присела рядом с Ремзиком на скамью.
Раньше Ремзик сам считал, что такие вещи просто глупость. Но сейчас он вдруг почувствовал, что это не глупость. Он подумал: если ты кого-то любишь, то ты ради этой любви должен что-то трудное сделать, и тогда будет ясно, настоящая это любовь или ненастоящая.
Он подумал: "А что же сделал я ради любви к дяде?.. Мне было стыдно сказать ей, — ответил он сам себе. — Надо было одолеть стыд и сразу же все сказать, — подумал он. — Но ведь она могла пожаловаться дяде, а мама говорила, что он ничего не должен знать". Он снова почувствовал тоску безысходности. "Но ведь еще прошло немного времени, — подумал он, — еще есть время что-то сделать..."
— Снял бы свои "мухус-сочи", — сказала сестра, — по-моему, они пованивают.
— Ага, — сказал Ремзик и вышел во двор. Он снял свою обувь и выставил ее на солнце посреди двора. Теплая мягкая трава приятно щекотала подошвы ног. Он с удовольствием потер потные ноги о траву.
— Ремзик, согреть тебе воду, может, ноги вымоешь? — спросила сестра, появляясь в дверях кухни.
— Зачем ему ноги мыть, — крикнул дедушка, — я сейчас пойду купать лошадь, там он и вымоется весь. Пойдешь со мной?
— Конечно, — обрадовался Ремзик.
За домом раздавался голос тети Софички, сзывающей кур. Куры со всего двора бежали на ее голос. Два петуха, один рыжий, а другой белый, тоже бежали на голос тети Софички, но все время делали вид, что они не слишком торопятся. Поглядывая друг на друга, они то бежали, то приостанавливались. Вдруг рыжий петух гневно заклокотал, услышав кудахтанье, как понял Ремзик, пойманной курицы. Расправив крылья, он из всех сил побежал за дом, а белый остался, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за домом.
— А тебе-то какое дело, — слышался голос тетушки Софички, отгоняющей петуха, — чтоб тебя ястреб унес!
Через несколько минут она вышла из-за дома, неся за ножки курицу с перерезанным горлом.
— Я давно ее подозревала, — сказала она, неизвестно к кому обращаясь, — что она поворовывает кукурузу в амбаре... Так оно и есть — один жир.
— Помоги мне лошадь поймать, — сказал дедушка и, гремя уздечкой, сошел с веранды.
В это время с яблони снова шлепнулось несколько яблок.
— Деньги гниют, — сказал он мимоходом, и они стали медленно подходить к лошади. Лошадь вздернула голову, посмотрела на дедушку и, сердито фыркнув, побежала в глубину двора. Там она остановилась и стала яростно щипать траву.
— Заходи с той стороны, а я с этой, — сказал дедушка.
Они стали приближаться к лошади. Ступать босыми ногами по мягкой, теплой траве было приятно. Когда они подошли к ней поближе, она снова вздернула голову, посмотрела на обоих и побежала в сторону Ремзика, словно поняв, что его ей незачем бояться. В нескольких шагах от него она остановилась и стала яростно щипать траву. Когда он приблизился к ней, она, никуда не уходя, быстро повернулась к нему спиной, словно направила на него орудие задних копыт. Он попытался ее обойти, но она опять, не сходя с места и продолжая яростно щипать траву, направила на него орудие своих задних копыт. Ремзику стало немного не по себе.
В это время тетушка Софичка вынесла курицу, обданную кипятком, и стала выщипывать из нее перья.
— Нечего ребенка к своей бешеной собаке подпускать, — сказала она ворчливо, — мог бы и сам взнуздать...
Наконец они загнали лошадь в угол двора. Она злобно озиралась на Ремзика, который стоял сзади нее в нескольких шагах и помахивал палкой, чтобы она боялась побежать в его сторону. Ремзик не знал, боится ли она его, но то, что он ее боится, это он чувствовал. Дедушка подходил к ней сбоку, и теперь ей некуда было деться, — справа забор, впереди забор, сзади Ремзик с палкой. Она сделала попытку перемахнуть через забор, но не решилась, а дедушка уже стоял рядом с ней, и когда он поднес к ее губам удила, она вскинула гривастую голову, но он успел вложить ей в рот железо, и она сразу притихла.
— Хочешь поехать верхом? — спросил дедушка.
— Да, — сказал Ремзик отчаянно.
Ощипав и выпотрошив курицу, тетя Софичка бросила неодобрительный взгляд на Колчерукого, который, окоротив уздечку, чтобы лошадь не укусила Ремзика, помогал ему взобраться на нее.
— Чтоб я эту лошадь на упокой твоей души, — ругнула она дедушку и вошла в кухню. Обе собаки съели выброшенные внутренности курицы и сейчас принюхивались к перьям.
Ремзик уже сидел на лошади, и дедушка открывал ему ворота, когда снова — шлеп! шлеп! шлеп! — с яблонь слетело несколько яблок.
— С ума сойти, — бормотал дедушка, скрипя воротами, — деньги под ногами гниют, а подобрать некому.
Ремзик чувствовал голыми ступнями ног горячий живот лошади и немного боялся, что она его укусит. Несколько раз она мотала головой, чтобы схватить его за ногу, но он успевал отдернуть ее.
— Да не бойся же ты, — крикнул дедушка, как бы вкладывая в свой крик и раздражение по поводу гниющих денег, — крепче поводья держи!
— Я не боюсь, — сказал Ремзик и крепче сжал поводья.
Услышав скрип ворот, Барс поднял голову и, увидев, что Ремзик выезжает со двора, бросился вслед. Собака выскочила на улицу первой, следом Ремзик на лошади, а сзади дедушка, захлопнув ворота, замкнул шествие.
Теперь они двигались по проселочной дороге. Лошадь все время косилась на Барса, который, чувствуя неприязнь лошади, держался на безопасном расстоянии. Лошадь все время косилась на Барса и словно забыла о Ремзике. Барс время от времени поглядывал на Ремзика, словно хотел спросить: "Что ей от меня надо? Иду себе в сторонке, а она недовольна".
Ремзик уже привык к ней и чувствовал себя легко. Он ощущал голыми ступнями ее странно горячий живот, как будто у нее была температура.
Надо было проехать еще метров сто проселочной дороги, потом проехать небольшую поляну и въехать в лесок, где протекал ручей, образовывавший в этом месте довольно глубокую заводь.
Ремзик знал это место. Он не раз там ловил рыбу и купался. У самого выхода проселочной дороги на поляну навстречу им показался бригадир соседней бригады. Он подозрительно покосился, как показалось Ремзику, на него, на самом деле он оглядывался на лошадь.
Дело в том, что бригадир этот поймал сегодня утром на колхозном кукурузном поле чью-то лошадь и теперь искал хозяина. Он знал, что Колчерукий совсем недавно приобрел себе новую лошадь, и сильно подозревал, что поймал именно ее.
— Это твоя лошадь? — кивнул он на нее.
— А то чья? — спросил Колчерукий,
— Да сегодня на потраве поймал одну лошадь, волк ее задери, — сплюнул бригадир, — не могу найти хозяина.
— А какая она с виду? — спросил Колчерукий. Они стояли в тени ореха, а Ремзик уже выехал на поляну. Он остановил лошадь, дожидаясь дедушки. Лошадь, клацая железом удил, стала яростно щипать траву.
— Гнедая, волк ее задери, — снова сплюнул бригадир.
— У наших нет гнедых, — сказал Колчерукий, — никак армянская.
Ремзик оглядел поляну. На ней паслись коровы и свиньи, державшиеся поблизости от трех яблонь, росших посредине поляны, с которых время от времени слетали перезревшие плоды.
Бригадир и Колчерукий закурили, стоя у подножия ореха, и стали прикидывать, какому армянину могла принадлежать эта лошадь, пойманная на потраве.
— Ты езжай, она сама доведет, — сказал Колчерукий Ремзику. Он не мог спокойно говорить о лошадях, даже если они пойманы на потраве.
— Чоу! — крикнул Ремзик на лошадь, стараясь придать голосу мужественную грубость. Но лошадь никак не отозвалась на его голос и продолжала яростно щипать траву. Ремзику стало стыдно, что он не может никому ничего приказать. Он ударил ее пяткой по животу и изо всех сил потянул поводья. С трудом заставив ее приподнять голову, он еще раз сильно ударил ее пяткой, и она крупной рысью пошла через поляну.
Лошадь шла крупной рысью, и собака трусила поблизости, слегка поджав хвост и как бы стараясь придать своему облику непритязательную скромность и тем самым хотя бы заставить лошадь забыть о своем существовании. Но лошадь ни на минуту не забывала о собаке и время от времени гневно косилась на нее.
Болтаться на спине лошади, идущей рысью, было неудобно и даже немного больно, но все-таки Ремзик был доволен, что подчинил ее своей воле.
Тропа вошла в прохладный и сырой ольшаник. Черный дрозд вылетел из кустов ежевики и, треща, пролетел сквозь заросли дикого ореха. Лошадь перешла на бег.
Они вышли к ручью, на глинистом берегу которого было множество следов животных, приходящих сюда на водопой.
Огромная разлапая коряга, лежавшая поперек течения ручья, образовывала в этом месте довольно глубокую запруду. На той стороне ее шесть буйволов лежали в воде, высунув из нее свои рогатые, жующие жвачку головы. Увидев всадника, подъехавшего к ручью, буйволы перестали жевать жвачку, но, убедившись, что им ничего не грозит, снова задвигали могучими ленивыми челюстями.
Ремзик слегка разгорячился от верховой езды. Он попытался въехать в ручей с разгону, но лошадь, как он ни стукал ее своими пятками, не шла. Тогда он повернул ее, въехал на небольшой откос, дотянулся до зарослей ольхового молодняка, выломал ветку, сдернул с нее листву и, спустившись с откоса, снова подошел к запруде.
Он только взмахнул своим хлыстом, и лошадь, почувствовав, что он и в самом деле может ее ударить, вошла в воду. Он попытался было закатать брюки, но не успел и решил, что потом высушит их на берегу. Лошадь вошла в воду по шею и, остановившись, стала медленно и долго пить воду.
Она пила воду так долго, что запруда успела успокоиться, и мальчик посмотрел в прозрачную воду ручья, видя волнистую песчаную поверхность дна в середине ручья с дрожащими бликами солнца, стаи мальков, мелькающие в воде, темную глубину воды слева под откосом, где дно едва-едва просматривалось и где на глазах его медленно и осторожно проплыла большая крапчатая форель. Она была величиной с кукурузной початок.
Буйволы возле того берега, когда всадник вошел в воду, выжидательно перестали жевать жвачку, но, заметив, что всадник не собирается переходить на тот берег, снова заработали челюстями.
Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых по колено ног подымалась прохлада. Он почувствовал какую-то легкость, какое-то прояснение, какого не чувствовал со вчерашнего дня. Он почувствовал, что он что-то может.
Он подумал: "Я буду жить здесь, покамест мама здесь работает, а когда кончится война, дядя обо всем узнает, и тогда взрослые сами решат, как им быть... Но ведь это нечестно, — подумал он, — предательство будет продолжаться, и я, зная о нем и ничего не делая, буду тоже предателем..."
Ему опять стало как-то не по себе. Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых ног щекочущим ознобом подымалась прохлада, и это было теперь неприятно.
Он оглянулся на Барса, одиноко сидевшего на берегу. Ему стало жалко собаку, словно он ее тоже немного предал из-за лошади.
— Барсик, ко мне, — сказал Ремзик. Собака завиляла хвостом, обрадованная вниманием мальчика, и радостно полезла в воду. Она немного попила воды, словно желая убедиться в свойствах среды, в которой ей придется плыть, и, убедившись, что эти свойства вполне подходящие, поплыла. Она плыла, приподняв голову и смешно выставив из воды кончик хвоста. Сейчас ей лошадь не была страшна, потому что та была наполовину погружена в воду, и собака понимала, что лошадь ее не сможет ударить ногой.
Она подплыла к Ремзику, и Ремзик, нагнувшись, несколько раз погладил ее по голове. Лошадь приподняла голову и покосилась на собаку. Собаке это не понравилось, и она посмотрела на Ремзика, словно говоря: "Если у тебя нет ко мне какого-то дела, я лучше все-таки буду подальше от этой недружелюбной лошади".
Она поплыла назад, сначала прямо, а потом какими-то зигзагами, и мальчик удивился, но потом понял, что это она погналась за каким-то скользящим по воде насекомым.
Лошадь приподняла голову, по губам ее стекала вода. Ремзик оглянулся на то место, где проплывала форель, но сейчас в темной глубине ничего не было видно. Откос обрывистым берегом высотой метра в два уходил в глубокую заводь. В прошлое лето он с другими деревенскими ребятами прыгал отсюда в воду, а иногда и рыбу ловил. Он решил попробовать прыгнуть с обрыва на лошади.
Он вышел на берег, поднялся на откос, отъехал метров на десять и, ударив лошадь своей веткой, погнал ее к обрыву. Лошадь рысью побежала к обрыву, но у самого края притормозила и остановилась.
Ремзик посмотрел вниз, в глубокую заводь, с высоты лошади. Ему стало страшновато. Когда он смотрел на обрыв из воды, он не казался ему страшным. Сейчас с высоты глубокая заводь была прозрачной, и он снова увидел большую крапчатую форель, которая осторожно проплывала по самому дну. Наверное, это была та же самая форель. Он подумал: чем крупнее рыба, тем она осторожней... Интересно, именно те рыбы становятся большими, которые осторожны, или рыба, став большой и понимая, что ее хорошо видно, делается осторожной?
Форель доплыла до тени головы лошади, падавшей на воду, и, каким-то образом почувствовав ее там, на дне, постояла немного и осторожно повернула и вплыла под самый берег в самую глубину заводи.
Он так и не понял, рыба становится большой оттого, что она осторожна, или, сделавшись большой, становится осторожной. Он подумал: "Почему, интересно, я об этом подумал?.. Потому что я боюсь прыгать и нарочно отвлекаюсь", — ответил он себе.
И вдруг вспышка режущего стыда соединила невыносимой болью три точки жизни: "Я струсил в ту ночь, когда отец подошел прощаться, я предал дядю, ничего не сделав для него, я сдрейфил прыгать и отвлекаюсь на какую-то чепуху с большой рыбой!"
И, больше не давая себе ни о чем думать, он хлестнул лошадь и, отъехав метров на двадцать, повернул ее и, снова хлестнув, галопом помчался к обрыву. У самого края лошадь еще раз притормозила, и он опять хлестнул ее своим ольховым прутом, и она, почувствовав власть всадника, сделала тяжелый прыжок в воду.
Холод воды с размаху оцепенил его тело, и, когда он выдернул из нее голову, он увидел вокруг себя еще оседающие от падения брызги, и справа от него на мгновенье засветился мягкий, нежный кусок радуги. Еще через мгновение голова лошади, вымахнувшая из воды, хлестнув его по левой щеке мокрой гривой, отдернулась назад.
Нащупав ногами дно, лошадь вышла на берег и, фыркнув, отряхнулась. Он тронул рукой горящую щеку и оглянулся на запруду. Волны от их прыжка все еще расходились по воде, и буйволы, перестав жевать, приподымали головы, пропуская волны. Казалось, они мерно покачиваются на воде.
Бедный Барс, которому этот шумный прыжок совсем не понравился, отошел подальше вверх по течению и уселся на безопасном расстоянии.
Ремзик был счастлив. Весь мокрый, но не чувствуя холода, наоборот, чувствуя только бодрость и необыкновенную легкость во всем теле, он понял, что теперь ему ничего не страшно и все будет как надо. И отец вернется и поймет, что он был слишком маленьким тогда и потому испугался, и дядя вернется с фронта, когда окончится война, и от предательницы, как говорила мама, духу не будет здесь, и никто не подумает, что он в чем-то виноват.
Ему захотелось снова прыгнуть в воду, но свой ольховый прут он выпустил из рук, когда погружался в воду. Он снова погнал лошадь на откос и, добравшись до зарослей ольшаника, выломал новую ветку, сдернул с нее листья и, отогнав лошадь, ударил ее и пустил в галоп.
У края обрыва лошадь снова затормозила, но он, едва удерживаясь и сползая на шею, снова огрел ее веткой, и она снова тяжело плюхнулась в воду.
Он снова с головой погрузился в воду, почувствовал, как перехватило дыхание, и на мгновенье раньше, чем лошадь, успел высунуть голову. Лошадь тоже выметнула голову из воды, и грива ее на этот раз хлестнула его в правую щеку. По струе воздуха, ударившей его по лицу, он почувствовал, с какой силой голова лошади выметнулась из воды. На этот раз в брызгах налево от себя он увидел нежную полоску радуги, растворившуюся в воздуху. Он никогда не думал, что можно так близко увидеть радугу. Он смутно подумал, что надо опасаться головы лошади, но тут же отогнал эту мысль, словно она его возвращала в то тоскливое состояние, в котором он был со вчерашнего вечера. "Нет, нет, — подумал он, — этого никогда не будет теперь. Второй прыжок был еще лучше, чем первый. На этот раз, — горделиво подумал он, — я даже свой хлыст не потерял".
Он снова ударил лошадь, отряхивавшуюся на берегу, и отогнал ее для третьего прыжка.
Волны, вызванные вторым падением, снова заставили буйволов перестать жевать жвачку, и они, покачивая рогатыми головами, пропускали волны, чтобы не замочить голову. Хотя прыжки всадника в воду им не нравились, они их беспокоили не настолько, чтобы покинуть уютную прохладу ручья.
Когда Ремзик отогнал лошадь и повернул ее для третьего заезда, он увидел, что поверхность запруды почти совсем успокоилась, и буйволы снова заработали чугунными челюстями, лениво жуя свою жвачку.
В это время Колчерукий с бригадиром уже сидели в тени ореха, и Колчерукий, зная всех армянских лошадников, рассказывал бригадиру, где кто живет. Если бы бригадир встретился с Колчеруким минутой позже, когда Ремзик и дед проходили поляну, где головы палило полуденное солнце, он не стал бы с ним так долго разговаривать.
Из леса выскочил Барс и, пробежав поляну, не останавливаясь возле сидящих в тени, побежал прямо к дому Колчерукого. Колчерукий даже не заметил его. Добежав до ворот, он стал отчаянно скрестись, чтобы открыть их, а потом откинул голову и завыл.
— Ша! — сказала тетя Софичка, услышав вой собаки. Она вышла на кухонную веранду, чтобы точней определить, чья это собака. Судя по близости воя, это могла быть собака соседей, живущих напротив, у которых сын был на фронте. — Кажется, это собака Датико, — сказала она грустно, — несчастная его мать. Да ведь кто его знает, может, ранило, а может, собаки вообще ничего не понимают.
Она снова вошла на кухню, где у очага сидела сестра Ремзика и жарила на вертеле курицу, с которой то и дело капал жир, вспыхивая голубоватыми огоньками на раскаленных углях. Лицо ее разрумянилось от сильного жара.
— Уже готова, — сказала она, стараясь отвернуться от огня.
— Снимай, — сказала тетушка Софичка, — мамалыга тоже уже высыхает... Этот мой балаболка, наверное, с кем-то там встретился и теперь будет до самого вечера бар-бар-бар-бар...
В это время Барс снова завыл, и стало ясно, что какая-то собака воет у самых ворот. Рыжуха из-под дома виновато скульнула в ответ.
— Ша! — сказала старуха и снова вышла из кухни. На этот раз она дошла до самых ворот и увидела Барса. Сердце ее сжалось от боли, но она заставила себя подумать, что все-таки, наверное, выла какая-нибудь другая собака. Но Барс посмотрел ей прямо в глаза и снова завыл со страшной силой.
— Неужто с Багратом что случилось... — сказала она вслух и открыла собаке ворота. Потом она вдруг подумала, что что-то могло случиться с ребятами, ушедшими на Кодор ловить рыбу.
Собака вбежала во двор и беспокойно оглянулась на старуху, словно хотела ей что-то сказать. Потом она добежала до середины двора и внезапно затормозила, увидев "мухус-сочи" Ремзика. Она взяла в зубы резиновый башмак мальчика, потрепала его в зубах и снова завыла.
В это время сестра Ремзика уже стояла на кухонной веранде. У тетушки Софички и сестры одновременно вырвался из груди вопль страшной догадки:
— Ремзик!
Собака, больше не глядя ни на кого, выбежала со двора, а тетушка Софичка так и замерла у открытых ворот.
С необыкновенной быстротой, клубком отчаянья собака промчалась мимо все еще сидевших в тени ореха дедушки и бригадира.
— Эта собака, — кивнул бригадир на Барса, — что-то страшное видела, только что она промчалась туда, а теперь бежит обратно.
— Так это ж нашего русачка собака, — сказал Колчерукий и встал.
— Уж не она ли только что выла? — сказал бригадир.
— А чего ей выть, волк ее задери, — сказал Колчерукий и заторопился через поляну. Он был уже на краю поляны, когда увидел свою лошадь, которая, волоча поводья, мокрая, выходила из леса, яростно щипая траву.
___
Ремзик третий раз разогнался, и лошадь опять притормозила у обрыва, и он снова хлестнул ее, и она тяжело бултыхнулась в воду. У него снова перехватило дыхание, и он изо всех сил вскинул голову и схватил ртом живительный глоток воздуха. Брызги, вызванные взрывом падения, еще оседали в воду, и он увидел на этот раз впереди себя нежно тающий на глазах полукруг радуги и прямо из-под него выметнувшуюся из воды и летящую на него голову лошади.
Он успел откинуть собственную голову, но голова лошади ударила его в грудь, и, уже падая в воду, в последний миг, он успел удивиться неимоверной, незаслуженной жестокости случившегося.
Лошадь вышла из воды и пошла через ольшаник, по дороге яростно щипая клочья травы, попадавшиеся по сторонам от лесной тропы.
Барс, которому сразу не понравились эти прыжки, слишком шумные и слишком резкие, сначала обрадовался, что лошадь ушла, а мальчик нырнул. Собака привыкла к его ныряниям на море и терпеливо ждала. Потом она забеспокоилась и подошла к воде, быстро поворачивая голову то вверх, то вниз по течению. Она знала, что, когда они купались в море, он иногда заныривал за какую-нибудь скалу, а она беспокоилась и искала его.
Вдруг он вынырнул, но не как обычно, шумно фыркая, а как-то тихо, тихо поплыл по течению и, зацепившись за корягу запруды, остановился.
Собака слегка заскулила и поплыла к нему. Она доплыла к нему и стала лизать его лицо, чувствуя, что это его лицо, его тело, его рубашка, вздувшаяся от застрявшего в ней воздуха, и в то же время, что его нет, из него ушло то, что она так любила и что было им, Ремзиком.
Она подумала, что другие люди, тоже любившие его, смогут помочь, если то, что было им в его теле, еще не ушло слишком далеко, и она быстро поплыла назад и выплыв из ручья, не отряхиваясь, изо всех сил побежала к дому.
У запруды снова стало тихо. Но буйволы почему-то вылезли из воды и, отражая солнце черными, лоснящимися тушами, медленно пошли от ручья. Они почувствовали что-то.
____________________________________________
БОГАТЫЙ ПОРТНОЙ И ХИРОМАНТ
Богатый Портной, как и положено Богатому Портному, занимал три комнаты в верхнем этаже нашего дома. Раньше, говорят, он жил во дворе в маленькой хибарке вроде той или даже той, в которой сейчас жил дядя Алихан, продавец восточных сладостей.
Но потом, говорят, дела его пошли в гору, и он, соответственно, как думал я, перебрался на второй этаж.
Сначала в одну комнату, и она нависала над двором как деревянная скала, и тут уже можно сказать, он вылупился и предстал перед всеми в своем новом обличье, а именно в обличье Богатого Портного.
Вообще-то звали его Сурен, и Богатым Портным его сначала называли за глаза, но потом, видя, что он не обижается, все чаще и чаще стали называть его так и в глаза.
— Какой я богатый, — бывало, говорил он, ласково отмахиваясь от прозвища.
Будь в нашем доме множество этажей, думал иногда я, он так и перебирался бы с одного на другой, так и поднимался бы все выше и выше. Но дом имел всего два этажа, и перебираться Богатому Портному больше было некуда, хотя стремление оставалось. Поэтому он сначала расширил насколько мог эту взлетную площадку, а потом приобрел себе земельный участок и стал строить собственный дом.
Иногда Богатый Портной со всей семьей отправлялся отдыхать на участок. Сборы были шумными и долгими. Несли с собой кастрюли, тарелки, провизию, примус. Маленький, победный, кучерявоголовый, сам он шел всегда впереди со свернутым в трубу ковром на плече.
Вечером возвращались. Богатый Портной усаживался на балконе и начинал хвалить свой участок.
— Один воздух — миллион стоит! — громко сообщал он.
— А что там за воздух? — удивлялся кто-нибудь из соседей, потому что участок этот был расположен в полукилометре от дома, где там взяться какому-то особенному воздуху, было непонятно.
— Речка журчит, и все время кушать хочется! — сам удивляясь, говорил он.
— Неужели все время?
— Да! — восторженно подтверждал он с балкона. — Только что покушал, опять кушать хочется — такой воздух! По сравнению с ним Кисловодск — тьфу!
При этом Богатый Портной и в самом деле плевал с балкона, на минуту помешкав, чтобы не попасть в прохожего.
На участке у него стояла сосна. Он ее тоже хвалил как особенно красивую. Он и дятла хвалил, который иногда прилетал на эту сосну.
— Опять мой дятел прилетал, — говорил он, — хвост прижмет к дереву и долбит, долбит, так что опилки летят! Тоже кусок хлеба ищет — интересная птица!
Строительство нового дома на участке длилось множество лет и доставляло ему массу хлопот, которые он выдавал за особую форму наслаждения. Так, например, фруктовый сад с мандаринами, грушами, хурмой, заложенный на участке, стал плодоносить гораздо раньше, чем он выстроил дом, потому что рост растений никак не связан с добычей строительных материалов, тем более левых, не говоря уж о найме удальцов-шабашников.
Когда стали плодоносить груши дюшес, ему пришлось купить охотничье ружье и время от времени ходить по ночам сторожить свой участок, потому что груши поворовывали.
Так как ходить туда часто он не мог, ему приходилось, видимо, для острастки тамошних соседей иногда инсценировать удачную оборону фруктовых деревьев от хулиганских набегов. По слухам, эти стычки сопровождались выстрелами, криками и лаем дворовой Белочки, которую он приспособил таскать к себе на участок. Я пытался прятать от него нашу Белочку, но сделать это было трудно, потому что Богатый Портной был настойчив и всесилен.
— Белочка, купаться, — бывало, говорил я ей тихо, видя, что Богатый Портной собирается на вахту. Купаться Белочка не любила и тут же забивалась в подвал или убегала на улицу. Все равно он обычно ее находил и вылавливал.
Через некоторое время она сама до того возненавидела эти усадебные развлечения, что если кто-нибудь при ней просто так начинал говорить про участок, то она, услышав это слово, забивалась в подвал, и вытащить ее оттуда стоило большого труда.
Иногда, уходя сторожить на свой участок, он в тот же вечер возвращался домой. Посторожит часа два-три, покажется соседям, может быть, пальнет в воздух, а потом тайно уходит домой.
Однажды я видел, как ночью, возвращаясь домой, он перелезает через забор соседнего школьного двора. Тогда мне показалось, что это он делает для сокращения дороги. Но потом я догадался, что этот маневр был направлен и против ребят с улицы, чтобы и они думали, что он остался сторожить свои фрукты.
Днем в послеобеденное время он иногда приезжал с участка на мотоцикле своего кунака, известного в городе автоинспектора. Обычно он сидел в коляске, по пояс погруженный в груши и хурму, как маленький кучерявый бог плодородия.
Подъехав к дому, он кричал кому-нибудь из своих, и ему выносили корзину, после чего он часть плодов вытаскивал из коляски, а часть оставлял.
Автоинспектор в таких случаях сидел прямо за рулем, не оборачиваясь и даже стараясь не шевелиться. Чувствовалось, что автоинспектор не оборачивается и даже не шевелится, чтобы показать хозяину, что он никакого давления на него не оказывает, мол, как хочешь, так и дели. А с другой стороны, он не оборачивается, чтобы для окружающих получилось, что он и не знает, чего это там Богатый Портной возится в коляске, чтобы потом на всякий случай можно было сказать:
— Ты смотри, оказывается, он там груши оставил!
Я знал, что Богатый Портной его нарочно возил на свой участок, чтобы показать тамошним жителям свою близость к органам наведения порядка.
Автоинспектор появлялся в доме Богатого Портного, как правило, после большого дворового скандала, в котором принимала участие семья Богатого Портного. И хотя сам автоинспектор в эти скандалы никогда не вмешивался (чего не было, того не было), все понимали, что это демонстрация силы.
Еще до того, как Богатый Портной стал ходить на участок с охотничьим ружьем и Белкой, он долго искал человека, чтобы нанять его сторожить свой сад. Кстати, все эти его ночные бдения с выдуманными или преувеличенными набегами и стрельбой закончились тем, что его самого прострелил ишиас, явно невыдуманный, хотя, может, и преувеличенный. Во всяком случае, в описываемое лето, как и во все последующие годы, он ходил мужественно прихрамывая, так что со стороны для тех, кто ничего не знал про ишиас, могло показаться, что он бывший участник гражданской войны.
Тогда на участке его стояла времянка, сколоченная на скорую руку, а поздней осенью ночи у нас бывают довольно промозглыми. Так что на следующий год, когда стали дозревать фрукты, он купил у одного загулявшего туриста спальный мешок и уже не выходил в осеннюю сырость во время дежурства на участке, а только время от времени просыпаясь в спальном мешке, высовывался из него, палил куда попало и снова засыпал.
Ребята с нашей улицы, те, что были постарше лет на пять, на шесть, договорились было унести его ночью в этом мешке и забросить на какой-нибудь участок, где собака позлее. Но потом все же не осмелились осуществить свой замысел, потому что было вполне вероятно, что он по дороге проснется и уж по крайней мере два выстрела из своей двустволки сделает и в закрытом мешке.
Все знали горячий нрав Богатого Портного. Однажды разозлившись, он сбросил горшок с геранью на одного пацана, который надерзил ему. уверенный, что покамест тот слезет со своего балкона, он успеет убежать куда-нибудь. К счастью, горшок с геранью пролетел мимо, но пацан этот здорово испугался.
Этими горшками всех калибров, от маленьких, величиной с кружку, до больших, величиной с бочонок, в которых росли столетники, цвела герань, пламенели канны, был уставлен весь балкон.
Балкон как бы представлял из себя цветущий макет его будущей усадьбы. Здесь он обычно отдыхал, а чаще гладил, громко прыская водой по материалу.
Бывало, наберет в рот воды, а потом почему-то передумает поливать сукно, а то и не передумает поливать, а что-то срочно надо ответить кому-то на улице, так он, чтобы не пропадала вода, фыркнет ее на цветок и потом уже говорит. А то, бывало, и поливать сукно не передумал и вроде некому срочно отвечать, но так случайно упадет взгляд на цветок, и вдруг Богатый Портной весь подобрался, насторожился, словно село на растение какое-то зловредное насекомое или он почувствовал, что, оказывается, оно умирает от жажды, и вот он быстро наклоняется и фырк! А потом еще и еще, и уже успокоившись, снова берется за утюг.
Надо сказать, что по мере расцветания участка цветник на балконе приходил постепенно в упадок. Возможно даже, что горшок с геранью, выброшенный на того пацана, был первым еще неосознанным признаком его охлаждения к цветнику. Можно даже сказать, что в состоянии этой горячности проявилось начало его подсознательного охлаждения, хотя тогда еще его участок был далек от расцвета. После этого он еще дважды или трижды выбрасывал горшки с цветами на своих противников, но тогда уже упадок цветника на балконе был более или менее очевиден. Так воплощение всякого замысла приводит к грустному запустению мечты.
Я замечал, что и теперь он по привычке прыскает иногда на цветник, но где та сосредоточенность, настороженность, вкрадчивость любовной игры? Нет, теперь, заметив что-нибудь неладное в состоянии цветника, он небрежно, мимоходом брызнет изо рта, словно бросит кость опостылевшей собаке.
Семья Богатого Портного состояла из жены, тещи, время от времени навсегда уходившей из дому к родственникам, но потом неизменно возвращавшейся, и двоих детей — Оника и Розы.
Оник был мальчик наших лет, его Богатый Портной особенно любил и баловал. Бывало, поглаживает на балконе брюки или пиджак заказчика, прыскает изо рта и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:
Мой Оник симпатичка... (Брызг!)
Мой Оник моя птичка... (Брызг! Брызг! Брызг!)
Мой Оник, тру-ля-ля...
Так он с небольшими перерывами мог напевать часами, пока Оник не выходил из себя.
— Ну, хватит, папа, хватит! — кричал Оник, чувствуя, что ребята посмеиваются над ним за эти нежности.***
— А что, разве не симпатичка? — спрашивал он и, чмокнув губами, посылал воздушный жирный поцелуй. Оник нажимал на педали.
Однажды Богатый Портной пришел в нашу школу, открыл класс во время урока, просунул туда голову, нашел глазами своего любимчика и, протягивая ему кулек, сказал:
— Оник, горячие пончики...
Класс, конечно, повалился от хохота. Даже учительница не смогла удержаться от смеха. Несколько лет после этого Оника в школе называли Горячий Пончик или просто Пончик.
Роза — девушка лет шестнадцати, вся в маму, хотя отчасти и в папу. Сам Богатый Портной был довольно пухленький, но не толстый, я думаю, его подвижность и нервность не давали ему располнеть.
— Моя Роза — алтынчик (золотце)! — говаривал он с гордостью.
Роза была, как и все очень полные девушки, застенчивой, потому что чувствовала некоторую вину за свою полноту. Позже такие девушки, если им удается выйти замуж за человека, который как раз эту полноту больше всего в них ценит, еще больше полнеют, одновременно вымещая на муже за все излишки застенчивости своей юности.
Конечно, так бывает не всегда. Если муж успевает вовремя спохватиться, то он, поддерживая в своей толстушке юношеское чувство вины, может сохранить в ее характере эту приятную застенчивость и даже развить ее до чувства постоянной благодарности,
Впрочем, до всего этого тогда было далеко, и Роза целыми днями играла на фортепьяно. Стрекотанье швейной машинки почти полностью заглушалось водопадами звуков, льющихся из этой музыкальной прорвы.
— Играй, алтынчик, играй!— слышался ласковый голос отца, если она вдруг замолкала. И Роза снова играла. Поговаривали, что он ее нарочно заставляет играть, чтобы заглушить свою швейную машинку. Нашего двора и улицы он, конечно, не боялся, но, видимо, все же считал приличней, если из квартиры целыми днями доносятся до улицы звуки фортепьяно, а не стрекотанье швейной машинки.
___
Однажды, воспользовавшись фальшивой рекомендацией, в дом Богатого Портного проник фининспектор. Он заказал себе костюм, дал Богатому Портному снять с себя мерку, после чего уселся за стол и стал писать акт.
Богатый Портной стал ему доказывать, что все это шутка, что он его узнал, как только тот появился на углу нашей улицы. Но фининспектор ему не поверил, и тогда Богатый Портной отказался подписать акт.
— Не имеет значения, — сказал фининспектор и, положив акт в карман, стал уходить.
— Хорошо, пока не показывай, — сказал Богатый Портной и, следя с балкона за уходящим фининспектором, добавил: — Вот человек, шуток не понимает.
Минут через десять он сам ушел из дому и в тот же день приехал домой на мотоцикле автоинспектора. Потом был долгий обед, и Богатый Портной провожал своего кунака до мотоцикла. Жена, Роза и Оник стояли на балконе.
— Помни, — сказал Богатый Портной, усадив его на мотоцикл и показывая рукой на балкон, — моя семья смотрит на тебя!
Автоинспектор уже включил мотор и вместе с мотоциклом как бы дрожал от нетерпенья.
— Помни! — повторил Богатый Портной еще более важно и поднял палец к небу. — Наверху — Бог, внизу — ты.
— Знаю, — снова сказал автоинспектор и поехал.
Богатый Портной еще немного постоял, глядя ему вслед. Жена и Роза махали рукой. Богатый Портной вошел в дом, жена и Роза перестали махать и тихо покинули балкон.
Три дня после этого Богатый Портной не показывался на балконе, а Онику не давали кататься на велосипеде. Роза играла какую-то грустную музыку, или, может быть, нам казалось, что музыка грустная, потому что деятельный дом Богатого Портного притих.
На третий день вечером Богатый Портной распахнул двери балкона и сказал на всю улицу:
— Рука руку моет, а свинья остается свиньей.
На следующий день уже весело стрекотала машинка, а Оник выволок на улицу велосипед.
Оказывается, автоинспектор узнал, что жена фининспектора, так удачно накрывшего Богатого Портного, работает в ларьке. Это и решило дело. Он уговорил своего друга, инспектора горсовета, поймать ее с поличным. Тот согласился.
В наших ларьках в те времена, как, впрочем, и в последующие, продавали водку в разлив. Это было выгодно и тем, кто ее покупал, и тем, кто ее продавал, и тем, кто проверял продающих, хотя, конечно, и не полагалось по закону.
И вот инспектор горсовета подошел к ларьку с одним человеком. Вернее, сам он стал сбоку у ларька, так, чтобы его не видно было, а того, своего дружка, подпустил к стойке.
Надо сказать, что продавщица была предупреждена, что из горсовета может кое-кто нагрянуть в этот день. У них там тоже свои люди есть. Поэтому она была очень осмотрительна в этот день и, прежде чем наливать водку в стакан, основательно высовывалась из ларька и смотрела направо и налево. После этого она наливала водку в стакан, закрашивала ее сиропом и подавала клиенту. Так что со стороны получалось, что человек пьет воду с сиропом.
И вот, значит, этот человек подходит и просит сто пятьдесят граммов.
Продавщица что-то заподозрила и сказала, что она водку в разлив вообще не продает.
— Знаю, — сказал этот человек, — но у меня так живот болит, прямо сил нет.
Дрогнуло сердце продавщицы, да и до закрытия ларька оставалось всего полчаса, и она уступила. Высунулась из окошка, посмотрела по сторонам и налила сто пятьдесят граммов. Конечно, знай она, кто там притаился сбоку, может, прежде чем наливать, выскочила бы из ларька да обежала бы его два-три раза, но тут сплоховала.
И вот она налила водку в стакан и, как водится, только хотела закрасить свой грех сиропом, как он потянул у нее стакан. Тут продавщица опять что-то заподозрила и хотела выхватить у него стакан с тем, чтобы вылить содержимое в мойку и в дальнейшем все отрицать. Но парень этот вцепился в стакан и отошел от прилавка, чтобы не расплескать вещественное доказательство.
Тут вышел на свет божий добрый молодец инспектор и, со смехом войдя в ларек, стал составлять акт, который продавщица, конечно, не подписала, ссылаясь на свое милосердие.
— Не имеет значения, — сказал инспектор и унес акт. Дальше все было просто. Автоинспектор свел интересы обеих сторон к одному банкетному столу в приморском ресторане. Стороны, сидя друг против друга, при свидетелях обменялись актами и, изорвав их в клочья, выбросили в море.
После этого, говорят, порядочно было выпито, потому что товарищ инспектора горсовета оказался очень веселым парнем. Он никому не давал передышки и то и дело хватался за живот, крича:
— Ой, ой, живот болит, налейте!
Тут, говорят, все падали от смеха, кроме фининспектора, которому все-таки эта шутка продолжала не нравиться.
Надо сказать, что после этой истории Богатый Портной с новыми клиентами стал гораздо осторожнее. Прежде чем впустить неизвестного в дом, он довольно основательно изучал его, разговаривая с балкона. Помню, одного хриплого толстяка он прямо-таки измучил. Тот стоял, придерживая одной рукой перевязанный шпагатом газетный сверток, в другой руке висела сетка с мушмулой. Богатый Портной, склонившись над перилами балкона, внимательно изучал его.
— Я от Гагика Марояна, — застенчиво косясь на сверток, сказал толстяк, — один костюмчик хочу.
— Нет, что ты, дорогой, — ответил он ему, расплывшись, — давно бросил. Пожалуйста, в мастерскую,
— Один летний, легкий костюмчик, — прохрипел толстяк.
— Что ты, дорогой, — повторяет он, стараясь определить, хитрит толстяк или в самом деле честный клиент. Он рыскает по нему выпуклыми глазками, не зная, за что зацепиться, и неожиданно спрашивает:
— Мушмула с участка?
— С базара, — отвечает толстяк, обливаясь потом. — Гагик сказал, пойди к Сурену...
— У меня тоже участок, — говорит Богатый Портной, — восемь японских корней мушмулы посадил, но пока не родит...
— Один аккуратный костюмчик...
— Что ты, дорогой! — восклицает Богатый Портной, как бы удивляясь тому, что люди еще помнят дела такой давности. — А какой Гагик тебя послал?
— Гагик Мароян...
— Ты смотри! — вдруг удивляется Богатый Портной, что этот человек знает именно Гагика Марояна, хотя тот с этого и начал. — Откуда ты его знаешь?
— С братом на фермзаводе работаю, — хрипит толстяк.
— Ты смотри, правильно! — еще больше удивляется он. — Легкие тоже слабые имеет?
— Да, имеет, — кивает толстяк, обливаясь потом, — как брата, прошу...
— Нет, что ты! — разводит руками Богатый Портной и вдруг добавляет: — А парторгом кто у вас?
— Миша Габуния, — хрипит толстяк, — майский костюмчик...
— Ты смотри, тоже правильно! — еще больше удивляется Богатый Портной. — Молодец Миша! Растет. Время такое...
— Один летний, легкий... — тянет хрипло толстяк.
— Нет, шить не шью! — наконец сдается Богатый Портной. — Просто так заходи, поговорим.
Толстяк заходит.
Вообще Богатый Портной не любил, когда на нашей улице появлялся какой-нибудь незнакомый человек. Бывало, смотрит на него сверху, потом вслед, поставив руку козырьком от солнца, потом пожимает плечами, в недоумении бормочет:
— Третий раз сегодня проходит... Другой улицы нет, что ли...
___
Но я чуть не забыл рассказать, как Богатый Портной нанимал сторожа на участок еще до того, как сам взялся за дело. То ли потому что он работу предлагал сезонную, всего на два-три месяца, то ли еще почему, но так он и не смог нанять себе настоящего сторожа. Он даже объявление вывесил во многих местах.
Я сам видел одно такое объявление на электрическом столбе прямо напротив выхода из стадиона. Словно он надеялся, что после футбольных состязаний нашему болельщику ничего не остается, как прочесть его призыв и пойти в ночные сторожа, тем более что наше местное "Динамо" все время проигрывало, хотя и подбрасывало всесоюзному футболу время от времени (а может, поэтому и проигрывало?) довольно значительных звезд. Достаточно сказать, что знаменитый нападающий московского "Спартака" Никита Симонян наш парень.
Объявление это гласило: "Ищу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улицу, кричи: "Сурен".
То ли хорошие русские старики были приставлены к другим фруктовым садам, то ли еще что, но однажды к дому Богатого Портного подъехал на своем ослике известный в городе бродячий хиромант, человек с огненным взором и огненной бородой. Обычно он ездил на своем ослике по дворам и гадал.
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — кричал он зычным голосом, остановившись посреди двора, подманивал к себе женщин. Женщины подходили и, украдкой утерев ладонь о фартук или халат, словно надеялись этим улучшить показания судьбы, протягивали руку. Хиромант гадал, не слезая с ослика. За гадание брал деньгами, продуктами или детской одеждой для своего многочисленного потомства. Иногда он появлялся возле нашей школы, где, также не слезая с ослика, за небольшую плату решал математические задачи для старшеклассников. В городе его считали не то ученым, не то полоумным, а точнее — полоумным, оттого что ученый.
Мой сумасшедший дядюшка, увидев его на ослике, приходил в радостное состояние и, показывая на него пальцем, говорил:
— Мулла едет, мулла!
Однажды он заехал к нам во двор. Там у него произошло небольшое столкновение с Богатым Портным, которое, по мнению некоторых людей, повлияло на их будущие отношения. Я это хорошо помню, потому что в это время, сидя на корточках посреди двора, мыл в лохани Белку.
Главное, что Богатый Портной в поисках сквозняка на этот раз спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему принесла жена, хотя для обоих было бы проще, если бы он, выпив кофе, спустился вниз. Но он всегда так делал, если уж спускался во двор. Бывало, только спустится, а там считай до десяти, и глядишь, его жена появится с чашечкой кофе в одной руке, а то и со стульчиком в другой. Правда, стульчик иногда он выносил и сам, но кофе — никогда.
И как это она точно поспевала за ним, было трудно понять. Я даже подозревал, что они все это разыгрывали заранее, потому что Богатый Портной ко всем своим достоинствам еще и считал себя хозяином прекрасной семьи и свои редкие выходы во двор отчасти превращал в наглядные уроки семейной идиллии. Вот так он сидел и пил кофе, когда в калитку въехал на своем ослике огненнобородый хиромант.
— Воздух — твое гаданье, — сказал Богатый Портной, дав ему проехать возле себя, — ни один человек не верит...
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — воскликнул тот, не обращая внимания на Богатого Портного. Остановившись посреди двора, он бросал огненные взоры в окна и приоткрытые двери квартир.
Несмотря на заверение Богатого Портного, женщины окружили хироманта, а одна из них даже вынесла ослику арбузные корки. Я заметил по лицу Богатого Портного, что он уязвлен вниманием женщин к гаданию.
Первой протянула руку хироманту жена Алихана — Даша. Сам Алихан сидел у порожка своей хибарки и парил в теплой воде мозоли.
— Венерин бугор! — воскликнул хиромант, взглянув на Дашину ладонь. Женщины вздрогнули.
— Воздух! — несколько вяло откликнулся Богатый Портной.
Ослик хрустел арбузными корками, хиромант гадал Даше, иногда бросая взоры и на других женщин, после чего те, поеживаясь, запахивались в свои халаты.
Алихан парил в тазике мозоли и, приподняв круглые брови над круглыми глазами, доброжелательно прислушивался. Видно, гадание ничего плохого не предвещало.
Алихан очень любил свою вечно растрепанную Дашу. Из-за ее бурного прошлого и неряшливого настоящего во дворе Дашу считали плохой женой. Алихан хотел считать, что у него жена такая же, как у других, но двор и в особенности Богатый Портной время от времени напоминали ему, что жена его совсем не такая, как у других, а пожалуй, похуже.
Поэтому он и сейчас с подчеркнутым спокойствием прислушивался к гаданию Даши и, поглядывая на Богатого Портного, как бы предлагал и ему проникнуться этим спокойствием. Но Богатый Портной этим спокойствием не проникался.
— Разве это дело, — сказал Богатый Портной, прислушиваясь к чуждому бормотанию хироманта, — в наше время только ремесло дает твердый кусок хлеба. Возьмем меня...
Он отхлебнул кофе и посмотрел на Алихана.
— Пусть гадает, — ответил Алихан доброжелательно, — каждый человек хочет иметь свое маленькое дело.
Богатый Портной еще раз отхлебнул кофе, поставил чашечку на землю возле себя и решительно поднял голову.
— Алихан, ты не мужчина, — махнул рукой Богатый Портной.
— Почему не мужчина? — встрепенулся Алихан.
— Я бы никогда своей жене не разрешил бы эти глупости, — кивнул Богатый Портной на хироманта и, приподняв чашечку, снова отхлебнул кофе.
— О аллах, — сказал Алихан, уклоняясь от спора, — если это дает спокойствие, рахат, пусть гадает...
Алихан слегка прикрыл веки, прислушиваясь не то к гаданию, не то к действию теплой воды на ступни своих ног, изношенных и разбитых поисками утерянного после нэпа коммерческого счастья.
Видно, уклончивый ответ Алихана, а главное, внимание женщин двора к тому, что говорит хиромант, продолжало раздражать Богатого Портного. Он привык, чтобы слушали его, а тут все облепили хироманта с его осликом, а на него никто не обращал внимания.
Он критически прислушивался к тому, что говорит хиромант, но все же никак не мог к нему подступиться. Помогла его собственная жена. Она подошла к нему за пустой чашечкой, и он молча, кивком головы потребовал еще один кофе.
— Как скажешь, Суренчик, — ответила жена хотя он ничего не сказал. Взяв чашку, она пошла к себе. Богатый Портной посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на гадающую простоволосую Дашу, потом на Алихана и удрученно покачал головой. На это Алихан немедленно обратил внимание и выразил недоумение, приподняв круглые брови над круглыми глазами.
— И у тебя жена русская, и у меня то же самое, — задумчиво сказал Богатый Портной, как бы удивляясь безумной игре природы.
— Ну и что? — промолвил Алихан, нарочно не замечая намек на безумную игру природы.
— У меня жена все равно как армянка, — сказал Богатый Портной не слишком громко, но с чувством, — все понимает, только не говорит...
— У каждой женщины свой марафет, — ответил Алихан примирительно и снова прикрыл глаза. Видно, он сначала ожидал более неприятных разоблачений, а в том, что его жена не похожа на армянку, он не находил ничего обидного.
Когда хиромант, закончив гадание, стал выезжать со двора, Богатый Портной окликнул его. Хиромант остановил ослика и, приподняв голову, как бы нацелился на него кончиком огненной бороды.
— Теперь ты мне скажи, — спросил Богатый Портной громко, — ишак в городской черте разрешается или не разрешается?
— Тебе лучше знать, антихрист! — воскликнул хиромант и тронул ослика.
Я в это время уже сидел на камне и держал Белку на коленях, обернув ее чистой тряпкой, ждал, когда она высохнет.
Богатый Портной растерялся не столько от самого оскорбления, сколько от неожиданного и непонятного слова "антихрист".
— Хахам! — все-таки успел он крикнуть ему вслед. Хиромант не обернулся, так что было непонятно, услышал он или нет.
Хахам жил в самом конце нашей улицы и занимался тем, что резал по праздникам гусей шумным грузинским евреям, по сравнению с которыми, как говорят те, что их сравнивали, одесские евреи кажутся глухонемыми. Кроме широкой черной бороды, к тому же, как утверждали знатоки, крашеной, но не потому, что она была рыжая, а потому что седая, он никакого сходства с хиромантом не имел.
— Хахам тоже имеет свою коммерцию, — сквозь сладостный стон напомнил Алихан. Сейчас, положив одну ногу в закатанной штанине на колено другой, он особой ложечкой расчесывал распаренную пятку. Занятие это всегда приводило его в тихое неистовство.
— Уф-уф-уф-уф, — постанывал Алихан, доходя до какого-то заветного местечка. Доходя до заветного местечка, — в каждой пятке у него было заветное местечко, — он замедлял движение ложки, наслаждаясь ближайшими окрестностями его, как бы мечтая до него дойти и в то же время пугаясь чрезмерной остроты наслаждения, которая его ожидает.
Богатый Портной некоторое время следил за Алиханом, слегка заражаясь его состоянием. В то же время на лице его было написано брезгливое сомнение в том, что такое никчемное занятие может доставлять удовольствие или приносить пользу.
— Не притворяйся, что так приятно, — сказал Богатый Портной, — все равно не верю...
— Уй-уй-уй! — застонал Алихан особенно пронзительно, поймав это заветное местечко и быстро двигая ложкой, как при взбалтывании гоголь-моголя.
— Холера тебе в пятку, — в тон ему ответила Даша, бросая на сковородку шипящие куски мяса. Она стояла над своим мангалом.
— Не люблю, когда притворяешься, Алихан! — с жаром воскликнул Богатый Портной, как бы еще больше заражаясь его состоянием и еще решительней его отрицая. — Никакого удовольствия не может быть...
Алихан, удивленно приподняв бровь, как-то издали сквозь райскую пленку наслаждения, немо глядел на Богатого Портного. Наконец движения руки его замедлились. Он опять перешел к окрестностям заветного местечка.
— Ну ладно, — сказал Богатый Портной и сделал рукой успокаивающий жест, — ну, ла, ла...
Богатый Портной сделал вид, что Алихан остановился под его командой, хотя ясно было, что Алихан остановился сам по себе.
— Чем фантазировать удовольствие, — сказал он, уже взяв в руки скамеечку и уходя, — лучше бы посторожил мой сад...
— Никогда! — просветленно воскликнул Алихан. — Я коммерсантом родился и коммерсантом умру.
— Подумай, пока не поздно, — проговорил Богатый Портной, подымаясь по лестнице.
Закончив свою мучительно-сладкую операцию с ногами, Алихан надел тапки, слил воду из тазика, тщательно промыл под краном свою ложку, спрятал ее и сел на свой стул. Вид у него теперь был ублаготворенный и особенно благожелательный.
— Дядя Алихан, — спросил я, — что такое антихрист?
— Шайтан, — просто и ясно ответил Алихан, но потом, решив дояснить, все запутал: — "Шайтан" говорят по-нашему, по-мусульмански, а по-гяурски говорят "антихрист". А так как сами "гяуры" по-нашему тоже "шайтаны", то получается, что "антихрист" — это "шайтанский шайтан"! — Ясный взор Алихана выражал готовность ответить на любые вопросы.
— Алихан, ужинать! — раздался голос его шайтанской жены, и Алихан, подхватив стульчик, поспешно вошел в свою комнату.
___
Там же летом на объявление о найме сторожа откликнулся хиромант. Он подъехал к балкону Богатого Портного и позвал его.
Тот вышел на балкон, хмуро посмотрел вниз и сказал:
— Воздух — твое гаданье!
— Я хочу сторожить твое именье! — закричал хиромант, дико хохоча и вкладывая в свои слова сатанинскую иронию, о которой ни мы, ни Богатый Портной не догадывались.
Нет, не такого человека ожидал Богатый Портной, но, видно, делать было нечего, никто не приходил наниматься.
— Объявление читал или кто-то сказал? — спросил он, хмуро выслушав его тираду.
— Весь город об этом говорит! — радостно закричал хиромант и всплеснул руками.
— Ляй-ляй-конференцию хватит, — мрачно прервал он его, — ишака привяжи, а сам подымись.
Хиромант так и сделал, и они обо всем договорились. Условия договора, конечно, не разглашались, но кое-что все-таки просочилось. Так, стало известно, что хироманту давалось право использовать по своему усмотрению паданцы и скосить всю траву на участке для прокормления ослика.
Примерно через месяц они в пух и прах разругались, и Богатый Портной изгнал его со своего участка. Тогда-то и выяснились некоторые условия договора.
Хиромант жил на горе, недалеко от участка Богатого Портного, можно сказать, прямо над ним. На этой горе были две сталактитовые пещеры. Так вот одну из них он оборудовал под жилье и жил в ней вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком.
Оказывается, Богатый Портной проследил за ним и обнаружил, что тот под видом паданцев или вместе с паданцами тащит к себе в пещеру его груши и яблоки, из которых он гнал самогон. Гнать самогон в наших краях разрешается, но, разумеется, из собственных фруктов. Выяснилось это следующим образом.
Оказывается, жена Богатого Портного встретила на базаре жену хироманта. Та продавала самогон и при виде жены Богатого Портного сильно смутилась. Видя такую стыдливость жены хироманта, жена Богатого Портного подошла к ней и потребовала объяснения, хотя до этого и не собиралась подходить.
Испуганная жена хироманта во всем созналась. Она умоляла жену Богатого Портного никому об этом не говорить, потому что самогон она продает втайне от мужа из его зимних запасов. Так что, говорила она, если до него дойдут слухи о том, что она продавала самогон, он ее убьет или, что еще хуже, прогонит вместе с детьми.
Ну жена Богатого Портного, конечно, не удержалась и все рассказала мужу, больше всего удивленная такому плохому отношению к собственным детям со стороны ученых людей. Он проследил за ним и однажды поймал его на тропинке, когда тот подымался к своей пещере, деловито погоняя ослика, нагруженного мешками с фруктами. Мешки были вскрыты, и тут же разразился неслыханный скандал, тем более что хиромант успел скосить и убрать с участка всю траву.
Недели через две он снова появился на нашей улице. Несмотря на летний день, правда пасмурный, хиромант был в пальто.
— Чатлах! — крикнул Богатый Портной с балкона, увидев его. Крикнул он это не слишком воинственно, так что, промолчи хиромант, может быть, все обошлось бы. Но хиромант молчать не стал.
— Ищу хорошего русского старика! — крикнул он в ответ и стал оглядывать улицу, словно удивляясь, куда он запропастился, этот хороший русский старик, словно только что он здесь был, а теперь куда-то делся.
Тут Богатый Портной от возмущения потерял дар речи и, схватив горшок со столетником, бросил его вниз. Горшок шлепнулся рядом с осликом и разбился вдребезги. Хиромант даже не дрогнул. Ослик его дернулся было, но потом потянулся мохнатой мордой и понюхал столетник, с комом земли выпавший из горшка.
Как только ослик двинулся дальше, Алихан, сидевший тут же на каменных порожках у входа в дом Богатого Портного, подошел к разбитому горшку, приподнял стебель столетника и, стряхнув с него землю, унес домой.
Кстати, сразу же, как только полетел горшок. Богатый Портной приобрел дар речи, словно тот стоял у него поперек горла, словно он выкашлял его, а не швырнул руками.
— Аферист! — кричал он, свешиваясь с балкона и передвигаясь, чтобы сопровождать ход ослика по улице. — Ты в пещере живешь, ты шакалка!
Хиромант невозмутимо продолжал ехать.
— Нищий, нищий! — вдруг с отчаянной радостью закричал Богатый Портной, словно нашел наконец точное слово. И в самом деле, видно, попал в точку. Хиромант снова остановил ослика.
— Я еще хожу в шелках! — крикнул он, оборачиваясь, и распахнул, почти вывернул пальто, так что чуть не выпала из внутреннего кармана слегка отпитая бутылка с вином.
Сверкнула золотистая подкладка, и в самом деле шелковая.
"Ах, вот для чего пальто!", — подумал я тогда, успев заметить, что вся она была в мелких-мелких трещинах.
Богатый Портной, видно, не ожидал такой подкладки. Во всяком случае, он на мгновение помешкал, оглядывая ее, но в следующий миг взвился, сердясь на себя за это унизительное внимание.
— Барахло — твоя подкладка! — крикнул он. — Все знают, что я шил для наркома и буду шить...
Но ослик уже тронулся. Тут Богатый Портной быстро вошел в комнату, чтобы всем было ясно, что это он первым закончил спор.
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — уже издали раздался голос хироманта. Услышав его, Богатый Портной почему-то снова выскочил на балкон.
— Воздухтрест! — проговорил он, больше обращаясь к улице, чем к самому хироманту. — Все равно никто не верит...
Про этого наркома Богатый Портной довольно часто вспоминал, хотя на нашей улице его никто не видел. Правда, несколько раз за Богатым Портным заезжала легковая машина, но принадлежала ли она наркому, трудно сказать.
— Белый телефон стоит, — рассказывал он про квартиру наркома, — куда хочешь соединяет! Люди — живут.
___
Сейчас я расскажу о великом споре между Алиханом и Богатым Портным. Но прежде чем излагать суть дела, я должен дать вам ясное представление о расстановке сил, о стратегических выгодах и слабостях той и другой стороны, чтобы драма идей, заключенная под внешне незначительным поводом спора, раскрылась во всем своем тайном величии.
Хибарка Алихана, как это легко догадаться, никакого балкона не имела, потому что стояла прямо на земле. Поэтому после работы он иногда отдыхал во дворе, но чаще всего он отдыхал на улице, на каменных ступеньках у входа в парадную дверь Богатого Портного. Тот, сидя на балконе, переговаривался с Алиханом, а чаще из-за своего полемического свойства спорил с ним. Иногда Алихан поднимался к нему на балкон поиграть в нарды или попить кофе, но Богатый Портной вниз к нему никогда не спускался.
Как видно из рассказанного, Богатый Портной был человеком нервным и самолюбивым, тогда как Алихан (бывший владелец кофейни-кондитерской), хоть и продолжал именовать себя коммерсантом, как человек давно все потерявший, был спокойным и ровным. Единственное, в чем он проявлял упорство, — это постоянное отстаивание звания коммерсанта.
Когда разновидность восточных сладостей в его передвижном лотке сократилась до козинак, он не впал в уныние, а стал заполнять свой полупустой лоток жареными каштанами.
— Алихан, — говорил ему Богатый Портной, — изучи ремесло, а то скоро семечки будешь продавать.
— Семечки — никогда! — твердо отвечал Алихан, как бы давая знать, что продажа жареных каштанов входит в шкалу продуктов коммерческой деятельности, хотя и не занимает в ней высокого места, тогда как продажа семечек — это распад, разложение, полная сдача позиций.
Таким образом, Алихан в спорах с Богатым Портным имел свои сильные стороны и твердые убеждения. Но и Богатый Портной, возвышаясь над ним на балконе и охватывая голосом большее пространство, как бы в силу самого положения вещей имел свои преимущества.
Получалось, что он отчасти обращается к соседям, которые, выглядывая из окон ближайших домов и балконов, кивали ему, особенно в жару, в знак согласия. Кивать было удобно, потому что большинство этих кивков сидящий внизу Алихан не замечал. Так что они и его не обижали.
Но и Алихан, опять же в силу самого положения вещей сидевший на низком крыльце у входа в дом Богатого Портного, был до некоторой степени неуязвим, то есть чувствовалось, что скинуть-то его неоткуда, что он и так до того приземлен, что уже почти сидит на земле. А положение человека, сидящего на земле, как бы мы сказали теперь, получив высшее образование, при многих неудобствах обладает диалектической прочностью — что-что, а шлепнуться на землю ему не страшно.
Теперь перехожу к сути главного спора Алихана с Богатым Портным.
Метрах в двадцати от нашего дома была речушка или канава, как ее достаточно справедливо тогда называли. Под каменным мостом она пересекала улицу. У самого моста с той стороны улицы был очень крутой спуск, переходящий в тропинку, которая подымалась вдоль русла вверх по течению. Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазые городские куры.
Только изредка, когда в горах шли грозовые ливни, она вздувалась и на несколько часов превращалась в могучий горный поток, а потом снова мелела.
С некоторых пор на нашей улице стал появляться странный велосипедист. Странность его уже заключалась в том, что раньше он никогда здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться. Жители нашей улицы едва свыклись с этой его странностью, как заметили за ним еще большую странность. Он доезжал до самого обрывистого спуска у моста и только тогда (ни шагом раньше) тормозил, слезал с велосипеда, приподымал его и, быстро спустившись в канаву, исчезал на тропе.
Можно было предположить, что живет он где-то там повыше, над речкой, но почему он раньше здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться, было непонятно. А главное — это его упрямство, с каким он доезжал до самого края канавы, так что переднее колесо даже слегка высовывалось над обрывом, и только после этого тормозил.
Сначала мы все решили, что это он так делает для форсу, но потом заметили, что он никакого внимания на улицу не обращает, что было почему-то неприятно. Выходило, что все это он делает не для форсу. Тогда для чего? Этого никто не понимал, и Богатый Портной начал раздражаться. Несколько дней он молча присматривался к нему, а потом не выдержал.
— Интересно, — сказал он однажды с балкона, обращаясь к Алихану, который сидел внизу, — когда он сломает шею, на этой неделе или на следующей?
— Никогда, — ответил Алихан, перебирая четки.
— Откуда знаешь? — с брезгливым вызовом спросил Богатый Портной и высунулся над балконом.
— Так думаю, — миролюбиво ответил Алихан.
— То, что ты думаешь, я давно забыл, — сказал Богатый Портной, — но я буду последним нищим, если он не сломает себе шею или ногу.
— Ничего не сломает, — бодро ответил Алихан и, приподняв свои круглые брови над круглыми глазами, посмотрел наверх, — он свое дело знает.
— Посмотрим, — сказал Богатый Портной с угрозой и, отложив шитье, добавил: — А пока подымись, я тебе один "Марс" поставлю...
— "Марс" — это еще неизвестно, — сказал Алихан, вставая, — но этот человек свое дело знает.
Дни шли, а велосипедист продолжал приезжать в своей кепке, низко надвинутой на глаза, в сатиновой блузе с закатанными рукавами, в замызганных рабочих брюках, стянутых у щиколоток зажимами, и, конечно, каждый раз останавливался над самым обрывом, и ни шагом раньше. При этом он ни малейшего внимания не обращал на жителей нашей улицы, в том числе и на Богатого Портного. Я не вполне исключаю мысль, что он вообще не знал о его существовании.
— Так и будет останавливаться со своим дряхлым велосипедом, — сказал однажды Богатый Портной, тоскливо проследив за его благополучным спуском в канаву.
— Так и будет, — бодро отвечал снизу Алихан, — человек свое дело знает.
— Ничего, Алихан, — покачал головой Богатый Портной, — про Лоткина ты то же самое говорил.
— Лоткин тоже свое дело знал, — ответил Алихан и, раскрыв рот, показал два ряда металлических зубов, которые мы почему-то тогда считали серебряными, — как мельница работают.
— А Лоткин где? — ехидно спросил Богатый Портной.
— Лоткин через свое женское горе пострадал, — отвечал Алихан, слегка раздражаясь, — а при чем здесь этот человек?
— Ничего, — пригрозил Богатый Портной, — живы будем, посмотрим.
Несколько лет тому назад Лоткин поселился рядом с нашим домом. На дверях своей квартиры он повесил железную табличку с надписью: "Зубной техник Д. Д. Лоткин".
Лоткина у нас считали немножко малахольным, потому что он ходил в шляпе и макинтоше — форма одежды не принятая на нашей улице тогда, а главное, все время улыбался неизвестно чему.
Бывало, розовый, в шляпе и в распахнутом макинтоше идет себе по улице с немного запрокинутой и одновременно доброжелательно склоненной набок головой и улыбается в том смысле, что все ему здесь нравится и все ему здесь приятно.
Особенно он расцветал, если встречал на пути какую-нибудь маленькую девочку. А таких девочек на нашей улице было полным-полно. Бывало, присядет на корточки перед такой девочкой, почмокает губами и протянет конфетку.
— Этот человек плохо кончит, Алихан, — говаривал Богатый Портной, проследив за ним, пока тот входил в дом или выходил из дому.
— Почему? — спрашивал Алихан, подняв голову.
— Есть в нем не то, — уверенно говорил Богатый Портной.
— Докажи! — отзывался Алихан.
— Если человек все время улыбается, — пояснял Богатый Портной, — значит, человек хитрит.
Лоткин жил вдвоем с женой, и когда, бывало, выходил с ней на улицу, все смотрели им вслед. Жена его высокая, выше Лоткина, тонкая женщина, говорили — красавица, проходя, обычно опускала голову, углы губ ее были слегка приподняты, словно она едва сдерживала усмешку, как бы стыдясь за своего Лоткина. А он знай себе идет, размахивая руками и ничего не понимая, улыбается направо и налево, здоровается, приподымая шляпу, и в то же время рыскает глазами, нет ли где поблизости сопливой девчонки в кудряшках, главное, была бы поменьше, умела бы подымать и опускать глаза да еще протягивать руку за конфеткой.
— Ах ты моя куколка золотая...
Однажды мы пошли купаться в море в такой компании — я со своим отцом, Оник со своим Богатым Портным и Лоткин с женой. Помню, всю дорогу Богатый Портной как-то подшучивал над Лоткиным, делая вид, что он о нем знает что-то нехорошее, а что именно, было неясно. Мне кажется, он завидовал Лоткину, что у него такая красивая жена. Лоткин почему-то на эти насмешливые намеки Богатого Портного не отвечал, а только сопел и все улыбался. прикрывшись от солнца свернутой газетой. На этот раз он был без шляпы.
Вблизи улыбка его показалась мне какой-то напряженной. Было неприятно, что жена его все так же опускала голову, чуть улыбаясь краями губ. Чувствовалось, что она поощряет Богатого Портного, во всяком случае на его стороне. Тогда я не особенно прислушивался к тому, что они говорили, потому что меня самого угнетало тревожное предчувствие, что отец мой окажется в кальсонах.
Так оно и оказалось. Отец разделся в сторонке и, закатав кальсоны, вошел в море. Отец мой прекрасно плавал, и в воде было, конечно, незаметно, что он в кальсонах, но рано или поздно надо было вылезать из воды, и это растравляло мое сыновнее самолюбие.
Богатый Портной в трусах с голубыми кантами — мы их называли динамовскими — плескался у самого берега, как младенец. Он не умел плавать, но так как он сам нисколько не стыдился этого, получалось, что он просто не хочет идти в море. Я заметил, что Лоткин в воде пытался заигрывать с женой, но она в море относилась к нему еще хуже, чем на суше.
Однажды рано утром я проснулся от тревожного шума, идущего с улицы.
— Лоткин жену зарезал, — услышал я чей-то голос, и чьи-то шаги за окном заторопились, боясь упустить зрелище.
Я вскочил и выбежал на улицу. Возле лоткинского крыльца стояла небольшая толпа и машина "скорой помощи". Обе створки дверей его квартиры были как-то не по-жилому распахнуты, словно их распахнул взрыв случившейся катастрофы. Толпа колыхнулась, в зиянии дверей появились санитары с носилками, прикрытыми простыней.
Когда санитары спустились с крыльца, я увидел слабое очертание тела, лежавшего под простыней. Кисть руки высовывалась из-под простыни и, непомерно длинная, свисала с края носилок.
Когда машина уехала, я с некоторыми ребятами с нашей улицы сумел пробраться в дом и увидел разоренную комнату с разбросанными вещами, с широкой кроватью, на которой простыни и одеяла были вздыблены и перекручены, как бы хранили следы ужаса и борьбы. Видно, она как-то сопротивлялась. Над постелью на стене остались отпечатки окровавленных пальцев. Пятна следов подымались над постелью все выше и выше, и чем выше они поднимались, тем слабее становились кровавые отпечатки пальцев. Казалось, жена Лоткина пыталась уйти от него, карабкаясь по стене. Говорили, что он ее зарезал бритвой.
Лоткина я больше не видел. Его увели милиционеры раньше, чем я туда пришел. Об этом случае долго толковали на нашей улице, и смысл этих Толков сводился к тому, что он ее любил, а она его не любила или любила другого.
После этого случая самоуважение Богатого Портного усилилось, потому что получалось, что он один предвидел, чем это все кончится. И вот теперь в спорах с Алиханом Богатый Портной напоминал ему о Лоткине, который перед самой этой ужасной историей успел вставить Алихану зубы.
А между тем велосипедист продолжал с непонятным упрямством подъезжать к самому краю обрыва и по-прежнему, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, благополучно тормозил, приподымал велосипед и спускался в канаву.
— Чтоб этот балкон провалился, если он не сломает себе шею, — сказал однажды Богатый Портной, проследив за этой неумолимой процедурой.
— Его велосипед, его шея, — тут же отозвался Алихан, — какое твое дело?
— Порядочный человек так не делает, — сказал Богатый Портной, сумрачно из кружки поливая цветник. Теперь он поливал цветы прямо из кружки, тогда как раньше всегда сначала набирал воду в рот, а потом уж прыскал.
— А как делает? — спросил Алихан, подымая голову. Богатый Портной вбросил кружку в ведро с водой и посмотрел вниз на Алихана, помедлил, собираясь с мыслями.
— Во-первых, порядочный остановит свой велосипед хотя бы за пять-шесть шагов, — начал он, — во-вторых, посмотрит вокруг и поздоровается с соседями, а потом уже пойдет в свою канаву... Лоткин и то лучше был, — неожиданно добавил он.
— Почему? — удивился Алихан.
— Лоткин хотя бы от души здоровался со всеми, — сказал Богатый Портной, — а этот нас за людей не считает!
— Тогда скажи, за кого считает? — быстро спросил Алихан.
— За барахло считает, — мрачно сказал Богатый Портной, — даже кепку ехидно надевает... Мол, на вас даже смотреть не хочу, так надевает, — пояснил Богатый Портной и добавил, возвращаясь к привычной лоткинской версии: — Лоткин шляпу надевал, и то у него номер не получился...
— При чем тут Лоткин! — закричал Алихан. — Лоткин через свое женское горе пострадал.
— А этот через свое упрямство пострадает, — сказал Богатый Портной и пророчески погрозил пальцем в воздухе.
Дни шли, а человек на велосипеде, все так же нахлобучив кепку на самые глаза, продолжал подъезжать к самому обрыву.
Иногда Алихан запаздывал со своей тележкой и, появляясь на улице, смотрел на балкон, взглядом спрашивая у Богатого Портного: мол, как там дела? Богатый Портной в ответ молчал, из чего следовало, что возмездие все еще предстоит.
Иногда сам велосипедист запаздывал, и тогда Богатый Портной, если был занят у себя в комнате, время от времени выходил на балкон и посматривал на улицу. При этом он старался сделать вид, что просто так вышел. Якобы так, беззаботно посмотрит в одну сторону, откуда должен был появиться велосипедист, потом в другую сторону, хотя в другую сторону ему и не надо было смотреть, потому что он оттуда никого не ожидал.
Ребята с нашей улицы обычно в такое время сидели на травке у забора как раз напротив его балкона и, конечно, все понимали. Особенно было смешно, когда он выходил, что-нибудь жуя, потому что в это время он ужинал и вставать из-за стола у него не было никаких причин, кроме желания не пропустить ненавистного велосипедиста.
В таких случаях, если он задерживался на балконе, жена его звала из глубины квартиры и, если он не сразу возвращался, сама появлялась и слегка подталкивала его в комнату. Лениво жуя, она сама в последний раз бросала взгляд вдоль улицы и исчезала.
— Едет! Едет! — иногда кричали наши ребята, когда велосипедист появлялся в конце квартала, а Богатого Портного на месте не было.
— Ну и что?! — кричал Богатый Портной, выскочив на балкон. — Подумаешь, какое мое дело!
А сам оставался на балконе, пока не убедится, что упрямый велосипедист и на этот раз невредимым сошел в свою канаву. Если в это время Оник где-нибудь поблизости катался на велосипеде, он, кивнув в его сторону, говорил Алихану:
— Какой пример детям показывает, а?
— Какой пример? — удивлялся Алихан.
— А если Оник захочет то же самое?
— Никогда не захочет, — уверенно отвечал Алихан.
— Оник! — кричал Богатый Портной яростно. — Если будешь крутиться возле канавы, как Лоткин, задушу тебя своими руками!
— Я не кручусь, папа! — отвечал Оник и отъезжал подальше от канавы.
Дни шли, а велосипедист продолжал целым и невредимым подъезжать к самому краю обрывистого спуска. И когда Богатый Портной отводил от него глаза, полные гневного недоумения, то, как правило, встречался с приподнятыми на него ясными глазами Алихана.
— Я тебе говорю, — кивал Алихан, — этот человек свое дело знает.
— Чем даром здесь сидеть, — злился Богатый Портной, — лучше бы пошел сторожить мой сад.
— Я коммерсантом родился, коммерсантом умру, — спокойно отвечал ему Алихан.
— Твоя коммерция — воздух! — говорил Богатый Портной и, плюнув на руку, громко шлепал ею по днищу утюга.
— Эй, гиди, время, — вздыхал Алихан и, покачивая головой, смотрел на него, как бы распределяя свой упрек между вечностью и Богатым Портным.
Однажды велосипедист появился, держа под мышкой буханку хлеба. На этот раз он руль держал одной рукой и ехал гораздо медленней. Мы все, а в особенности Богатый Портной, ожидали, что он хоть на этот раз остановит свой велосипед пораньше. Но он и теперь доехал до самого края и затормозил, как обычно.
После этого случая мы стали замечать, что он довольно часто проезжает то с буханкой хлеба под мышкой, то с корзиной на руле и каждый раз благополучно сходит в свою канаву.
— Хоть бы в газету завернул, — сказал однажды Богатый Портной, имея в виду хлеб, который тот привозил.
— Его хлеб, как хочет, везет, — ответил Алихан.
— Ты думаешь, что он будет делать, если хлеб упадет в канаву? — неожиданно спросил Богатый Портной.
— Ничего, — несколько рассеянно ответил Алихан.
— Подымет и покушает, — уверенно сообщил Богатый Портной и быстро вошел в комнату.
Однажды человек на велосипеде приехал с коровьей головой, которую он держал за рог в слегка оттянутой, чтоб не закапать велосипед, левой руке. Богатый Портной обомлел и замер на своем балконе, увидев такое. Покамест тот спускался в канаву, он, несколько раз качнув головой, даже присвистнул: дескать, дождались.
— Алихан, что это? — тихо спросил Богатый Портной, приходя в себя.
Алихан на этот раз сидел, слегка насупившись, как бы признавая свою некоторую ответственность за поведение велосипедиста и в то же время готовый оказать сопротивление ввиду не такой уж значительности самого проступка.
— Ничего, — ответил Алихан сухо.
— Как ничего, Алихан?! — простонал Богатый Портной, умоляя его хотя бы не отрицать того, что каждый только что видел своими глазами.
— Коровина голова, больше ничего, — сказал Алихан и, подняв собственную голову, твердо посмотрел ему в глаза, как бы отбрасывая всякую возможность мистического толкования этого события.
— Он что, на бойне работает? — спросил Богатый Портной с таким глубоким изумлением, словно, окажись велосипедист работником бойни, сразу же можно было бы этим объяснить и все остальные его странности.
Алихан хаживал на бойню, где доставал потроха для хаша. Иногда он их приносил и Богатому Портному. Алихан хорошо знал всех работников бойни.
— Зачем на бойне, — сказал Алихан просто, — на базаре тоже продают.
— Дай бог мне столько здоровья, за сколько он эту голову купил, — ответил Богатый Портной.
— Тогда скажи, где взял?! — воскликнул Алихан.
— Где взял, не знаю, — ответил Богатый Портной, успокаиваясь оттого, что Алихан начинал сердиться, — но Лоткина ты тоже защищал...
— При чем Лоткин, при чем голова! — закричал Алихан и, неожиданно взмахнув рукой, добавил: — Иди в свою комнату!
— На моем сидит и меня прогоняет, — задумчиво сказал Богатый Портной, обращаясь ко всей улице и как бы давая через этот маленький пример всем убедиться, какой Алихан несправедливый человек.
Однажды велосипедист особенно долго не возвращался. У Богатого Портного в доме был клиент, так что с балкона он не мог следить за тем, что происходит на улице. Он только время от времени выскакивал на балкон, чтобы не пропустить велосипедиста.
— Я скажу, когда будет, ты иди, — говорил ему Алихан и гнал его с балкона.
Человек пятнадцать ребят с нашей улицы, как обычно, сидели на лужайке напротив балкона Богатого Портного. Уже и видно было плохо, когда велосипедист появился на углу.
— Едет! Едет! — хором закричали ребята, опережая Алихана.
— Ну и что?! Пускай едет! — выскочив на балкон, стал огрызаться Богатый Портной, но внезапно замолк, увидев велосипедиста. И тут все сразу заметили, что на этот раз он едет как-то странно, велосипед страшно вихлял. Никто не мог понять, в чем дело. Первым догадался Алихан.
— Клянусь аллахом, он пьяный! — воскликнул Алихан и даже встал.
— Не мое дело! — радостно отозвался Богатый Портной и, обернувшись в комнату, крикнул: — Эй, сюда, сюда!
На балконе появились жена Богатого Портного и клиент в пиджаке без рукавов, впрочем, один из рукавов Богатый Портной держал в руке.
— В чем дело? — спросил клиент, глядя на свой рукав, которым беспрестанно взмахивал Богатый Портной.
— Потом, потом, туда смотри! — воскликнул он и от нетерпения заходил ходуном по балкону.
— Пьяный не считается! — крикнул Алихан в сильнейшем возбуждении.
— Спор есть спор! — выкрикнул Богатый Портной, взмахивая рукавом.
— Пьяный и без велосипеда может упасть! — не сдавался Алихан.
— Будь мужчиной, Алихан, спор есть спор! — еще успел крикнуть Богатый Портной.
Все мы, ребята с нашей улицы, оцепенев от волнения и какой-то странной жути, ждали, что будет. Метров за десять от канавы он, словно вспомнив об опасности, казалось, сворачивает на мост, но потом поехал дальше. Подъехав к обрыву, он притормозил и мгновенье, балансируя рулем, стоял над обрывом, словно решая, а не спуститься ли на велосипеде, но нет — накренился и стал одной ногой на землю.
Взрыв рукоплесканий, свист и вопли восторга поднялись над лужайкой, как над трибунами стадиона. Богатый Портной даже как-то подпрыгнул на своем балконе, что-то крича и махая рукой в знак яростного протеста.
И тут, кажется, впервые этот человек поднял голову и удивленно посмотрел вокруг. Увидев нас, пацанов, он улыбнулся нам слабой улыбкой пьяного, не вполне понимающего, в чем дело, человека. Потом он, как обычно, поднял велосипед и, пошатываясь, сошел с обрыва. Богатого Портного он, по-моему, так и не заметил.
На следующий день в гости к Богатому Портному приехал автоинспектор. Я уверен, что Богатый Портной жаловался ему. После долгого обеда они вышли на улицу и разговаривали, стоя у заведенного и повернутого в нужную сторону мотоцикла. Это было всем заметно, да они, а в особенности Богатый Портной, и не скрывали этого.
Как только на углу появился велосипедист, автоинспектор вскочил в седло и, извергая апокалипсические громы (уж не снял ли он нарочно глушители?!, рванул с места на большой скорости и через несколько секунд в тучах пыли, скрывшей обоих, остановился возле велосипедиста.
Когда осела пыль, мы увидели, что велосипедист стоит возле автоинспектора, хотя в то же время продолжает сидеть в седле, только протянул к земле одну ногу.
По лицу Богатого Портного было видно, что сама поза велосипедиста ему не нравится. Не то чтобы автоинспектор обещал наехать на него, но, видно, обещал пугануть упрямца как следует, да, видно, что-то не так получилось.
Они разговаривали, как равный с равным, и даже оба сидели в своих седлах. И только велосипедист что-то говорил, довольно независимо кивая головой в сторону речушки.
Постепенно их окружили мужчины с нашей улицы, в том числе и Алихан. Как водится в таких случаях, они их слушали с важным видом, а иногда и сами что-то вставляли. Оник объезжал всю эту группу на своем велосипеде, на ходу прислушиваясь к тому, что они говорили. Богатый Портной к ним так и не подошел, а остановился поблизости, как не слишком заинтересованный, но все же любопытствующий человек. Время от времени он, не слишком улавливая теченье разговора, вставлялся одной и той же фразой:
— Нет, если для детей не вредно, пожалуйста...
Наконец, велосипедист оттолкнулся ногой и поехал к своей канаве. Автоинспектор, продолжая держаться за руль, круто обернулся, то ли стараясь разглядеть, есть ли у него номер под седлом, то ли ему тоже было интересно, как этот упрямец доезжает до самого спуска. Тут Богатый Портной подошел к автоинспектору. Ковыряя спичкой в зубах, он тоже посмотрел вслед велосипедисту каким-то пустующим взглядом.
Когда тот скрылся. Богатый Портной, продолжая ковырять спичкой в зубах, посмотрел на автоинспектора своим пустующим взглядом. Было похоже, что этим ковырянием он напоминает кунаку о долгом обеде.
— Имеет право, — сказал автоинспектор, взглянув на Богатого Портного. Казалось, он смутно угадывает намек и сам изумляется своей догадке.
— Нет, если детям не вредно, пожалуйста, — холодно повторил Богатый Портной, продолжая задумчиво ковыряться в зубах. Возможно, теперь это означало, что хотя долгие обеды в его доме не отменяются, но список приглашенных лиц подвергнется жестокому пересмотру.
Автоинспектор дал газ и уехал. На обратном пути Алихан рассказывал, как этот велосипедист здесь появился. Оказывается, он живет над нашей речушкой у самого выезда, на параллельной улице. Там почти такой же мост и почти такой же спуск. После бурных дождей возле его дома случился оползень, и выход на шоссе был разрушен. Вот он и избрал этот путь на работу через нашу улицу.
— Хорошо, — перебил его Богатый Портной, — а мой дармоед что говорит?
— Он говорит, — ответил Алихан миролюбиво, — им про оползень все известно, и они его починят.
Рядом с высоким сутуловатым Алиханом, опрятно сдерживающим торжество, маленький Богатый Портной шел, слегка прихрамывая. Так, прихрамывая, бывало, покидали поле наши футболисты после очередного проигрыша.
— А зачем он до самого края доезжал? — кивнул Богатый Портной на речушку.
— Это, говорит, мое дело, имею полное право, потому что рабочий кожзавода.
— А, — сказал Богатый Портной, догадываясь, — что хотят, то и делают,
— Да, — сказал Алихан, — хозяин...
Богатый Портной поднялся к себе, а Алихан еще немного постоял у калитки, следя за собой, чтобы не дать прорваться ликованию. И вдруг Богатый Портной появился на балконе.
— Алихан, — склонился он над перилами.
— Что? — живо откликнулся Алихан. Наверное, он решил, что Богатый Портной зовет его поиграть в нарды.
— Все же коровину голову он на бойне взял, — сказал Богатый Портной.
— При чем?.. — вздрогнул Алихан от неожиданности.
— При том, что кожзавод находится рядом с бойней, Алихан, — сказал Богатый Портной и быстро покинул балкон, так что Алихан только и успел поднять свои круглые брови над круглыми глазами.
Кожзавод был и в самом деле расположен рядом с бойней (он и сейчас там), и, вероятней всего, этот парень там и купил коровью голову. Сказав, где работает этот парень, Алихан в сущности сделал слабый ход, которым воспользовался Богатый Портной.
Не знаю, как в других краях, но у нас автоинспектор слов на ветер не бросает. Через неделю упрямый велосипедист перестал появляться на нашей улице. Видно, дорогу и в самом деле привели в порядок.
Возгласами: "Едет! Едет!" — нашим ребятам пару раз удалось заставить Богатого Портного выбежать на балкон, но потом рефлекс этот быстро отработался, да и сам Богатый Портной вскоре переехал на свой участок и больше в нашем доме на моей памяти не появлялся.
Тетушка моя время от времени, примерно раз или два в год, ходила в гости к Богатому Портному. Каждый раз она оттуда приносила удивительные новости. Больше всего поразило ее воображение, что Богатый Портной отвел воду от речушки на свой участок, где вырыл небольшой бассейн.
— В бассейне утки плавают, в беседке скамейка стоит, — сокрушенно рассказывала она каждый раз, возвращаясь оттуда.
— Ну и что? — сказал мой старший брат, когда она впервые об этом заговорила. — В беседке всегда скамейка стоит.
— Дурачки вы мои, дурачки, — печально покачала тетушка головой, как бы стараясь внушить, что дело не в самой беседке, а в том, что она наглядное звено в гармоничной системе, созданной руками Богатого Портного.
В конце концов, эта ее фраза превратилась для нас в символ глуповатой благопристойности и вообще всякой липы.
— В бассейне утки плавают, — говорили мы, и сразу же становилось ясно, что это за кинофильм, что это за книжка или что это за обещания.
— Смейтесь, дурачки, — печально отзывалась тетушка, хотя сама была человеком удивительно легкомысленным и в то же время очень впечатлительным. Как человек легкомысленный, она забывала, что сама далека от идеалов Богатого Портного, но, как человек впечатлительный, она, побывав у него на участке, воспламенялась красивым результатом его идей, стараясь и нас воспламенить своими восторгами.
___
На этом я временно прерываю жизнеописание Богатого Портного с тем, чтобы рассказать несколько случаев из более бурной и потому менее благочестивой жизни хироманта.
Во время войны, когда начались бомбежки нашего города, в сущности бомбили всего два раза, пещера хироманта была превращена в бомбоубежище, К этому времени на горе поблизости от пещеры понастроили десятка два домов, в результате здесь образовался небольшой пригородный поселок. К владельцам этих домов подселялись беженцы, так что людей хватало.
Вторая сталактитовая пещера была расположена повыше, но карабкаться туда было далековато. К тому же она была не слишком удобна, потому что коридор ее метров через десять от входа круто опускался вниз, и впопыхах там легко можно было сорваться и проломить голову без всякой бомбы.
В первое время, говорят, хиромант именно туда и гнал всех, кто пытался укрыться в его пещере, но потом почему-то легко примирился с этим, и когда после тревоги люди расходились по домам, он им говорил:
— Чуть что, бегите сюда, не стесняйтесь...
Говорят, особенно в первое время туда набивалось черт-те сколько людей. К тому же они по неопытности тащили с собой все, что могли унести из дому, а унести они пытались все. Так что дети хироманта, пользуясь светомаскировкой, а точнее, полным отсутствием света, паникой, которую нагонял ослик, загнанный сюда же и шарахающийся после каждого залпа зенитки, одним словом, пользуясь всей этой вавилонской бестолковщиной, дети хироманта ползали по перепуганным людям и при этом нередко вползали в их узлы, чемоданы и даже карманы, говорят.
Говорят, один беженец, выйдя из пещеры после тревоги с основательно полегчавшим чемоданом, — уж не знаю, что там лежало? — воскликнул:
— Лучше б я под бомбежку попал!
Позже люди перестали таскать свой скарб, но все-таки бегать туда продолжали, потому что немецкие самолеты всегда встречались таким дружным зенитным огнем, что люди не без основания полагали, что летчики с перепугу как раз и угодят бомбой на эту окраину.
Вскоре женщины поселка стали замечать, что их мужчины, как только объявляется тревога, обгоняя друг друга и оставляя далеко позади свои семейства, первыми вбегают в пещеру.
Потом стали замечать, что после отбоя они, эти храбрецы, выходят из пещеры какими-то веселыми, как бы слегка обалдевшими от страха или еще чего-то там.
Но тут возникшие было подозрения рассеял один эвакуированный интеллигент, который, тоже весьма бодро и тоже обгоняя свое семейство, бегал в пещеру. Он объяснил, что такое состояние некоторого вынужденного веселья после пребывания в пещере вызывается так называемым озонным опьянением. Почему это озонное или сезонное, как его перекрестили, опьянение действует только на мужчин, он не стал объяснять.
Позже, когда некоторые мужчины и после отбоя старались задержаться в пещере, яростно доказывая, что немецкие самолеты могут вернуться, а другие стали туда бегать и без всякой тревоги, средь бела дня, первоначальные подозрения снова всплыли и даже полностью оправдались.
Короче, выяснилось, что хиромант во время тревоги, пользуясь темнотой и вообще бомбофобией, довольно простительной для военного времени, спаивает остатки, и без того довольно жалкие, поселковых мужчин. Учтем, что лучшие из них в это время были там, где положено быть лучшим, — на фронте.
К этому времени хиромант приспособился гнать самогон из подножного ассорти, куда входили: бузина, крапива, икала, кислицы и все, что можно было натрусить в окрестных садах. Самогонный аппарат стоял в глубине пещеры и в сезон работал почти круглосуточно, как маленький военный завод.
Разумеется, плату за это удовольствие он повышал соответственно катастрофичности момента, может быть, даже с учетом своевременной доставки, хотя доставлять было неоткуда, ибо запасы хранились тут же, в одном из естественных тайников пещеры.
Но главное, что хитрец, поднося своим испуганным клиентам кружку с самогоном, тут же давал на закуску лавровый листик, благо одичавших лавровых деревьев на этой горе росло немало. А лавровый лист, как известно, отбивает всякие низменные сивушные запахи, оставляя один свой возвышенный древнегреческий запах. Так что мужчины этого поселка выходили из пещеры, увенчанные хоть и не лавровым венком, но все же лавровым запахом. В этом полублаженном состоянии они вполне безнаказанно ходили по нашему пригородному Олимпу, может быть, только тем и отличаясь от обитателей того древнего Олимпа, что походке их недоставала некоторой величавой твердости.
В конце концов, как и все хитрецы, хиромант погорел на своей хитрости. Одна женщина во время очередного пребывания в бомбоубежище, видимо решив в темноте следить за своим мужем, выхватила кружку из его руки, которую подсунул ему хиромант. Вернее, случилось так, что кружку-то он сумел сунуть ее злополучному мужу, а лавровый листик подал ей по ошибке.
Действовал он все же в темноте, и нельзя сказать, что движения его отличались безукоризненной точностью, ибо себя во время работы он, конечно, тоже не обносил, хотя сам лавровым листом и не закусывал. Не исключено, что сказался его долголетний рефлекс хироманта и он, забывшись, потянулся к женской ладони. Одним словом, как и всякий человек, хиромант мог ошибиться, и я, нисколько не пытаясь его оправдать, просто хочу понять, как это случилось.
Стало быть, женщина догадалась, в чем дело, и, продолжая держать в одной руке этот лавровый лист, другой вырвала кружку из рук своего мужа. Балбес, вместо того чтобы сразу выпить, медлил, все еще дожидаясь лаврового листа, словно находился не в пещере во время тревоги, а где-нибудь в довоенной закусочной.
Вырвав кружку, женщина молча плеснула ее на бороду хироманта, может быть слегка светящуюся в темноте, потому, что, по уверению очевидцев, хиромант не сразу ей ответил, а сначала (вечно у нас преувеличивают!) сунул бороду в рот и стал ее обсасывать.
Плеснув из кружки, женщина эта, говорят, обернулась к мужу и, тыча ему в лицо лавровый лист, сказала с неслыханным ехидством:
— Жуй, детка, жуй!
Возмущенный муж попытался ей объяснить, что он ничего жевать не собирается, что он только попросил напиться и хиромант ему принес воды, а теперь он не понимает, что здесь происходит.
Но тут, говорят, хиромант дососал свою бороду и стал выгонять ее из пещеры. Та с криком, обращаясь к другим женщинам, начала разоблачать хироманта, одновременно не давая себя вытолкнуть из пещеры, и в этой локальной части своей борьбы была решительно поддержана собственным мужем.
— Ругать ругай, а гнать не имеешь права, — говорил он хироманту, слегка придерживая жену.
Но тут вмешались остальные женщины, и в пещере под гром зениток разразился бедлам, который еще мог притихнуть вместе с зенитками или даже раньше, да беда в том, что в самый разгар его один из волчат хироманта подполз к этой женщине и сунул ей за пазуху летучую мышь.
Тут она издала вопль такой силы — женщина, разумеется, а не летучая мышь, — что некоторые окрестные жители, те, что не пользовались пещерой, решили, что в пещере обвалился свод, и, радуясь за себя, скорбели за несчастных. Другие решили, что семерка рыжеголовых набросилась на одну из женщин с какой-то неясной, но, во всяком случае, нехорошей целью.
Говорят, вопль этот был услышан и в доме Богатого Портного, который к этому времени переселился на свой участок, расположенный под горой.
— Когда Лоткин свою жену резал, и то она так не кричала, — говорил он впоследствии про этот вопль, хотя, как было известно на нашей улице, жена Лоткина вообще не кричала в ту трагическую ночь. Но тут об этом не знали, и поправить его было некому. Впрочем, и на нашей улице его никто не поправлял, кроме бедняги Алихана. А что он мог один?
И вот эта женщина с воплем выбежала из пещеры и, продолжая вопить, словно за пазухой у нее лежал кусок горящей пакли, бежала по склону в сторону своего дома.
Говорят, когда ее поймали и вытащили из-за пазухи летучую мышь, та была мертва. Говорят, они, эти летучие мыши, далеко не всякие звуки выдерживают. Вроде бы у них аппарат восприятия звуков до того нежный, что они умирают, когда в воздухе появляются душераздирающие вибрации. На удивительно, что у некоторых людей тоже наблюдается излишняя изнеженность слухового аппарата.
Однажды я сам был свидетелем такой картины. В кабинет учреждения, где работал один мой знакомый, любимец муз, приоткрылась дверь, всунулась голова начальника и выбросила из себя довольно длинную струю не слишком печатных выражений. И вдруг на глазах у нас, посторонних людей, как только струя эта коснулась чуткого уха сотрудника, он стал оседать на своем стуле. Голова его красиво поникла, а глаза прикрылись веками. В сущности, он потерял сознание в самом начале струи, так что основная часть ее вылилась даром, он ее уже не воспринимал, если не считать нас, посторонних посетителей, которых она, струя эта, обрызгала, можно сказать, профилактически.
Когда мы нашего друга привели в чувство, он улыбнулся слабой улыбкой и прошептал, показывая на ухо:
— Не могу привыкнуть...
А ведь на вид детина был дай бог. Но слух не приспособлен. Вернее, приспособлен для музыки высших сфер, а для матовой ситуации не приспособлен.
Кстати, нельзя сказать, что профком учреждения, о котором идет речь, прошел мимо этого случая. На очередном собрании начальнику сделали серьезное внушение за то, что он непотребными словами общался с подчиненными при посторонних.
Начальник принялся оправдываться, указывая на то, что он посторонних не заметил, что он только приоткрыл дверь, тем самым прикрыв посторонних, что, кстати, с печальным благородством подтвердил и пострадавший.
Но тут начальнику вполне резонно заметили, что в том-то и беда, что сначала надо было войти, поздороваться, а потом уже дело говорить. Ну хорошо, сказали ему, на этот раз посторонние оказались своими, но бывает, что в кабинете могут оказаться чужие посторонние, скажем, иностранцы в порядке культурного обмена... Тогда что? Накладочка?!
Но тут начальник попытался оправдаться, говоря, что накладочка никак не может получиться, потому что если иностранец и забредет в учреждение в порядке культурного обмена, то он прямо попадает к нему в кабинет, и он уже сам его водит по другим местам и рассказывает что-нибудь общедоступное, а про дело не говорит. А если ненароком и сорвется с губ какое-нибудь словцо, то переводчик на то и переводчик, чтобы придать ему легкое иностранное звучание.
Не знаю, чем у них там закончилось собрание, но знаю одно, что когда я в следующий раз посетил это учреждение, там двери во всех кабинетах были перевешены в обратном порядке. Может, это случайность, как и то, что теперь, приоткрывая дверь, можно было одним взглядом охватить внутреннюю жизнь кабинета и, уже в зависимости от этого, прямо с порога излагать свои накипевшие мысли.
___
Одним словом, после этого скандала, я имею в виду пещеру, женщины поселка, во главе с пострадавшей, пошли жаловаться в райсовет, желая выселить хироманта из пещеры. Самое удивительное, что муж ее, приняв пристойный вид, вместе с ними отправился туда же.
Там он рассказал о том, как постепенно хиромант втягивал его в свои алкогольные сети, как он сначала не хотел пить, но тот его коварно уверял, что самогон снимает страх перед бомбами, что сперва так оно и было, а потом он уже привык.
Ко всему этому он еще приплел, что жена его отчасти обесчещена прикосновением летучей мыши и что теперь, как только он хочет ее обнять, он вспоминает летучую мышь, и у него объятия нередко повисают в воздухе.
Тут, говорят, товарищ из райсовета махнул на него рукой и стал слушать остальных делегатов. Жалобы в основном сводились к тому, что хиромант со своими детьми мешает жителям поселка культурно переждать бомбежку. Как водится в таких случаях, вспомнили все, что было и не было.
Так, многие говорили, что у них в поселке исчезают куры и что, скорее всего, это дело рук хироманта.
Хиромант не отрицал, что он давал иногда кое-кому пару глотков самогона. Но кому? Только тем, кто своим трусливым поведением способствовал ложным слухам. Что касается кур, то тут он сказал, что никогда так низко не опускался, чтобы воровать кур, и дал честное слово дворянина, что этого никогда не было. На это честное слово дворянина товарищ из райсовета не обратил ни малейшего внимания, но обратил внимание на то, что нет доказательств.
В конце концов, учитывая большое количество детей хироманта и что жена его почти мать-героиня, товарищ из райсовета принял довольно гуманное решение.
По окончательному постановлению райсовета полагалось выселить хироманта с семьей из нижней сталактитовой пещеры, превратив ее в бомбоубежище, и вселить в верхнюю сталактитовую пещеру. При этом райсовет обязался кирпичной кладкой огородить крутой спуск к пещере ввиду многочисленности его необузданных детей и возможности несчастного случая.
— Скажи спасибо детям. — сказал ему товарищ из райсовета. — Советская власть даже из твоей рыжей команды сделает настоящих людей.
— Дай бог, — смиренно согласился хиромант.
Таким образом, райсовет оставил хироманта с его семьей в нижней сталактитовой пещере впредь до кирпичной кладки в верхней. Решение это оказалось выгодным хироманту и ставило противников в довольно затруднительные условия, особенно мужчин, привыкших взбадриваться. Теперь, говорят, хиромант во время тревоги устраивался напротив той злополучной парочки и, звякая бутылкой, наливал себе в кружку сколько хотел, при этом долго разговаривал с напитком, дурашливо укоряя его за совращение нестойких мужчин. После этого он вливал его в свое клокочущее горло. Невезучий муж этой женщины, как и все другие мужчины, молча сносил эту изощренную пытку. Но жена его не выдерживала.
— Овца, — обращалась она в темноте к своему мужу, — скажи ему, что тебе противно смотреть!
— Мне противно смотреть, — повторял муж, не сводя зачарованного взгляда с темного силуэта совратителя.
В конце концов, через некоторое время часть жалобщиков дрогнула и пала к ногам хироманта, после чего он возобновил снабжение их бодрящим напитком. Другая часть под влиянием жен и собственной зависти к изменникам до того ожесточилась, что решила в верхней пещере поставить кирпичную кладку, не дожидаясь райсовета, за собственный счет. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не грянул счастливый случай, который сделал хироманта недосягаемым для окружающих.
Как раз в один из этих дней в горах сравнительно недалеко от нашего города выбросились на парашютах из подбитого "юнкерса" два немецких летчика.
Кстати, жители нашего города долгие годы утверждали, и, кажется, до сих пор утверждают, что самолет подбили именно наши зенитчики. При всем моем уважении к нашим старожилам должен сказать, что это маловероятно. Даже нам, тогдашним мальчишкам, было ясно, что самолет, упавший недалеко от города, хоть и в горах, никак не мог быть подбитым над городом, потому что самолеты эти всегда пролетали очень высоко. Так что подбили его, скорее всего, где-то над Батумом или над Гаграми в крайнем случае, но никак не над нашим городом.
Правда, в те времена слухи эти ввиду их полезного воздействия на жителей города не опровергались, хотя официально, скажем, через газету или радио и не подтверждались никак.
Напав на след этих летчиков, бойцы истребительного батальона гнались за ними целую ночь и в конце концов до того их запутали, что они не нашли ничего лучшего, как после длительного бегства выбежать на нашу пригородную гору и укрыться в верхней пещере.
Правда, дело происходило ночью, а город был погашен ввиду всеобщей маскировки (вот что значит хорошая маскировка, а некоторые в те времена недооценивали ее), так что ночью летчики могли и не заметить, куда их загнали, а утром было поздно.
На рассвете к пещере подошли бойцы истребительного батальона, состоявшего из выбракованных, непригодных для армии абхазских крестьян со своим командиром, русским лейтенантом — фронтовиком.
Пытались было сунуться в пещеру — летчики стреляют. Лейтенант, дождавшись открытия городских учреждений, послал туда человека за переводчиком. Пришел переводчик с рупором, вроде тех, что употребляют физруки на общешкольных зарядках и на стадионе (уж не в нашей ли школе он его прихватил?!).
Говорят, этот рупор, может быть, потому, что на нем было несколько латок, сразу же не понравился бойцам истребительного батальона. Говорят, при виде этого рупора некоторые высказались, правда по-абхазски, что городские власти могли и поновей кричалку прислать по этому случаю.
Так или иначе, переводчик подошел к краю пещеры и, осторожно высунув рупор, прокричал в глубину, чтобы немцы сдавались по-хорошему, а то их возьмут по-плохому. Несколько раз он повторял свое предложение, но немцы ничего не отвечали.
Немцы молчали, но бойцы истребительного батальона, услышав звуки языка, никак не похожего ни на абхазский, ни на грузинский, ни на армянский, ни на турецкий, ни на греческий, ни даже на русский, стали хохотать, уверяя друг друга, что на такой тарабарщине двуногое существо говорить никак не может и не должно.
Бойцы истребительного батальона до того развеселились, что стали мешать переводчику, и лейтенант вынужден был на них прикрикнуть. Бойцы слегка притихли, но зато свои насмешки перенесли на самого переводчика и его трубу. Сначала они ему предлагали, чтобы он свою кричалку закинул немцам, а то им нечем ему отвечать, а себе притащил бы другую, если эта не единственная кричалка на весь город. Главное, говорили они ему, перекинуть ее через верхнюю площадку, а там она сама вниз покатится.
Толмач продолжал кричать немцам, стараясь не обращать внимание на насмешки. Немцы продолжали молчать, а бойцы истребительного батальона вовсе распалились, уверяя, что если он вкричится в одно место во-он того ослика, что пасется на склоне, то оттуда он найдет якобы больше отзвука, и притом понятного на всех языках.
То ли от волнения, то ли с отчаянья, стараясь доказать, что немцы все-таки будут ему отвечать, толмач, крича им в очередной раз, слишком сильно высунулся, правда за счет своего рупора, а не за счет своей головы.
И вдруг из пещеры раздался выстрел. Рупор выпал из рук переводчика, и сам он свалился, схватившись руками за рот. Бойцы истребительного батальона подскочили к нему, решив, что пуля, пробив рупор, рикошетом влетела ему в рот, потому что все видели, что хоть он и сильно высунулся, а все же не за счет головы, а за счет рупора.
Но, слава богу, все обошлось. Не успели они подойти, как он вскочил на ноги и только попросил достать ему рупор, который выкатился на такое место, что его можно было еще раз прострелить из пещеры. Один из бойцов осторожно поддел его дулом вытянутой винтовки и вернул в безопасное пространство. Бойцы истребительного батальона убедились, что рупор был пробит насквозь. Каждый из них счел своим долгом всунуть палец в выходное отверстие и подивиться силе немецкой пули. Некоторые нюхали его, уверяя, что оно чем-то пахнет.
Переводчик окончательно пришел в себя и снова стал кричать в свой рупор, чтобы немцы сдавались по-хорошему, но на этот раз звук его голоса, наверное из-за дыр в рупоре, вырывался неубедительно, с какими-то позористыми ответвлениями. Так что тут не только бойцы истребительного батальона стали хохотать, но и сам лейтенант не выдержал и сурово улыбнулся. К довершению всего ослик хироманта, что пасся тут же на склоне, неожиданно закричал своим тоскливым голосом, и получилось, что он-то как раз и отвечает на призыв переводчика, хотя, скорее всего, он кричал сам по себе, по своим надобностям.
Переводчику велели отдохнуть, и лейтенант стал советоваться, как быть дальше. Некоторые бойцы истребительного батальона предлагали взять пещеру приступом, кстати, пустив вперед этого ослика, что даром здесь пасется, чтобы немцы отвлекли на него свой огонь.
Другие предлагали, пока ветер дует с моря, развести у выхода из пещеры большой костер, и немцы, в конце концов задыхаясь от дыма, будут прыгать из пещеры прямо в огонь, откуда их останется только выкатывать, как печеные каштаны.
Лейтенант оба эти предложения отверг. Он полагал, что немцев могут убить во время штурма, тем более ему не хотелось брать в плен каких-то там обгорелых, подпорченных немцев.
— За целый год, — сказал он, — один самолет сбили, и я вам этих немцев не дам испортить.
— Как хочешь, — сказали бойцы истребительного батальона, — нам на этих немцах не пахать.
Они опять расположились на лужайке под пещерой и развели костер, замаскировав его к вечеру плащ-палаткой. Так они просидели до утра, вспоминая всякие деревенские истории. Временами кто-нибудь из них оглядывался на пещеру, приговаривая, что если уж немцы выскочат из нее, то никак не может случиться, чтобы хоть один из них этого не заметил.
— Такого и быть не может, — услышав эти слова, заключал один из остальных бойцов, окончательно успокаивая и без того спокойного товарища.
На следующее утро бойцы опять запросили лобовой атаки, ссылаясь на то, что немецкие летчики, по слухам, едят шоколад, и на нем они могут продержаться до самых холодов. Лейтенант заколебался.
Бойцы стали искать глазами ослика, которого они собирались пустить вперед, но его нигде на склоне не оказалось. Тогда кто-то вспомнил, что возле ослика все время сидел один из волчат хироманта, которого они прозвали немым, хотя он не был немым, а только молчал, как и весь выводок.
Лейтенант пошел договариваться с хиромантом насчет ослика и тут неожиданно получил от него встречное предложение. Лейтенанту оно показалось дельным, и он согласился.
Оказывается, пещера хироманта через один из коридоров узким лазом соединялась с верхней пещерой, о чем никто, кроме него, не знал. Вернее, и он не знал, да один из его волчат рассказал ему об этом. И именно тот, что все время торчал поблизости от бойцов истребительного батальона, — не то пас ослика, не то слушал, о чем они говорят, покамест бойцы не перестали на него обращать внимание, приняв его за глухонемого, не понимающего по-абхазски.
Оказывается, он давно обнаружил этот лаз и использовал его для своих надобностей. Он сознался, что лаз ведет в самую глубину верхней пещеры, где протекает подземный ручей.
План хироманта был прост и разумен: проникнуть в глубину верхней пещеры, перекрыть ручей, вернуться назад и ждать, пока вода поднимется до уровня верхней площадки и немцы всплывут вместе с ней. А если у них в голове еще что-нибудь кумекает, то они сдадутся гораздо раньше.
Чтобы избежать возможной провокации, лейтенант пустил на это дело самого хироманта, на что тот не очень охотно согласился, думая ограничиться подачей идеи. Но все же пошел.
Ждали его обратно около трех часов и уже было заподозрили, что он там стакнулся с немцами и, может быть, захочет вывести их через свою пещеру, так что лейтенант с двумя бойцами спустился в нижнюю пещеру и стерег выход из лаза, освещая его электрическим фонариком.
Говорят, когда хиромант выполз из дыры, весь измазанный мокрой глиной, лейтенант не стал его тормошить, а дал выйти из пещеры на свет божий. Хиромант постоял возле своей пещеры, утирая одной рукой мокрую бороду и сослепу поводя головой. Говорят, он так с минуту постоял, окруженный бойцами истребительного батальона и собственным многочисленным выводком во главе с тринадцатилетним рыжиком, который молча, как и все, дожидался отца, постругивая палочку сапожным ножом.
— Змееныш! — неожиданно закричал хиромант и, с безумным проворством подхватив полено, валявшееся у ног, ринулся за одним из своих волчат, а именно за тем, который рассказывал ему про лаз.
Тот молча побежал от отца, и теперь было видно, что и отец поводил головой, готовясь к прыжку, и рыжик хоть и не сдвинулся с места до того, как отец ринулся на него, но ждал этого и был готов.
Очевидцы говорили, что их никогда не охватывала такая жуть, как в эти минуты, когда хиромант бежал за сыном по лужайке, карабкался за ним по склону над пещерой, пытался его достать, когда тот пробегал мимо остальных рыжеголовых, молча, одними глазами следивших за происходящим.
Жуть эта подымалась, как они позже сообразили, даже не столько от вида разъяренного, измазанного глиной рыжебородого, с поленом в руке догоняющего сына, и даже не оттого, что оба они при этом молчали, и только слышалось, как с присвистом и клокотаньем дышит отец, а маленький покряхтывает и злобно оглядывается, ни на мгновенье не сдаваясь, а только стараясь соразмерить расстояние и сохранить силы. Она, эта жуть, исходила от остальных волчат, от этой молчаливой стаи, в которой одни жевали свою жвачку, а другие просто зыркали глазами, самый старший, так тот и вовсе, кажется, не смотрел, а только постругивал свою палочку и помалкивал, как и все.
И вдруг, когда отец пробегал мимо него (значит, все-таки следил!), он неожиданно бросился ему под ноги, и тот, перекувырнувшись через него, полетел на землю и выпустил из рук полено.
А этот встал как ни в чем не бывало и, даже не отряхнувшись, снова принялся за свою палочку и только подальше отпихнул ногой полено.
Как только хиромант рухнул, волчонок, что бежал от него, говорят, остановился и даже приблизился на несколько шагов, а именно те, которые успел пробежать по инерции, и, тяжело дыша, злобно продолжал смотреть на него, как бы предлагая продолжить всю эту игру, если у него хватит пороха. Хиромант в это время катался по лужайке, кусая траву и стараясь врыться головой в землю.
Тут лейтенант подбежал к нему и, опустившись на колени, стал нежно гладить его по спине, приговаривая:
— Чудак-человек, сначала доложи, а потом наказывай!
Как выяснилось потом, ярость хироманта была вызвана тем, что он у ручья на дне верхней пещеры обнаружил следы от костра и целый кощеев холм куриных костей.
Успокоившись, хиромант доложил, что хорошо заделал выход подземного ручья и теперь немцам капут, только надо подождать, чтобы вода поднялась.
Вода подымалась медленно, если она вообще подымалась, так что ждать пришлось до следующего утра. А в первые часы было много сомнений насчет того, что хиромант сумел как следует заделать выход подземного ручья. К тому же вода могла просочиться и в других местах.
Ночью один из бойцов истребительного батальона, сидевший вместе с другими у замаскированного плащ-палаткой костра, вдруг догадался, что можно проверить, подымается ли вода в пещере, забрасывая туда камни. Бойцы обрадовались этому открытию и стали собирать камни и забрасывать их в пещеру. В этом деле, говорят, выбракованные крестьяне оказались ловчее самого лейтенанта. Кидать надо было так, чтобы камень, не задевая свода пещеры, имел достаточно высокую траекторию, чтобы, минуя площадку, проваливаться за обрыв.
И вот, говорят, туча этих самых камней чуть ли не всю ночь летела в пещеру, и после падения некоторых из них иногда казалось, что слышится чмокающий звук, а иногда ничего не казалось. Один раз они услышали не то ругань, не то стон одного из немцев, в которого, видно, попал камень. Тут бойцы истребительного батальона дружно зааплодировали, но, разумеется, не тому, что в немца попал камень, они а него и не целились, а тому, что немцы или хотя бы один из них жив и подает голос.
Неизвестно, чем бы кончилось это швырянье камнями, может, они дошвырялись бы до того, что просто захоронили бы немцев в этих камнях или даже искусственно подняли бы уровень воды в запруженном ручье, если бы среди ночи не появился взволнованный хиромант.
Он сказал, что из лаза полилась вода, что она залила огонь под самогонным аппаратом и что ему едва удалось предотвратить взрыв котла. Но теперь все в порядке, добавил он, так что вода в пещере будет подыматься еще быстрей, уверил он лейтенанта
— Я ему заткнул глотку, — напоследок.
— И успел промочить свою, — ответил ему лейтенант с упреком и послал бойцов проверить состояние лаза.
Все оказалось правдой, а на рассвете наконец из пещеры полилась вода. Сначала она стекала вниз по камням, как первая по соломинке, а потом пошла ручьем. Первая струя была встречена громом аплодисментов и свадебной песней бойцов истребительного батальона.
Потом один из бойцов отделился от остальных и подошел к ручью. Он снял винтовку, осторожно прислонил ее к одному из больших камней, между которыми пробегал новоявленный ручей, снял кружку с пояса, ополоснул ее, набрал воды, сказав несколько непонятных слов, стал медленно пить.
Лейтенант очень удивился всей этой процедуре, и когда спросил, что все это означает, один из бойцов истребительного батальона, лучше других говоривший по-русски, улыбаясь его наивности, объяснил, что это он пьет кровь побежденного врага, что раз уж он выпил эту кровь, немцам ничего не остается, как сложить оружие.
Лейтенант махнул рукой и послал человека в учреждение за переводчиком. Боец истребительного батальона все еще дегустировал символическую кровь врага, а остальные внимательно следили за ним, когда неизвестно откуда выползший один из рыжих волчат стащил его винтовку и поволок ее вверх по склону.
Он уже метров пятьдесят прокарабкался, когда, неспешно допив кровь врага, боец истребительного батальона стал озираться в поисках своего оружия.
— Сдается мне, — сказал ему один из бойцов, кивая на гору, — что этот глухой с твоей винтовкой карабкается...
— Хайт! Его глухую мать! — вскричал оскорбленный дегустатор крови и с быстротой оленя помчался вверх. Он бежал, сверкая своей кружкой, которую то ли по забывчивости, то ли решив, что в этих гиблых местах вообще ничего нельзя оставлять без присмотра, захватил с собой. Бойцы истребительного батальона заулюлюкали, засвистели, и было непонятно, своего товарища они взбадривают или рыжика. Скорее всего, и того и другого. Бегать от абхазца по горам — бесполезное дело, тем более рыжик карабкался под тяжестью винтовки, а боец был налегке, если не считать его кружки.
Расстояние быстро сокращалось, но, видно, гнев бойца переливался через край, потому что он метров за десять от рыжика не удержался и швырнул в него кружкой. Кружка просверкнула мимо, но рыжик выпустил добычу и уже дальше помчался налегке.
Боец, добравшись до винтовки, не стал его преследовать, а помчался за своей кружкой, которая, звякая и подпрыгивая по каменистому склону, покатилась в обратном направлении, что и спасло рыжика от хорошей взбучки. Кстати, кружку свою этот злосчастный боец так и не смог поймать, хоть и мчался за ней до самой полянки. Говорят, на каждый отскок ее от крутого каменистого склона он, продолжая бежать, отвечал угрозами обесчестить эти самые камни, не смущаясь ни их суровыми формами, ни их почтенным геологическим возрастом. Надо сказать, что по части подобных выражений абхазский язык, пожалуй, побогаче русского (тоже небедный!), хотя и значительно уступает турецкому.
Короче говоря, кружка эта, может ошалевшая от своего символического употребления, даже пыталась перепрыгнуть полянку, на которой стояли остальные бойцы, но тут один из них изловчился и сбил ее своей шапкой.
Хозяин, наконец добравшись до нее, снова принялся пить воду, но уже не придавая этому никакого символического значения, а главное, не выпуская из левой руки спасенную винтовку. Говорят, он выпил несколько кружек и, каждый раз зачерпнув из ручья, внимательно следил, не протекает ли, бормоча при этом:
— Моя бедная... цинковая... чуть не загробил, новехонькую...
Напившись, он камнем выправил ее помятые бока и, окончательно успокоившись, привязал ее к своему поясу. А волчонок, что пытался похитить ружье, уселся на самой вершине горы и сидел там до тех пор, сияя рыжей головенкой, пока бойцы вместе с немцами не покинули горы.
Вновь появился толмач со своей трубой, теперь уже аккуратно залатанной новыми железными латками, что почему-то язвительно отметили бойцы истребительного батальона. К тому же они стали подшучивать над своим товарищем, заметив его нежную привязанность к своей кружке, говоря, что ему было нечего так бояться за свою кружку, что в случае чего толмач привел бы ее в порядок, вон как свою трубу залатал.
— Так я ему и доверил ее, — отвечал боец, пошлепывая по кружке ладонью, — я с нею три года пропастушил, а тут пришел в город — и на тебе.
Лейтенант снова стал торопить толмача, он боялся, как бы немцы не утонули. Толмач снова стал кричать в свою трубу, чтобы немцы сдавались по-хорошему.
И тут из пещеры наконец раздался хриплый голос. Лейтенант и все бойцы очень обрадовались этому голосу.
Лейтенант радостно приказал немцам, чтобы они плыли к выходу. Толмач передал приказ, и из пещеры снова раздался голос.
— Он говорит, что они не умеют плавать, — не вполне уверенно перевел толмач.
— Тогда как же они держатся? — удивился лейтенант. Толмач перевел его удивление. Теперь немцы охотно переговаривались и даже продолжали что-то говорить, пока толмач оборачивался к лейтенанту.
— Он говорит, что они держатся на пробковых поясах, — перевел толмач, — потому что летают из Румынии.
— Ах, из Румынии? — удивился лейтенант и приказал, чтобы немцы отдавались течению, что оно их как раз и вытянет к выходу. Но тут немец, тот, что переговаривался, прохрипел, что они отдаваться течению не намерены, что они, наоборот, держатся за сталактит и будут держаться, хотя у них вышли из строя электрические обогреватели.
— А почему второй молчит? — вдруг спросил лейтенант. По мнению некоторых позднейших комментаторов, этот вопрос был связан с тем, что он хотел сыграть на возможных противоречиях между осажденными немцами. Может, так оно и было, а может, он просто хотел узнать, жив ли второй немец.
— Он говорит, что его товарищ потерял голос, — перевел толмач.
— Скажи им, чтоб скорее сдавались, — заторопил его лейтенант, — а то и этот совсем осипнет... На черта нам сдались безголосые "языки"...
Толмач приник к своей трубе, но тут, говорят, лейтенант его остановил и сказал, чтобы про безголосые "языки" он немцам не переводил.
— Что, я первый раз, что ли?! — ответил толмач обиженно, хотя обижаться было не на что, тем более что он и в самом деле первый раз работал с немцами. Об этом в городе знали точно, а пленных вообще тогда еще не было в наших краях.
На этот раз он долго переговаривался с немцами и даже спорил с тем из них, кто все еще не мог отвечать, а лейтенант все порывался узнать, что они говорят, но толмач отмахивался от него и никак не мог оторваться от своей залатанной трубы.
Возможно, он не все понимал, учитывая, что немец довольно сильно хрипел и у него не было даже такого латаного-перелатаного рупора, если не считать самой пещеры, которая до того гулко резонировала и гремела немецким эхом, что в иные мгновения казалось — уж не расплодились ли они там в нашей животворной воде?
Одним словом, он до того долго с ними переговаривался, что, когда перевел смысл разговора, бойцы истребительного батальона остались недовольны, ворча, что такой долгий разговор можно было перевести и подлинней. Как-то он им не пришелся по вкусу, этот толмач, вот они и придирались к нему.
— Он говорит, — перевел толмач, — что немецкие летчики могут продержаться в черноморской воде тридцать часов и что хотя вода в пещере гораздо холодней, они будут держаться оставшиеся два часа с оружием в руках.
— Вот суки! — восхитился лейтенант психикой немцев, еще не сломленной Сталинградом, и велел ждать.
К этому времени весь поселок и все живущие под горой собрались у пещеры, и, конечно, не обошлось без Богатого Портного. С начала осады немцев он каждый день, прихрамывая, наведывался сюда. Уже в первый день он пришел сюда с ковриком и с нардами. За это время он много чего здесь наговорил, но в памяти очевидцев остались два его изречения.
— Тот человек счастливый, — сказал он, расставляя фишки для новой партии в нарды и внезапно останавливаясь, словно прислушиваясь к грохоту далекой канонады, — тот человек счастливый, что сейчас на фронте в самом пекле находится...
В этом его не слишком ясном изречении было понятно только одно, что ему хочется на фронт, но, увы, больная нога не пускает. После своего ишиаса, полученного в часы ночных бдений в саду, он и раньше прихрамывал с оттенком участника гражданской войны. Теперь он вовсе захромал уже без всяких оттенков, жалуясь при случае, что у него в колене нашли гнилую воду.
В этот день он предложил лейтенанту прорыть гору над пещерой и выйти немцам в тыл. (Но это еще не второе его изречение, тем более что лейтенант его не послушался).
— Вот и рой, — холодно ответил ему лейтенант. Ровно через два часа лейтенант, взяв с собой троих добровольцев, отправился в пещеру. Он разъяснил бойцам, что враг хотя измотан, но продолжает оставаться коварным, поэтому надо быть начеку, но стрелять только в самом крайнем случае.
Сзади на некотором расстоянии шел переводчик, слегка прикрываясь рупором, хотя уже было достаточно ясно, что немецкая пуля его пробивает. Один из бойцов, проявив военную хитрость, привязал электрический фонарик к дулу своей винтовки и, оттянув ее подальше от себя и своих товарищей, освещал дорогу, чтобы запугать немцев, если они проявят вероломство. Но немцы стрелять не стали.
Трое бойцов вместе с лейтенантом и догнавшим их переводчиком, хлюпая по воде, подошли к краю огромного озера. В середине озера торчала вершина сталактита, которую, стараясь пистолеты держать повыше, в обнимку сжимали летчики. Лейтенант включил и свой фонарик, так что оба немца теперь беспомощно помаргивали белесыми глазами в прожекторном перекрещении двух световых лучей.
Толмач опять попытался говорить в рупор, но тут уж лейтенант не выдержал и, выхватив у него трубу, бросил ее в воду, и сразу же всем, может быть даже включая немцев, стало ясно, до чего эта труба надоела лейтенанту и какую железную выдержку проявил он, смиряясь с ее необходимостью.
— Говори так, — сказал он ему, кивая на сравнительно небольшое расстояние от сталактита до берега.
— Хорошо, — ответил толмач, тоже проявив немалую выдержку, — но за то, что ты это сделал при немцах, ответишь.
— А немцы и не видели, — вступился один из бойцов за своего лейтенанта, имея в виду, что немцы их фонарями не освещали, а, наоборот, они немцев освещали.
— Там выяснят, — ответил толмач мимоходом, продолжая слушать немцев, отчего его угроза прозвучала еще убедительней.
Боец хотел было войти в воду и достать рупор, тем более что упал он недалеко, но тут опять произошло замешательство, потому что немцы к берегу плыть отказались. Они сказали (говорил-то все еще один из них), что сами в плен не сдаются, но, если их возьмут в плен, они не отказываются. Тогда лейтенант приказал бросить сталактит, потому что будет рассматривать это как сопротивление. Тут немцы, говорят, переглянулись и в самом деле бросили сталактит, после чего они еще некоторое время с дурацким выражением нейтралитета покружились на поверхности озера, и когда приблизились на расстояние вытянутой винтовки, их окончательно подогнали к берегу.
Поразительно, что, выходя из воды, один из них успел вытащить рупор и подать его именно толмачу, из чего неминуемо следовало, что столкновение лейтенанта с переводчиком не осталось незамеченным. Беря рупор, толмач кивнул головой, как бы злорадно намекая на это обстоятельство.
Вытащив из оцепеневших пальцев пленных пистолеты, их выволокли на солнце. К великому удивлению всех людей, надо полагать, всех, кроме хироманта и его выводка, мокрые немцы оказались облепленными каким-то пухом и перьями, словно это были не подбитые летчики, а Дедал и Икар после неудачного полета.
Немного отдышавшись, тот из немцев, у которого оставался кое-какой голосишко, что-то сказал переводчику, показывая на голову своего онемевшего товарища, из чего жители поселка сделали чересчур поспешный вывод, что второй немец сошел с ума.
— Притворяется! — крикнул Богатый Портной, но тут переводчик доложил, что немец намекает на камни, которые ночью бросали в пещеру.
— Он говорит, что будет жаловаться на нечестное ведение боя, — перевел толмач, продолжая мстить за свой рупор. Но лейтенант не растерялся.
— А кто мирный договор нарушил? — спросил он в упор.
На это немец не нашелся что ответить и неожиданно принялся чихать, а через секунду к нему присоединился и второй пленный. Тут бойцы да и сам лейтенант обрадовались, что у второго немца хоть таким образом прорезался голос. И тогда все поняли, что немец онемел не от камня, а от простуды, в чем сам же виноват. Тут один из бойцов истребительного батальона привел, имея в виду этого невезучего немца, абхазскую пословицу, гласящую, что, мол, упавшего с дерева укусила змея.
Бойцы истребительного батальона посмеялись удачно приведенной пословице, и тогда тот, кто ее вовремя вспомнил, попросил переводчика перевести ее на немецкий язык для пострадавшего немца.
Говорят, переводчик довольно долго переводил эту пословицу на немецкий язык, а немец продолжал чихать, глядя на него непонимающими глазами, может быть решив, что уже начался допрос.
Пока переводчик, поднатужившись, старался довести до сознания пленного немца смысл пословицы, указывая для наглядности на его голову, бойцы истребительного батальона рассказывали окружающим представителям других наций, как сжат и точен абхазский язык, если переводчику так долго приходится переводить эту пословицу. Представители других наций сдержанно соглашались, намекая, что и в их языках тоже есть немало хорошего.
Перевод пословицы, видно, как-то не дошел до сознания немцев, потому что тот, что пострадал от камня, неожиданно энергично замотал головой и что-то просипел, как бы в корне не соглашаясь с пословицей, что выглядело не вполне прилично со стороны пленного. Но тут второй немец разъяснил, что его товарищ, когда парашют зацепился за дерево, не упал с него, а спрыгнул, потому что там было невысоко.
Но тут вмешался лейтенант и велел оставить немцев в покое, оберегая их умственные усилия для более важных дел. Но немцев не оставили в покое, потому что к ним протиснулся Богатый Портной и сказал, обращаясь к переводчику:
— Переведи слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!"
Это было второе его изречение, надолго запомнившееся местным жителям.
— Для чего? — спросил переводчик и без того утомленный предыдущей пословицей.
— Интересно, что они скажут, — сказал Богатый Портной.
Но тут лейтенант опять отстранил Богатого Портного, да, и непохоже было, чтобы немцы могли что-нибудь отвечать, потому что они как принялись чихать, так и продолжали, почти не переставая.
И потом, когда их вели к машине и в самой машине, они продолжали чихать, и даже когда приехали в НКВД, никак не унимались. Да и позже, в кабинете самого полковника, рассказывают жители нашего города, немцы продолжали почихивать, хотя и не столь безудержно, но и без особых признаков затухания.
А все тот же толмач, рассказывают старожилы, хотя непонятно, откуда они все это видели или тем более слышали, стоял рядом с ними весьма удрученный, но уж не тем, что нельзя пользоваться рупором, а тем, что вот полковник все ждет, постукивая пальцами по столу, а ему переводить нечего, кроме этого чихания.
Но тут, говорят, полковник перестал постукивать пальцами, а надо полагать, потеряв терпение, двинул всем кулаком по столу и сказал несколько русских слов, которые в переводе могли прозвучать как строгое напоминание о том, что они находятся не в поликлинике, а совсем в другом месте. И тут, говорят всезнающие старожилы, немцы перестали чихать и притихли, перед тем как заговорить.
В тот же день в пещеру был вызван водолаз, потому что вода начала заливать жителей, живущих у подножия горы, и он открыл завал, устроенный хиромантом, спустил воду. Вот так хироманта за его полезную находчивость оставили в нижней сталактитовой пещере, хотя сам лаз у выхода в верхнюю сталактитовую пещеру на всякий случай заделали железной решеткой.
Подбитый немецкий самолет, это был "юнкере", выволокли на буйволах из ущелья, где он застрял, привезли в город и поставили в парке, сохранив его ужасный вид для наглядного примера того, что ждет всю германскую военную машину, а не только ее отдельные самолеты. Там он стоял в неприглядном виде до самого конца войны и даже дольше.
Должен сказать, что события этого бурного года я отчасти восстанавливаю со слов очевидцев, так что кое-где возможны некоторые преувеличения, впрочем незначительные.
Дело в том, что как только появилась опасность попасть под бомбежку, мама решила тактически более правильным (экономически тоже) переехать в деревню, что мы и сделали.
Когда мы вернулись из деревни, события на фронте изменились в нашу пользу, и в городе было полным-полно пленных немцев. Они работали в основном на строительстве разрушенных бомбежкой домов, что было вполне справедливо и поучительно. Кстати, заодно они восстановили и привели в порядок наш театр, сгоревший из-за халатности неизвестного лица.
Среди пленных находились и двое этих летчиков, и когда колонна проходила по улице, они обычно стояли рядом. С бодрыми песнями, лихо щелкая деревянными босоножками, они проходили по улицам города.
Я часто замечал, когда они проходили мимо парка, каким странным взглядом эти двое смотрели на свой самолет. Но если они даже не смотрели туда, наши старожилы, которым случалось стоять поблизости, рукой показывали им на парк в том смысле, что во-он ваш самолет еще стоит, на что эти двое, а иногда и остальные пленные вежливо кивали головой, давая знать, что этот факт им известен.
Во взгляде старожилов на этих двух летчиков, как, впрочем, и во взгляде летчиков на свой бывший самолет, было много скрытого юмора. Старожилы своими взглядами и кивками в сторону летчиков как бы напоминали им, что они, эти летчики, личная лепта нашего города в общей победе над немцами и что поэтому им, летчикам, не стоит слишком затериваться в толпе пленных.
"Ладно, не затеряемся", — как бы отвечали летчики своим суховатым кивком. Возможно, им надоедали эти бесконечные напоминания. Во взгляде летчиков на свой самолет тоже было немало смешного. Теперь, осовременивая впечатление от этого взгляда, но не меняя его сути, я бы осмелился привести такой образ. Так мог бы смотреть посетитель ночного кабаре на танцовщицу этого кабаре, в которой вдруг узнал свою бывшую жену. В качестве бывшего мужа он как бы оскорблен этой встречей и в то же время показывает взглядом, что никакой ответственности не несет за ее теперешнее поведение.
Но вернемся к нашему хироманту. После войны, когда в наших краях стало появляться довольно много туристов, он сам себя назначил проводником а эту теперь уже знаменитую пещеру. В разгар сезона он обычно сидел у входа в пещеру в одних трусах, иногда измазанный пещерной глиной, якобы удерживающей организм от постарения.
— Войдешь старичком, выйдешь бодрячком! — говорил он, подмигивая и кивая на рыжую команду, если она околачивалась рядом.
Туристы, как правило, клевали на его призыв, и тогда он им предлагал раздеться, раздавал свечи собственного изготовления и, оставив одежду под присмотром кого-нибудь из рыжиков, отправлялся в путь. По дороге он успевал себе выбрать, как бы шутливо, интеллигентную фаворитку в купальном костюме.
В пещере он обычно рассказывал историю поимки немецких летчиков и показывал на сталактит, за который они держались, когда их стала поднимать вода. Высоко подняв свечи, туристы вглядывались в вершину сталактита, стараясь разглядеть на ней следы пребывания немецких летчиков, хотя никаких следов там не было.
Когда группа доходила до места, где имелись небольшие, по его уверениям, запасы целебной глины, он предлагал всем натереться этой глиной, а фаворитку натирал сам.
В глубине пещеры у самого ручья был очень крутой, метров на десять, глинистый (по-моему, такой же целебный) обрыв, раскатанный неугомонными задами его рыжих волчат. Обрыв этот можно было обойти, но хиромант всегда приводил туристов к этому месту.
Обычно, подходя к этому месту, он отбирал у них свечи, часть из них гасил, а одну или две, придавив к ближайшим сталактитам, оставлял гореть. После этого он пропускал вперед ничего не подозревающих туристов, а сам, придерживая за руку свою избранницу, оставался сзади.
Туристы один за другим с предсмертным воплем летели в бездну и тут же бултыхались в довольно глубокий бочаг, служивший вполне безопасным тормозящим устройством.
Каждый раз после того, как кто-нибудь летел вниз, сверху раздавался демонический хохот хироманта. Проводив всех в бездну, он вместе с фавориткой обрушивался вниз, на лету издавая радостный вопль.
— Афинские ночи!
Это была его любимая шутка, которая ему никогда не надоедала. Многие туристы говорили, что после выхода из пещеры они ощущали исключительный прилив физических и духовных сил, который объясняли немедленным воздействием целебной глины.
Я сам неоднократно обрушивался в эту бездну, и надо сказать, что радость по поводу того, что остался жив, надолго перекрывала несколько мгновений ужаса, испытанного во время падения.
Гадать он, кстати, предлагал после выхода из пещеры, уже дружественно и весело настроенным туристам. Если гадание проходило успешно, он в виде особой любезности предлагал им купить пещерный жемчуг, маленькие, с горошину, желтоватые камушки, которые, по-моему, он сам же обтачивал.
Если же туристы, проходившие по этим местам, отказывались гадать, покупать свечи, вымазаться целебной глиной, поверить в естественное происхождение пещерного жемчуга, и вообще никак не давали себя загнать в пещеру, хиромант мрачно кивал головой и говорил:
— Ничего, идите, идите...
С несколько подпорченным настроением туристы шли дальше, и ничего особенного с ними не случалось. Разве что, если в компании не было достаточно решительных мужчин, их догонял рыжий выводок и отбирал бутерброды и банки со сгущенным молоком.
После войны хиромант перестал ездить по дворам и гадать. То ли люди стали плохо верить в хиромантию, то ли ему запретили в связи с внесением большей четкости в идеологическую работу, остается неизвестным.
Где-то в конце сороковых годов он исчез вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком. Все же в памяти старожилов нашего города (напоминаю, что речь идет о городе Мухусе, а не каком-нибудь другом, чтобы не было путаницы, обид, жалоб), так вот в памяти старожилов нашего города он оставил довольно яркий след, его и сейчас хорошо помнят.
_____________________________________
ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Поговорим о вине. Поговорим о сильных и слабых свойствах этого напитка, ибо его сила состоит в том, что он порой и слабого может сделать сильным, а его слабость как раз в том, что он и сильного может обессилить.
Поговорим о вине. Будем доверчивы и раскованы так, как будто мы в Абхазии сидим на веранде крестьянского дома, пьем по второму стакану "изабеллы" и закусываем жареной кукурузой и грецкими орехами. Благородная легкость и походная сухость закуски еще лучше оттенят орошающий смысл виноградной влаги и придадут нашему застолью уют военного бивуака, тем более приятного, что он не омрачен предстоящими сражениями. И пусть, прежде чем делать окончательные выводы, каждый вспомнит какую-нибудь поучительную историю, связанную с этим напитком, я же буду рассказывать о том, что было со мной.
У меня очень ранние воспоминания о вине. Не скрою — в нашем доме любили выпить, умели выпить и, просто говоря, пили. Среди многочисленных шумных мужчин нашего дома только двое не пили — это я и мой сумасшедший дядя. Нелюбовь моего дяди к спиртным напиткам была предметом постоянных веселых обсуждений со стороны гостей нашего дома. Тема эта с неизменным гостеприимством поддерживалась хозяевами и ни разу на моей памяти не подвергалась ограничениям из фамильных или педагогических соображений.
Иногда, пользуясь детской привязанностью моего дядюшки к лимонаду, как бы пародируя недалекое феодальное прошлое нашего края, гости пытались путем всякого рода подмешивания подсунуть ему алкоголь. Но он быстро угадывал обман, и эти проделки нередко карались им сурово и, я бы сказал, со старообрядческой простотой.
В конце концов, гости приходили к выводу, что его нелюбовь к спиртным напиткам, а также и к носителям спиртного духа, то есть к пьяным, есть концентрированное выражение его ненормального состояния, особого рода парадокса внутри парадокса его безумия, обернувшей более естественную в его состоянии водобоязнь на темный страх перед ни в чем не повинными веселительными напитками.
Сейчас, думая о причине крайнего недовольства дядюшки при виде пьяных и в особенности при их попытках объясниться с ним, я прихожу к выводу, что его раздражали эти чересчур эстрадные имитации безумия, эти коммунальные прогулки в глубины подсознания. Так, вероятно, шахтера раздражают профсоюзные экскурсанты, топчущиеся в забое и даже как бы пробующие кайлить уголь.
Примерно лет с девяти гости стали удивленно приглядываться ко мне. Ход их мысли, который я угадывал в недоуменном пожатии плеч, в вопросительно приподнятых бровях, в странном переглядывании, был примерно таков: сумасшедший он, конечно, сумасшедший, с него, как говорится, и взятки гладки, но этот-то почему торчит между нами и ничего не пьет? Не стоит ли приглядеться к нему, нет ли тут проявления дурной наследственности?
Все началось с того, что один из постоянных наших гостей, которого я называл Красным Дядей по причине его апоплексического цвета лица, как-то предложил мне выпить рюмку вина. Помнится, кто-то из женщин возразил. Тогда он стал с пьяной настойчивостью спорить. В конце концов, чтобы успокоить его, я вынужден был сказать, что вообще никогда не пью, потому что мне от этого неприятно.
Возможно, этими словами я, смутно угадывая, выражал тоску женщин по новому стойкому типу непьющего мужчины, который тогда уже пытались выработать, но, к сожалению, до сих пор еще не выработали, во всяком случае недоработали, хотя опыты продолжаются. Видимо, и Красный Дядя почувствовал в моих словах отголоски морали, которую ему навязали, или какой-то иной системы отсчета человеческих добродетелей, которая унижала его систему. Во всяком случае, он как-то глупо и упрямо обиделся.
Во время очередного застолья он снова вспомнил наш разговор и теперь попытался доискаться до глубинной причины моей трезвенности. Забавно, что он об этом вспомнил не сразу, а после некоторого возлияния, когда, вероятно, уровень выпитого поднялся до той зарубки, с которой он в тот раз стал приставать ко мне.
— Нет, ты мне скажи, — говорил он, — тебе неприятно до того, как ты пьешь, или после?
— Мне всегда неприятно, потому что я никогда не пью, — отвечал я ему с пионерской отчетливостью.
Одним словом, эта моя мнимая особенность стала предметом разговоров, обычно предваряющих славу. Постепенно я вошел во вкус и стал разыгрывать из себя мальчика, у которого организм обладает добродетельной странностью отталкивать алкогольные напитки.
Интересно, что, как только я утвердился в этой роли и все поверили, что у меня в самом деле такое забавное свойство организма, я почувствовал в себе жгучую, раздраженно нарастающую страсть к алкоголю. Я вспоминаю себя в кухне, когда гости уже вышли, а наши еще провожают их со двора, в страшной спешке допивающего из бутылок последние капли. То же самое я делал, когда посылали меня за вином, со свежими, только что приконченными бутылками.
К моему счастью, пили в основном вино, а гость по своему характеру был таков, что, пока есть что пить, никуда не уходил. Сейчас, вспоминая ощущение, которое я испытывал, когда допивал эти жалкие капли из бутылок и стаканов, я чувствую, что это было истинное состояние алкоголика. Я чувствовал, что те места на языке и горле, которые удавалось увлажнить винной влагой, приходили в состояние физиологического оживления и еще больше увеличивали жажду, как бы давая местные образцы ее утоления.
Сейчас в это трудно поверить, но лет с десяти до четырнадцати я был теоретическим алкоголиком, испытывая пламенное желание напиться и ни разу не удовлетворив его. Думаю, что все это кончилось бы плохо, если б не один счастливый случай, который вывел меня из этого опасного состояния.
Как-то зимой я жил в горах у своего дяди, о котором я уже неоднократно писал и намерен писать еще. И вот однажды он поручил мне принести к ужину чайник вина. Надо было набрать его из кувшина, зарытого в землю недалеко от дядиного дома на старой усадьбе, где жил когда-то его брат.
Вечереет. Какой-то предвесенний, еще голубоватый от снега день. Кое-где проталины, а в воздухе привкус праздника, предчувствие тайны обновления, и я с позвякивающим чайником в одной руке и черпаком в другой иду за вином. Черпак этот представляет из себя длинную ручку, насаженную на легкую окостеневшую кубышку из выпотрошенной и высушенной особого рода тыквы.
Но куда я иду? Я иду на свидание с вином, которое в самых воспаленных мечтах умещалось в лимонадную бутылку. А тут тебе целый кувшин и черпак, похожий на черепок карлика, хранителя клада.
В сущности, кто я такой? Я маленький египетский звездочет, тайно мечтавший о рябой дочери феллаха, похожей на печальную верблюдицу, и внезапно получивший любовную записку от Клеопатры с просьбой, близкой к приказу явиться ровно в полночь. О, зачем? Может, верблюдица лучше?
Но вот я на месте. Вспоминаю, что здесь когда-то стоял сарай. А вот и камень, придавивший сверху кувшин. Я не спешу, как человек, боящийся спугнуть счастье. Может, все это сон? Не лучше ли сделать вид, что просто так пришел поглазеть на знакомые места. Если все исчезнет, можно сказать себе, что ты и не ожидал ничего такого... А вот и сливовое дерево. Длинные, голые ветки, а какие на них бывали летом толстые, в голубоватой пыльце плоды. Проведешь пальцем, а под пыльцой глянцевитая темень кожуры, совсем как чернильница, случайно забытая и нашаренная в парте после каникул.
Я ставлю свой чайник на снег, кладу рядом черпак и берусь обеими руками за камень. Он холодный и скользкий, и я, с трудом его приподняв, осторожно ставлю в сторону. Под камнем слой папоротника, который я отдираю от доски и цельным комом, как его спрессовал камень, стараясь не растрясти, кладу в сторону.
Я уже веду себя по-хозяйски. Никакого насилия. Я облюбовываю этот божественный водопой и берегу место для новых встреч. Остается снять доску, прикрывающую кувшин, и я ее снимаю.
Черная, круглая дыра пахнула на меня ароматом переспелого винограда и тайны. Я заметил, что вокруг кувшина нет снега, словно вино излучало жар летнего винограда. Я взял в руки черпак, нагнулся и, чувствуя одним коленом холодную сырость земли, сунул его в отверстие.
Видно, из кувшина уже много раз брали вино, потому что я не мог дотянуться до него. Тогда я нагнулся еще сильней и по локоть сунул в кувшин руку с черпаком и наконец почувствовал трепещущую, плотную поверхность вина. Оно отталкивало легкий шар черпака, сопротивлялось, и я с каким-то странным удовольствием пересилил сопротивление жидкости и услышал, как, чмокнув, черпак захлебнулся в вине.
Я осторожно вытянул его, придержал левой рукой и перехватил правой у самой кубышки мокрую и красную, как голубиная лапа, ручку. Внутри черпака мерцало что-то темное, покрытое местами светлой плесенью, что как-то подтверждало подлинность мерцающей драгоценности.
Я посмотрел по сторонам, дунул в черпак, раздувая плесень, и притронулся губами к его шершавому пористому краю. Я почувствовал ненавязчивый аромат виноградного сока и какой-то растительный, ветхий запах посуды.
Колючая ледяная жидкость полилась в меня. Почти не прерываясь, я выдул весь черпак, чувствуя, как в горле и дальше внутри меня твердеет серебристая полоса онемения. Оторвавшись от черпака, я увидел сквозь голые сухие ветки сливы зелено-серебристый диск луны и почему-то подумал, что если надкусить его краешек, то во рту и в горле будет такое же серебристое онемение, как от вина.
Я уселся на сухой, слежавшийся ком папоротника, так что горлышко кувшина оказалось у меня между ног наподобие солдатского котелка. Я стал наполнять чайник. Иногда я почему-то, не долив из черпака в чайник, сам допивал, а иногда, вытащив полный черпак, делал несколько пробных глотков, а остальное доливал в чайник. Наполнив чайник, я несколько раз просто так доставал вино из кувшина и снова выливал его в кувшин, глядя на изгиб тяжелой струи в лунном свете и слушая сырой гул падающего вина, похожий на гул, который бывает в ущельях.
Как и всякий человек, получивший над чем-нибудь власть, я первым делом стал проверять степень ее полноты и наслаждался, убеждаясь в ее истинности.
Но вот я встал, прикрыл доской отверстие кувшина, положил на доску папоротниковую прокладку, приподнял камень и поставил его на место. Мне показалось, что он значительно полегчал.
Я поднял чайник и почувствовал, что он переполнен, потому что из носика выплеснулась струйка. Чтобы вино даром не терялось, я поднес чайник ко рту и вытянул из носика хороший ледяной глоток. Потом я поднял черпак и в последний раз посмотрел на камень с клочками папоротника, торчащими из-под него, и вдруг мне почему-то стало жалко оставлять здесь кувшин, придавленный холодным скользким камнем, и я неожиданно вспомнил строки давно любимого стихотворения:
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не смог.
Мне стало до того жалко императора Наполеона, что хоть ревмя реви. Мало того, думал я, ковыляя домой, что он вынужден вставать из гроба и искать любимого сына — а где его теперь найдешь? — так они еще камень положили ему на могилу. Он-то, мертвый, об этом не знает, потому что ему снизу не видно, он думает, что просто сам он слишком слаб в своей могиле.
Эх, если б он знал, думаю я. Меня угнетает вероломство врагов императора. Конечно, думаю я, было бы глупо искусственно поднимать его из гроба, напяливать на него мундир и заставлять приветствовать войска, но камнем давить на мертвеца — тоже подлое занятие. Как же быть? Очень просто, решаю я, надо оставить его в покое. И если он может подняться из гроба сам, пусть подымается. Только не надо ему ни помогать, ни мешать. Все должно быть честно.
Постепенно я на этом успокоился и обратил внимание на то, что снег под ногами похрустывает, а когда я шел за вином, этого не было. Я понял, что подморозило, и в то же время никак не мог сообразить, почему ж мне так тепло.
Время от времени я поглядывал на чайник, потому что боялся, как бы из носика не выплеснулось вино. Но вино не выплескивалось, и это стало меня беспокоить. Я немного тряхнул чайник и, когда струйка вылилась на снег, отпил несколько хороших глотков и пошел дальше. По дороге я еще несколько раз повторил эти контрольные встряски, каждый раз отпивая излишек. Казалось, я готовлю чайник с вином к долгому верховому путешествию по горным дорогам.
Когда я вошел в кухню, тетка приняла у меня чайник, глубоко заглянула мне в глаза и вдруг улыбнулась.
— Немножко есть? — спросила она понимающе.
— Есть! Есть! — ответил я почему-то восторженно.
— Если хочешь, полежи, — посоветовала она и показала на кушетку.
Я в самом деле лег, но не на кушетку, а на длинную скамью, стоявшую у очага. Сквозь закрытые глаза я чувствовал лицом пылание огня и даже как бы видел кожей то сильней, то слабей полыхавшие струи. Потом я вдруг почувствовал, как все стронулось с места и поплыло, как бывает, когда долго смотришь на текучую воду. Я открыл глаза, и снова все поплыло. Потом опять закрыл, и снова все остановилось. Тогда я вообразил, что в случае чего я всегда успею открыть глаза, и, успокоившись, отдался течению.
С какой-то обостренной нежностью я теперь слышал каждый звук, раздававшийся в кухне и на веранде. В каждом звуке я угадывал его истинный, больший, чем он означает, смысл. И каждый раз он звучал так, словно я его давно ожидал. Так в детстве в закрытой комнате, бывало, ожидал шаги матери, когда она возвращалась с базара. И теперь я радовался узнаванию этих звуков, как тогда узнаванию материнских шагов.
Вот тетушкины пальцы зашлепали по ситу, вот звякнули в шкафу тарелки, вот мамалыжная лопатка в чугунке заходила, — и все эти звуки, я чувствую, означают не только приближение ужина, а что-то большее, может быть, уют домашнего очага, древнюю песню вечернего сбора.
А потом я слышу, как хозяйские дети, брат и сестра, моют ноги в тазу. И это опять означает что-то большее, чем боязнь испачкать постель, может быть, означает извечное возвращение детей под родительский кров... А потом я слышу, как они возятся на кушетке, дерутся, и я чувствую в самой этой щенячьей возне какую-то необходимость, тайный уют, словно это им так нужно — рвануться в разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую привязь родства.
И каждый раз, угадывая за каждым звуком его истинный смысл, я чувствую в груди вспышку благодарности, которая, оказывается, вызывает у меня смех. Но я его не замечаю, я узнаю о нем по восклицаниям детей или тетушки, которая то и дело входит и выходит.
— Мама, он опять смеялся! — кричат дети.
— Ну и пусть смеялся, — отвечает она мимоходом.
— Нам страшно! — кричат дети, но я понимаю, что им не страшно, но приятно делать вид, что страшно, чтобы потереться о материнские крылья, напомнить себе и ей, что им еще под этими крыльями тепло и безопасно.
А потом входит дядя, и дети восторженно бросаются ему объяснять, что я напился, и я слышу его добрую усмешку, слышу, как тетушка поливает ему воду и рассказывает обо мне. И я чувствую какое-то странное удовольствие оттого, что при мне говорят обо мне, думая, что я не слышу, не понимаю, как бы наполовину не существую.
...Не это ли божественное любопытство совести заставляет людей при жизни поступать так, словно потом из могилы им дано с улыбкой прислушиваться к тому, что о них говорят живые?
А потом меня подымают ужинать, и мы сидим ужинаем, а дети любуются моей странностью, а я стараюсь угодить их потребности в странном, а это так просто, легко, — стоит мне потянуться за стаканом, как они заливаются смехом, потому что движения мои потеряли привычку.
А потом я себя вспоминал ночью. Я выхожу на морозный воздух, я стою под белой, как зеркало, луной, на белом снегу. Ко мне подбегает наша собака, фантастически черная на белом снегу. Она искрится чернотой, бьет хвостом, а от нее веет бесовской силой и радостью одинокой души живой душе. Но каждый раз, когда я нагибаюсь ее погладить, она отскакивает, испуганная неточностью моих движений.
На следующее утро я перестал быть алкоголиком. Страсть, порожденная собственным запретом, была утолена. Теперь я пил вино, как и все деревенские дети в наших краях. Сколько дадут, столько и пил, а если не давали, я, как и они, не вспоминал о нем. Но то первое опьянение осталось в памяти как чудесный сон. Вспоминая его, я каждый раз с нежностью думаю о дяде, о тетушке, о братце и сестричке. Я до сих пор вижу их в том золотистом освещении, и это помогает мне сохранить теплоту своей давней к ним привязанности,
Так, может быть, случайно мне тогда открылся великий объединяющий смысл вина, и другого смысла, достаточно высокого, я в нем не нахожу.
Однажды зимним вечером, подымаясь по Садовому кольцу, я увидел пьяного человека, лежавшего на тротуаре. Он лежал, распластавшись на животе, в позе достойной лучших традиций МХАТа, ибо нет предела артистичности россиянина. Красной от мороза пятерней вытянутой руки он сжимал голый стволик деревца. Другая рука в перчатке лежала рядом на снегу, красиво не дотянувшись.
Вниз по Садовому кольцу время от времени задувал ледяной ветер, сдувая с тротуара небольшие вихри снежной пыли, и подгонял редких прохожих. Пожалуй, замерзнет, подумал я и после некоторых колебаний подошел к нему. Я нагнулся и дернул его за плечо. Пьяный замычал и уютно втянул голову в барашковый воротник пальто.
Я взял его за барашковый воротник и изо всех сил потянул вверх. Судорожно перебирая пальцами по обледенелому стволику, он пытался удержаться, но я успел обхватить его второй рукой за туловище и поставил на ноги, продолжая придерживать. Осторожно отпустил.
Он стоял с закрытыми глазами, с плотно сомкнутыми губами, покачиваясь и поскрипывая зубами. Я плотнее натянул ему на голову модную финскую или ту, которую у нас принято считать за финскую, кепку, потому что она еле держалась. После этого он открыл глаза, медленно трезвея, прислушиваясь к своему отрезвлению, но не спеша давать ему ту или иную оценку.
Это был человек лет пятидесяти, с набрякшими веками, большеглазый, с нежным румянцем на лице. Я давно заметил, что люди с такими векастыми глазами всегда держат наготове выпяченные губы. Сейчас у этого человека губы были плотно сжаты, и я ждал, когда он приведет их в соответствие со своими набрякшими веками.
В одежде его тоже чувствовался некоторый разнобой. Судя по финской кепке, можно было сказать, что человеку этому не чужды веянья моды, а следовательно, и модные веянья. Но это могучее пальто со светлым барашковым воротником, сейчас приподнятым и чем-то напоминающим гранитную воронку, кстати, сходство с гранитом подтверждалось кварцевыми кристалликами мороза, сверкавшими на нем, — так вот этот монументальный воротник заставлял усомниться в возможностях модных веяний.
Воронка воротника прочно держала внутри себя голову вместе с финской кепкой и всеми возможными веяньями.
А между тем человек постепенно приходил в себя.
Казалось, после того, как я его поставил на ноги, алкоголь отхлынул от головы, стекает обратно в желудок. Тут я заметил, что вторая перчатка торчит у него из кармана пальто. Я вытащил ее с некоторым оттенком ханжеской брезгливости, с которой мы обычно лезем в чужие карманы. С трудом натянул ее на его одеревеневшую красную кисть. Он посмотрел на нее с хозяйским угрюмством, как на вещь, которую одалживали, а теперь вернули.
— Ну и что? — сказал он, словно убедившись, что вещь, пожалуй, не слишком пострадала, хотя и пользы от этого никому нет.
— Домой, домой, — направил я его мысль с односложностью ночного сторожа.
— А где дом? — спросил он, по-видимому, язвительно и довольно смело откинулся назад, наконец-таки выпятив губу. Теперь ветер дул ему в спину, и он, отчасти опираясь спиной на ветер, покачивался на его порывах, как на качалке.
— Не знаю, — сказал я, обдумывая, как быть дальше.
— Э-э, — протянул он, как бы придавая моему незнанию универсальный смысл. Теперь он почти надменно покачивался на качалке ветра.
Я решил довести его до площади Маяковского, а там он или сам придет в себя, или милиция его заметит.
Я взял его под руку, повернул, и мы пошли. Сначала он шел хорошо, только упорно молчал, время от времени скрежеща зубами. Но потом он стал тяжелеть, все безвольней повисал на моей руке, как будто алкоголь, взболтанный ходьбой, усилил свое воздействие. За все это время он только один раз попросил у меня закурить и больше не сказал ни слова. Когда ему хотелось курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю губу, показывал мне, что ждет сигарету.
Убедившись, что прикурить он на ветру никак не может, я закуривал сам и потом вставлял горящую сигарету в его оттопыренные губы, как в хобот. Это повторялось множество раз, потому что он быстро терял сигарету, вернее, ронял на барашковый воротник, и я старался следить, чтобы он не сжег свое руно. Чем ближе подходили мы к площади, тем трудней становилось его вести. Прохожие стали попадаться все чаще и чаще, и некоторые обращали на нас внимание, тем более что он иногда делал довольно неожиданные зигзаги, заставлявшие их шарахаться. Видимо, я устал и ослабил свой контроль над ним. В такие мгновенья люди с упреком смотрели на меня, словно я его споил, а теперь потешаюсь над ним, злоупотребляя его невменяемостью. Как я ни старался придать своему лицу бодрое выражение сопровождающего, а не собутыльника, как я ни переглядывался с ними с выражением взаимной трезвости, не было мне ни прощения, ни сочувствия.
Уже совсем близко от площади после очень сильного порыва ветра мой спутник вдруг снял с себя кепку и бросил ее по ветру. Жест этот можно было понять, как языческое жертвоприношение, если б не сопровождающие слова.
— А Катюше передай привет, — сказал он ей, вернее, даже как-то кинул через плечо в сторону летящей кепки, и трудно было понять, то ли он бредит, то ли иронизирует, прощаясь с кепкой, как серый волк с бабушкиным чепчиком.
Между тем, как только он раскрыл рот, сигарета выпала у него изо рта, и я вынужден был стряхнуть ее с воротника, прежде чем бежать за кепкой, которая с замысловатыми остановками катилась по тротуару. Я боялся, что она вылетит на улицу, прежде чем я успею ее догнать. Я ее быстро догнал, но она не сразу мне далась, а все вырывалась, как убегающая курица. В конце концов, чтобы поймать ее, я вынужден был на нее наступить.
Пока я бежал за кепкой, он ждал меня, все так же через плечо поглядывая в мою сторону без особого любопытства.
Слабый пушок светлых волос колыхался над большим пустырем его лба. Плотно, почти до самых глаз, я насадил кепку на его голову, вкладывая в это действие замаскированный укор.
— А сигарета? — спросил он обиженно, после того как я натянул на него кепку, словно его раздражала сама половинчатость реставрации: раз вернул кепку, чего уж там стесняться, давай и сигарету.
Я вынул сигарету, прикурил и, прежде чем дать ему, с удовольствием сделал несколько затяжек. Он ждал рассеянно, протягивая раскрытый рот, как ребенок навстречу ложке. Я вложил сигарету в эту темную губастую дыру.
Все это начинало мне надоедать, и когда мы двинулись дальше, я приметил в фасаде одного из домов углубление, нечто вроде ниши, защищенной от ветра. Я решил вставить его туда и уйти. Приняв решение, я стал медленно скашивать с таким расчетом, чтобы мы через некоторое время уперлись в нее. И вдруг этот человек, делавший до этого невероятные зигзаги, что-то почувствовал, забеспокоился. Он даже как-то попытался уклониться, сойти с намеченного мной курса, но было уже поздно. Я вставил его в нишу и, чувствуя некоторые угрызения совести, стал заправлять у него на груди слегка выбившееся кашне.
— Куда? — спросил он, тоскливо трезвея.
— Мне надо идти, — ответил я, продолжая заправлять кашне.
— Выпьем? — предложил он.
— В другой раз, — ответил я после некоторой фальшивой паузы. Если бы не эта фальшивая пауза, может быть, он легче примирился бы с моим отказом. Но я, пытаясь смягчить свой отказ этой жалкой имитацией внутренней борьбы, только посеял ложные надежды. Он устремился в эту приоткрытую (хотя и на цепочке) дверь.
— Выпьем, деньги есть, — повторил он и вытащил из кармана пальто несколько мятых рублей. Он смотрел на меня с некоторым недоумением, словно, предлагая выпить, он имел в виду, что деньги эти ни для чего другого не пригодны, и если сейчас же их не пропить, то завтра они все равно пропадут.
— Домой поедешь? — спросил я без особой надобности.
— Нет, — отрезал он и резким движением сунул деньги в карман.
Что-то мешало мне уйти просто так, и, чтобы что-то делать, я решил хотя бы загнуть его барашковый воротник, все еще торчавший торчком.
Только я дотронулся до него, как ладонь хозяина руна с молниеносностью электрического разряда ударила меня по лицу. От неожиданности или расслабленности из глаз у меня посыпались искры. Багровая волна ярости захлестнула мне голову — расколошматить к чертовой матери! И все-таки какой-то давний, привычный тормоз остановил меня, как останавливает он всех нас: бить пьяного, бить глупого, бить не ведающего, что творит?
— Ты что? — только и сказал я. Он смотрел на меня взглядом, исполненным трезвой враждебности.
— Ненавижу, — прошипел он, словно боясь, что я как-нибудь не так истолкую его удар.
Я повернулся и пошел. Мне надо было пересечь улицу, и, сходя с тротуара, я обернулся. Он все еще продолжал стоять в нише, слегка откинувшись к стене, в своей финской кепке и гранитно-барашковом воротнике. Оттопыренные губы его шевелились. И вдруг мне показалось, что это чудовищное подобие выродившегося Командора, который только что сотворил месть, соответственно измельчавшую, возвратился на свое место и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую.
Конечно, тогда мне было очень даже обидно. Но теперь, когда страсти улеглись (особенно, конечно, бушевал я), а мой подопечный, надо думать, протрезвел, я должен, как говорится на собраниях, сказать и о своих ошибках.
Если бы я его тащил, ругая и давая время от времени подзатыльники, может быть, это послужило бы некоторым не слишком прочным, но все-таки мостком от меня к нему. Я же своей нудной добродетельностью каждый раз бестактно обозначал между нами границу: я, мол, трезвый, а он, мол, пьяный, я, мол, подымаю, а он, мол, валится, и так далее.
Конечно, моей помощи не хватало живого чувства. Другое дело, где его взять, если его не испытываешь...
Кстати, эта псевдофинская кепка напомнила мне совсем другой случай.
Однажды ночью в ленинградской гостинице я прошел в бар и увидел несметное количество очень пьяных блондинов. Зрелище было страшное. Оказывается, огромное количество пьяных блондинов производит особенно жуткое впечатление. Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не танцуют, а копошатся. Фиолетовые финты копошились в мутном табачном воздухе бара.
Потом я узнал, что в Финляндии сухой закон, и стало ясно, что пьянка эта своего рода скандинавский бунт: против закона своей страны они выезжали протестовать в соседнюю страну.
Так что же я предлагаю? Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки.
Кстати, того количества пьяных в баре хватило бы на все абхазские пирушки, которые я когда-либо видел. Конечно, дело здесь не в особой выносливости, а в том, что народы, производящие много вина, выработали моральные границы, которые не просто нарушить. И если во время питья терять контроль над собой считается позором, то самообладание пьющих превращается в традицию.
И я говорю, что нам необходимо время от времени собираться на семейных торжествах, чтобы через одинаковый цвет нашего напитка вновь почувствовать наше кровное родство и вновь увидеть тех людей, от которых мы идем, и тех, что идут за нами, чтобы, прочнее осознав свое место во времени, почувствовать себя звеном, как сказал поэт.
Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом.
И если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными, сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ, — и вот смотрите, как полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга! Не потому ли недоливший себе воспринимается как изменник?
И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столиком и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства.
И вот, оказывается, мы прекрасно посидели и надолго запомнили эту встречу. Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой и буду злословить или важно суетиться перед своим начальником, ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче и еще могу зазеленеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе. Нам надо помнить о той встрече, потому что она поможет нам сохранить уважение к людям и наградит каждый наш день единственной достойной наградой — смыслом, потому что каждый день будет подготовкой к празднику нашей встречи.
________________________________________________
СЛОВО
С небольшой старинной фотографии смотрит девушка с толстой косой, с широкоскулым, широкоглазым и большеротым лицом. Это мамина сестра Айша. С ее именем связана печальная история, которую я слышал много раз.
Иногда, когда кто-нибудь из близких рассказывал о ней, я вглядывался в эту фотографию, стараясь уловить в ее чертах то обаяние, которое все они помнили, но, кроме обычного выражения грусти, свойственного снимкам умерших людей, я ничего не находил в ее лице.
Я даже думаю, что, если б не эти огромные темнеющие глаза, она, может, казалась бы уродливой, настолько черты ее лица были явно неправильны. Но когда на лице такие громадные глаза, все остальные черты делаются незаметными, и потом, они придают лицу выражение какой-то незащищенности — вечное оружие женственности. Впрочем, все это, может, только мои домыслы.
Мама говорит, что Айша была любимицей в их огромной семье, где одних детей — братьев и сестер — было человек десять.
В те времена в доме дедушки летом собиралось множество долинных родственников и просто знакомых. Они приезжали на лето отдохнуть, подышать горным воздухом, а главное, спасались от колхидской лихорадки. Девушкам, сестрам мамы, и, конечно, ей крепко доставалось. Всю эту ораву надо было кормить, поить, укладывать спать да еще и хозяйством заниматься. Я думаю, эта трудная, но неуниженная и неспособная унизиться юность помогла моей матери впоследствии перенести многое, отчего можно было сломаться.
Говорят, лет в пятнадцать Айша расцвела почти сразу. К ней стали приглядываться, о ней заговорили в соседних больших и богатых селах. Братья не выпускали ее из виду, потому что, раз девушка нравится, ее кто-нибудь захочет украсть, и обязательно тот, с кем не хочет родниться семья девушки. Потому что, если уж очень он нравится семье, ему, пожалуй, и незачем воровать девушку.
Но случилось так, что в нее влюбился простой парень из соседней деревни, да еще родственник, правда, дальний. Звали его Теймраз.
Он отдыхал в доме дедушки, потому что болел малярией, и, может быть, любовь Айши была продолжением женского милосердия. Она ухаживала за ним. И как это бывает в таких случаях, его-то как раз никто всерьез не принимал. И как больного, и как родственника, и как вообще слишком молодого и ничем не приметного человека. Но болезнь оказалась делом временным, родственность — относительной, а молодость еще никогда не бывала препятствием к любви.
Говорят, когда дедушка узнал, что они хотят жениться, он наотрез отказался выдать дочь.
— Не будем вязать наше родство двумя узлами, — сказал он, — а то потом рубить придется.
— А что он такого украл? — спросили братья и презрительно пожали плечами.
В те времена в наших краях доблесть мужчины проверялась способностью с наибольшей дерзостью угнать чужого коня, стадо овец или, в крайнем случае, корову. Это была своеобразная восточная джентльменская игра, при которой хозяин, обнаружив пропажу, гнался за обидчиком и стрелял в него без всякого предупреждения. Игра была благородной, но опасной. Вот почему горец, показывая на своего коня, клялся всеми святыми, что он у него ворованный, а не какой-нибудь купленный или дареный. Иногда конь оказывался именно купленным или подаренным, и тогда клеймо позора ложилось на хвастуна до тех пор, пока он его не соскребал строго доказанной дерзостью.
Дедушка, отказывая Теймразу, говорил, что они родственники. Но я думаю, что это была только отговорка. Мачеха Теймраза приходилась двоюродной сестрой дедушке. Вот и все родство. Даже строжайшие в этом отношении абхазские обычаи никакого смешения крови здесь не могли заподозрить.
Откровенно говоря, против самого Теймраза дедушка, кажется, ничего не имел, но ему не нравились его братья, известные в Абхазии абреки и головорезы. И хотя Теймраз был среди них вроде выродка, то есть никого не убивал, не умыкал, не уводил, дедушка не хотел связываться с их семьей слишком близко. Он был далек от всего этого молодечества, и это удивительнее всего. Он прожил длинную жизнь, полную вольных трудов и невольных приключений, дважды побывал в Турции во времена переселения абхазцев, дважды начинал жизнь с первого вбитого кола. Вокруг него свистели пули абреков, ревели угнанные стада, творили свой жестокий обет кровники, а он словно не замечал всего этого.
Получалось довольно сложно: то, что нравилось в Теймразе дедушке, не нравилось братьям Айши, а то, что нравилось братьям, дедушка терпеть не мог.
Но и ссориться с братьями Теймраза было опасно. Поэтому, убедившись, что любят они друг друга не на шутку, а парень никак не отстает, дедушка дал согласие.
Сыграли свадьбу, и молодые стали жить в доме Теймраза. Отец его, говорят, полюбил Айшу больше своих дочерей, потому что она была ласковой и услужливой девушкой. С приходом Айши дом старика ожил и засветился. До этого сыновья его редко навещали, хоть и жили поблизости. Они были недовольны тем, что он женился после смерти матери второй раз. Соседи тоже избегали старика, потому что побаивались его сыновей. Айша смягчила все отношения, и в дом старика потянулись братья и соседи, как на добрую старую мельницу.
Однажды старушка, соседка Айши, зашла на огород нарвать перца и вдруг заметила в двух шагах от себя в кустах фасоли незнакомую собачонку. Старушка прикрикнула на нее, но та вместо того, чтобы убежать, неожиданно оскалилась. Рассердилась старушка, хотела пнуть ее ногой, а собачонка укусила ее за ногу и убежала. Тут только она и заметила, что это была не собака, а лиса. По другой версии то была не лиса, а куница. Подивилась старушка на чудеса, послюнявила ранку, собрала в подол свой перец и вернулась домой.
Ранка от укуса была еле заметной, все равно что о ежевичную колючку укололась. Вечером она рассказала о случае на огороде своим домашним. На рану никто не обратил внимания, только все удивились, что лиса или тем более куница осмелилась укусить человека.
Недели через три старуха заболела. Возле нее день и ночь дежурили родственники и соседи. Айша не отходила от нее ни на шаг. Меняла ей белье, прикладывала ко лбу мокрое полотенце, смоченное в кислом молоке, пыталась кормить. Вскоре стало ясно, что старушка заразилась бешенством. Через несколько дней она умерла. Пригласили знахарку, и она приготовила настойку для всех, кто присматривал за больной.
В тот день, когда знахарка принесла приготовленную настойку, Айша лежала в постели. Она слегка приболела, это было обычное недомогание, которое испытывают многие молодые женщины во время беременности. Может быть, из-за этого недомогания она отказалась пить снадобье. Никак не могли ее заставить. В конце концов близкие сочли это за обычный каприз беременной женщины и оставили ее в покое. Тем более что ни в снадобье, ни в возможность заразиться бешенством именно таким путем никто особенно не верил. Пили так, на всякий случай.
Но Теймраз, узнав о том, что она не выпила настойку, встревожился. Он решил заставить ее выпить. Говорят, он целый день уговаривал ее, даже несколько раз выпивал сам, чтобы показать, как это просто. Но она никак не хотела пить. Только поднесет стакан с настойкой к губам, ее так и воротит.
— Не могу, — говорит и отстраняет стакан.
— Неужели ты умрешь, если выпьешь? — говорят, сказал он ей напоследок. — Почему ты так боишься?
— Да, умру, — серьезно ответила она и посмотрела ему в глаза своими большими темными глазами.
Говорят, при этих словах Теймраз побледнел, но все-таки упрямо протянул ей стакан.
— Пей, — сказал он, — если ты умрешь, я пойду за тобой.
Говорят, на этот раз она посмотрела на него своими большими глазами и ничего не сказала, только молча взяла его за руку.
— Что за глупые шутки, — набросилась тут мачеха на Теймраза, — подобает ли мужчине поддерживать жалкие разговоры беременных женщин?
Всем, кто слышал, как переговаривались Айша и Теймраз, стало как-то не по себе. Потом они уверяли, что уже тогда по их разговору что-то предчувствовали. Я думаю, что дело не в предчувствии, а в том, что влюбленные возвращали словам их истинный вес, и это-то показалось странным и необычным тем, кто был рядом.
Услышав недовольный голос свекрови, говорят, Айша привстала и, продолжая держать одной рукой руку мужа, другой взяла стакан. Щеки ее слегка зарумянились. Она выпила настойку не поморщившись, сказала, что попробует заснуть, и легла, повернувшись к стене.
Через день у нее начался сильный жар, и дней десять после этого она была между жизнью и смертью. Дедушка поехал в город и с большим трудом привез врача. Но ничто не помогло. Врач сказал, что у нее началось заражение крови и ей в ее положении никак нельзя было пить это снадобье. Айша родила мертвого ребенка и через несколько часов умерла сама. Теймраз словно окаменел.
Родственники стали на него коситься, потому что, как ни велико горе, по абхазскому обычаю муж должен его скрывать от постороннего глаза.
В день похорон покойницу выставили во дворе под укрытием, чтобы все, кто хочет, могли попрощаться с ней. Рядом с гробом лежали ее личные вещи и стояла ее лошадь, которую держал под уздцы брат Айши, тогда еще мальчик.
И вдруг, расталкивая плакальщиц, Теймраз подвел свою лошадь, оседланную, в полной готовности, и поставил ее рядом с лошадью жены.
Подивились родственники и соседи такому невиданному обряду, потому что никто не слыхал, чтобы рядом с лошадью покойной жены ставили лошадь живого мужа. Зашептались гости, не сошел ли он с ума, не смеется ли над ними. Братья велели увести его лошадь. Он стал сопротивляться. Произошла неприятная стычка, неуместное замешательство. Все-таки они добились своего.
— Вы еще об этом пожалеете, — сказал он сквозь зубы и вывел свою лошадь из круга плакальщиц.
После похорон все наши сели на лошадей и отправились к себе в деревню. Теймраз вызвался их провожать. Моя мама, тогда еще девочка-подросток, ехала рядом с ним. Мама говорит, что он начинал какие-то странные разговоры, она его совсем не понимала — то плакала, то принималась утешать.
Они ехали по осеннему лесу, высветленному серебристыми стволами буков, устланному золотистыми листьями, пахучему и свежему, как молодое вино. Я знаю эту дорогу от Джгерды до Чегема, она и сейчас красива, но тогда она им казалась бесконечной и грустной. Наконец приехали домой.
Приготовили еду. Теймраза едва уговорили сесть за стол. Он хоть и сел, но к еде не притронулся, только выпил два стакана вина. Потом он встал, попрощался со всеми и вышел во двор. Дело шло к вечеру. Его пытались оставить дома, но он отвязал лошадь и неожиданно стал джигитовать во дворе.
Он поднимал коня на дыбы, бросал его в галоп, заставлял делать "чераз", то есть скользить по траве, и многое другое.
Говорят, было что-то жуткое в этой мрачной джигитовке. В тишине притихшего двора раздавалось только пистолетное щелканье камчи и жесткий голос всадника, понукающего коня. И сам он, говорят, был страшен, смертельно бледный, с траурной каймой бороды, властный и непреклонный в своей странной, никому не нужной джигитовке.
Потом он перемахнул через ограду и помчался в сторону своей деревни.
Поведение его было необъяснимо и позорно. Джигитовать в день похорон жены, да еще в доме ее отца, — это было ни на что не похоже.
— И за этого выродка я отдал свою дочь!.. — сказал дедушка мрачно и сплюнул.
Часа через два в тот же день Теймраз был уже дома. Его не ждали. Думали, что он останется у наших, но он приехал. Ничего особенного за ним не заметили.
От ужина он, говорят, отказался, сославшись на то, что он уже сидел за столом у наших. Можно представить, каким пустым и холодным показался ему собственный дом после похорон юной жены.
На следующее утро был чудесный, мягкий день, какие бывают у нас в Абхазии в дни сбора винограда. Отец Теймраза привязал веревку к виноградной корзине и пошел в сад. Он звал сына с собой но тот сказал, что ему нужно уладить кое-какие дела.
Как только отец ушел в сад, Теймраз попросил у матери чистое белье, сказал, что хочет вымыться перед большой дорогой. Она не стала спрашивать, какая дорога и куда. Она решила, что сейчас ему будет полезней всего отвлечься.
— Будь осторожней, сынок, — сказала она, увидев, что он стал прочищать старое отцовское ружье.
— Хуже того, что случилось, не будет, — ответил он. Потом Теймраз наточил бритву, побрился, нагрел воду в котле и вымылся. Мачеха все это время сидела на крыльце с вязаньем. Отец несколько раз окликал его из сада, чтобы он принял спущенную на веревке корзину, и он несколько раз проходил в сад.
Потом он пошел на могилу своей жены, постоял там немного, наклонился и стал выкидывать камушки со свежей насыпи.
"Словно готовит грядку огорода", — подумал отец, глядя на него с дерева. Во всяком случае, так он потом рассказывал. У нас обычно хоронят своих покойников недалеко от дома.
Теймраз постоял во дворе, потом тихо подошел к мачехе и говорит:
— Мать, у меня опасная дорога. Если что случится, продайте моего коня и сделайте нам с женой общие поминки.
Всплеснула руками старая, запричитала:
— Мало нам горя, опять чего-нибудь накличешь!
Жалко ему стало ее. Подошел, обнял.
— Уйди, уйди, дуралей невезучий! — говорит она и отмахивается от него. — За что мучаешь стариков?
...От теплого осеннего солнца, от горькой усталости этих дней старушку то и дело одолевала дрема. И вот сквозь дрему ей показалось странным все, что делал Теймраз, как будто он все делал навыворот. Так она потом рассказывала. Только задремлет, и ей видится, что Теймраз сначала побрился, а потом наточил бритву, сначала оделся в чистое белье, а потом стал греть воду, сначала зарядил ружье, а потом стал его чистить.
"Да что же он все делает не по-людски?" — думает старушка сквозь сон и, очнувшись, озирается. Посмотрит вокруг — вроде все в порядке, а на душе нехорошо. Снова задремлет, и снова все то же, и вдруг ее словно что-то толкнуло. Она окончательно очнулась... "Как же это он собирается в дорогу, а еще не поймал коня? Где же это слыхано. Надо же сначала поймать коня, привести его домой, а потом собираться в дорогу". Только хотела окликнуть его, слышит, вроде в кладовке кто-то крышкой сундука хлопнул.
— Теймраз, это ты? — крикнула она, но никто ей не ответил.
И вдруг распахивается кухонная дверь, и оттуда выходит, почти выбегает Теймраз.
— И детям вашим врагов не пожелаю, чтобы они так выходили из кухни, — говорила потом старушка.
Сначала она ничего не поняла. Теймраз почему-то скребет себя ладонями по груди и выбегает на середину двора, а потом она видит, что на нем горит рубаха, а он ее пытается погасить.
— Что с тобой, Теймраз! — крикнула она не своим голосом.
— Ничего, ничего, — сказал он, испугавшись ее голоса, и, словно стыдясь того, что случилось, стал прикрывать ладонями дымящуюся рубаху.
А потом между пальцев выплеснулась струя крови, Теймраз зашатался, но у него все же хватило сил лечь на траву.
Отец услышал крики со своего проклятущего виноградника и, почуяв неладное, бросился с дерева и побежал к сыну.
"Вот же как бывает, — говорил он потом удивленно, — в другое время сорвись я с такой высоты — не встал бы, а тут — ни царапины".
Теймраз лежал в тени орехового дерева, продолжая скрести почти погашенную рубашку. Пальцы его все еще помнили, что надо погасить этот маленький пожар, но сам он уже не понимал, что сделал с собой. Он был мертв.
Братья Теймраза оскорбились причиной его самоубийства. Его похоронили наскоро в этот же день, никого не известив, не пустив горевестников по соседним селам, как это обычно делается.
Через сорок дней отец устроил поминки. Поминали сразу обоих. Похоронили их, конечно, рядом.
Я никогда не видел ни Айши, ни Теймраза, но иногда, мне кажется, трагедии близких доходят до нас как бы в затихающих колебаниях безотчетной грусти.
Только глупец может подумать, что я славлю самоубийство, но чего бы стоили слова о человеческой дружбе, человеческой верности и любви, если б время от времени они так грозно и чисто не насыщались настоящей кровью, кровью, которая и в те времена подлецам казалась старомодной.
___________________________________________
(Перепечатывается с сайта: http://lib.ru.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
