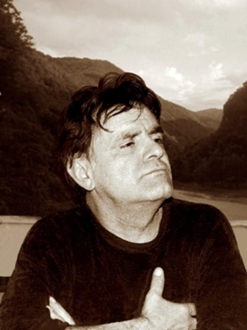
Об авторе
Искандер Фазиль Абдулович
(6 марта 1929, Сухум - 31 июля 2016, Москва)
Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения. Родился в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. В 1938 г. отец писателя был депортирован из СССР. Воспитывался родственниками матери-абхазки. Окончил русскую школу в Абхазии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный институт в Москве. После 3 лет обучения перевёлся в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в 1954 году. Работал журналистом в Курске и Брянске. В 1955 году стал редактором в абхазском отделении Госиздата. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов начал печататься в журнале «Юность». Известность к писателю пришла в 1966 г. после публикации повести «Созвездие Козлотура». Автор романов «Сандро из Чегема», «Человек и его окрестности»; повестей: «Стоянка человека», «Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура», «Софичка», «Школьный вальс или Энергия стыда», рассказов: Тринадцатый подвиг Геракла, «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и других произведений. Искандер-прозаик отличается богатством воображения. Искандер предпочитает повествование от первого лица, выступая в роли явно близкого самому автору рассказчика, охотно и далеко отклоняющегося от темы, который среди тонких наблюдений не упускает случая с юмором и критически высказаться о современности. В 1979 году участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 года. В 2006 году участвовал в создании книги «Автограф века». По произведениям Искандера сняты худ. фильмы: «Время счастливых находок», «Воры в законе» (1989), «Пиры Валтасара» (реж. Ю. Кара) и другие. Особое место в творчестве писателя занимают его худ.-публ., лит. и филос. статьи и эссе и многочисленные интервью, опубликованные в центральной российской и зарубежной прессе во второй половине XX в. Среди них: «Ценность человеческой личности», «Человек идеологизированный», «Поэты и цари» и др. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), III степени (1999) и IV степени (2009). 12.06.2014 президент РФ В.В. Путин вручил писателю Государственную премию РФ в области литературы и искусства.
(Источник текста и фото: http://ru.wikipedia.org.) |
|
|
|
|
Фазиль Искандер
Рассказы (часть 5):
СВЯТОЕ ОЗЕРО
Этим летом я жил с пастухами на альпийских лугах Башкапсара, в живописной котловине, огороженной справа и слева хребтами, тучными и зелеными у подножия, с аскетически костлявыми, скалистыми вершинами. Котловину прорезала горная речушка, довольно безобидная, если не обращать внимания на ее шум. Вдоль нее три пастушеских шалаша, упорно именуемых балаганами. В них-то мы и жили.
Если смотреть вверх по руслу, виден перевал. За перевалом озеро, которое пастухи называли святым. Святым его считали местные сваны, а им лучше знать, да и спорить с ними по этому поводу было бы не слишком осторожно.
Кроме того, по слухам, озеро само могло постоять за себя. Говорили, что если выпить из него воды — обрушится небывалый ливень, а то и град, а если попробовать выкупаться — живым не вылезешь.
— Как так не вылезешь?
— Ты вылазишь, а оно тянет.
— Кто тянет?
— Святая сила, сванский бог.
— Чепуха, — говорю, — вот выкупаюсь, и ничего не будет.
— Один выкупался. Залез живой, вылез мертвый.
— Может, плавать не умел?
— Какой-то русский. Турист, говорят... Плавать-то он плавал, да от судьбы не уплывешь.
В конце концов я решил доказать, что в этом озере не больше святости, чем в любом из нас. Погода в последние дни стояла неустойчивая, и я все откладывал поход.
И вот ясный солнечный день.
Накануне вечером прибежал в лагерь один из молодых пастухов, немного сумасшедший, как и все охотники.
— Медведь! — закричал он и, схватив свою одностволку, побежал обратно.
Через час мы услышали выстрел, а потом уже в темноте пришел и он.
— По-моему, уложил, — сказал он, опускаясь на лежанку, весь потный, трясущийся.
— Завтра с утра пойду с собаками.
Почему-то я был уверен, что все это охотничьи бредни, и на следующий день, не дождавшись его прихода, стал собираться в дорогу.
Пастухи весело отговаривали меня, скорей всего чтоб подзадорить. Я думаю, они были не прочь устроить небольшую идеологическую потасовку, полюбоваться на нас и в конце концов присоединиться к той стороне, которая возьмет верх.
В качестве судьи или летописца со мной отправился здоровенный парень, на редкость ленивый, добродушный и наивный. Звали его Датуша.
Этой весной, неторопливо учась в седьмом классе, он узнал, что осенью ему идти в армию. По этому поводу мать разрешила ему бросить школу, чтобы мальчик успел отдохнуть перед военной службой. С этой же целью его направили сюда на альпийские луга, чтобы тут он уже окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому что в России, по слухам, не то что горного воздуха, но и самих гор, пожалуй, не отыщешь.
Датуша был типичным деревенским пижоном. В отличие от своих городских собратьев он, по-видимому, не стремился прожигать жизнь или получать там какие-то запретные удовольствия. Единственное, к чему он стремился, — это быть чистым и неподвижным. В хорошую погоду он выходил после завтрака на луг, усаживался на камне, подтянув брюки и открыв Главному Кавказскому хребту великолепные красные носки. Так и сидел целыми днями, время от времени стряхивая с брюк вымышленные пылинки. В плохую погоду он сидел у костра, часами слушая хозяйственные притчи старых пастухов. Примерно через день он спускался к речке и с мылом тщательно промывал свою барашковую голову в ледяном потоке. Менингит ему явно не угрожал.
Меня слегка раздражало его безмятежное безделье, возможно, я в нем почувствовал опасного конкурента. И все-таки на него было трудно обижаться. Он был большой и добродушный, как альпийский одуванчик.
Не могу удержаться, чтобы не рассказать, как я его недавно разыграл. Я привез с собой мыло в виде зеленой лягушки, странный плод парфюмерной фантазии. Как-то заметив его, Датуша сделал такие глаза, что я не удержался и сказал:
— Альпийская лягушка. Ядовитая, — добавил я, и он отдернул протянутую руку.
Несколько дней мы морочили ему голову этой лягушкой, и он приходил к нам в шалаш — все хотел посмотреть, как мы ее кормим. В конце концов, узнав, в чем дело, он не обиделся и даже не разочаровался.
— Чего только в наш век не придумают! — сказал он солидно. — Спутники запускают, а теперь стали лягушек делать из мыла.
Потом он попросил меня испробовать мыло на деле и пошел на речку мыть голову. Такой уж он был добродушный, обидеть его было невозможно. Да, пожалуй, и не нужно.
И вот мы подымаемся к перевалу вдоль русла реки все выше и выше. Казалось до перевала не больше двух-трех километров, до того отчетливо он виделся вдали. Но слишком большая ясность тоже бывает обманчива.
Через час мы хрустели по фирновому снегу. Речка уменьшалась на глазах. Она питалась этим снегом. Мы подошли к сплошному заносу, сквозь который пробивалась наша речка, теперь уже совсем ручей. Он просверлил в снегу тоннель, и, слегка пригнув головы, мы вошли в него. Мы очутились в белом коридоре, потолок которого пропускал солнечный свет, смягченный толщею снега. Кое-где снег протаял под солнечным теплом, и в отверстиях победно сияли синие кусочки неба.
Журчанье и бульканье под ногами, радостная белизна снега — это был путь вечной несмолкающей весны. Мы шли, осторожно переступая с камня на камень, стараясь не задевать головой хрупкий белоснежный свод. Вышли у самого перевала. Здесь снег опять кончился и зеленела трава.
— Сейчас будет озеро, — сказал Датуша и стал вытирать о траву свои туфли. Я почувствовал нетерпенье и стал выбираться на гребень перевала, не дожидаясь его. Сердце гулко стучало. Сказывалась высота. Горячий и сухой воздух с внезапно натекающими струями холодного дыхания ледников. Я вышел на перевал. Внизу под крутым обрывом лежало озеро.
Я взглянул на него и ощутил тихое и глубокое изумление. Мне показалось невероятным, что за мгновенье до этого я не видел и не чувствовал, что рядом лежит такое чудо.
Казалось, это не вода, а какая-то первозданная голубизна, огромный сгусток кристаллического воздуха, вправленный в землю.
Оно лежало прямо подо мной, окруженное нежной и курчавой, как шерсть животного, травой. Недалеко от берега из воды высовывалась небольшая гряда оранжевых скал, четко, как в бинокле, отраженная в воде. Большие ломти снега, так же четко отраженные в воде, легко стояли на ней.
А над озером и над лужайкой, справа и слева — навороченные друг на друга глыбы, отроги гор и хребты. Окаменевший, но все еще рвущийся вверх хаос борьбы за высоту, за небо.
А здесь это тихое озеро, и тихая лужайка, и смирившиеся камни, по горло погруженные в воду, и крупные ломти снега, забывшего таять, прислушивались к чему-то тихому, вечному.
Я оглянулся. Датуша стоял рядом со мной. Я не заметил, как он подошел. Мне захотелось поскорее спуститься к озеру.
— Как же мы спустимся? — спросил я у Датуши, не находя места, удобного для спуска.
— Должна быть тропинка, — сказал он, озираясь. Так ищут глазами собаку, которая только что была здесь и вдруг куда-то запропала.
Тропы нигде не было видно.
— Напрасно мы влезли в снег, — сказал Датуша, — надо было не сходить с тропы.
Мы походили по краю обрыва, но ничего похожего на тропу не было видно. Мы стояли на небольшой площадке, зажатой справа и слева отвесными скалами. Видно, вышли к озеру не на том месте. Надо было спускаться вниз и искать тропу или взбираться на скалы и идти по ним до тех пор, пока не найдется более или менее подходящего места для спуска. В конце концов мы решили разделиться. Я буду идти по скалам, огибающим озеро, он вернется назад искать тропу. На всякий случай мы решили изредка перекликаться.
Я стал карабкаться по скальному выступу. Если смотреть со стороны, кажется, что по такому крутому склону не подняться. На самом деле на нем обычно много щелей, бугорков, трещин. Иногда кусты. Цепляешься, прижимаешься боком, ставишь ногу, подтягиваешься на руках и постепенно взбираешься все выше и выше. Чем трудней подъем, тем сладостней ощущение устойчивости сделанного шага, благодарности земле за ее добрую шероховатость. Хочется расправить куст рододендрона с химически фиолетовым цветком, который помог тебе подтянуться и сделать решительный шаг, или потрепать по шее неожиданный выступ, так славно подвернувшийся тебе.
Но, бывает, попадается мертвое пространство и так долго стоишь на одном месте в неудобной позе и никак не сообразишь, как одолеть его. Не за что зацепиться.**(пропуск 2-х страниц текста)
вспышку боли во всем теле, и вспышку удивления, но не силе удара, а его одушевленной злости, непонятной жестокости. И вместе с этим толчком и болью я понял, что перелетел через траншею, а не завалился в нее, как ожидал. И эта боль, как удар электрического заряда, оживила меня. Я почувствовал, что руками, ногами, животом и даже подбородком стараюсь зацепиться, втиснуться, удержаться на жестком, обжигающем, беспощадно рвущемся из-под меня снежном насте.
Потом я ощутил, что скорость падения уменьшилась. Я мог в какой-то мере управлять своим телом. Теперь мне удавалось удерживаться в сидячем положении. Стараясь не налететь на обломки скал, я изо всех сил на ходу отгребал руками.
Но вот я остановился. Вернее, тело мое остановилось. Я встал на ноги и почувствовал, что весь трясусь, особенно дрожали ноги. Живот туго стянуло спазмой.
Теперь склон был совсем пологий и озеро стояло близко. Я шагнул и снова полетел вниз. Это была насмешка над моим первым падением, ее замедленным повторением. Я снова вскочил на ноги и снова шлепнулся на снег. Я понял, что от напряжения, страха и всего пережитого меня просто не держат ноги. Я сел на снег и, отталкиваясь руками, с истерической яростью заскользил вниз. Поверхность снега стала совсем ровная. Я встал и пошел по снегу, а потом по траве к самому озеру.
Меня пошатывало, но я чувствовал неодолимый прилив сил, злорадную жажду мести. Я чувствовал, что меня хотели убить, убить подло, из-за угла, без всякого повода и предупреждения.
"Эти сволочи хотели меня убить", — не то подумал, не то сказал я вслух. "Но это им не удалось", — добавил я, скидывая с себя на ходу лыжную куртку.
"И не удастся", — закончил я свою мысль и, скинув рубаху, подошел к воде. Видимо, я имел в виду озеро и его обитателей.
Я снял брюки и, оставшись в одних трусах, хотел было войти в воду, но вдруг решил, что этих сволочей нечего стесняться, и скинул трусы. Действовал я в каком-то опьянении, но и с некоторой логичностью пьяного хитреца.
Глубокая, заколдованная вода стояла передо мной. Я хотел было сначала броситься в нее с головой, но потом нашел глазами мелкое место и полез в воду. Вошел в нее по пояс и, на мгновение присев, окунулся с головой. Обжигающий, ледяной кипяток сковал дыхание, и я, как подброшенный, выскочил из воды и потом, переводя дыхание, несколько раз окунулся в воду, покамест мое тело не привыкло к холоду. Потом я поплыл и, проплыв шагов десять в глубь озера, вернулся назад. Я честно выполнил условие, моя победа была полной и безоговорочной. Все-таки я решил дать им еще один шанс и снова окунулся в воду и проплыв такое же расстояние, вылез на берег.
Вода отрезвила меня. Я успокоился. Чтобы погреться, я влез на большой камень, стоявший на берегу, и прилег. Было приятно ощущать тепло разогретого солнцем камня, пахнущего мохом и солнцем — запах древности и молодости. И глядеть на спокойную гладь озера с легкими глыбами снега, на курчавую лужайку, на оранжевые и лиловые в тени скалы, стеной стоящие на противоположном берегу. Тело мое наполнялось теплотой и спокойствием, как зреющий плод, и я старался не шевелиться, чтобы не вспугнуть это редкое ощущение. "Хорошо бы остаться здесь на всю жизнь", — спокойно и неожиданно подумал я.
Только теперь я заметил, что от озера исходит тихий, несмолкающий шорох. Слышать его было странно, потому что поверхность воды была совершенно неподвижна и не было видно ни одного ручья, который бы втекал в озеро. Шорох подымался от всей поверхности воды и чем-то напоминал треск нарзанных пузырьков, если черпать воду прямо из источника. По-видимому, со дна озера били тысячи ключей, и, хотя расшевелить его поверхность они не могли, звук пробивался сквозь густо-голубой кристалл воды. Все-таки слышать этот шорох было загадочно, потому что глаз привык связывать звук воды с ее движением.
— Эй! — услышал я голос Датуши. Я поднял голову и увидел его высокую стройную фигуру на краю скалистого уступа по ту сторону озера. Он стоял гораздо правее и ниже того места, где мы с ним разошлись. Я махнул рукой, и он стал спускаться, лавируя между скалами. Было слышно, как изредка из-под его ног осыпаются камушки и, отчетливо перещелкиваясь, падают вниз.
Тропы не было видно. Я пытался угадать ее по форме поверхности скал, но мне не удавалось: Датуша делал неожиданные и необъяснимые издалека зигзаги. Когда он приблизился, я неохотно встал со своего места и начал одеваться.
— Я видел, как ты летел с ледника и как ты купался, — радостно сказал он, подходя ко мне. — Разве можно по леднику идти без палки! — добавил он, как будто я нарушил всем известную инструкцию хождения по ледникам.
— Что ж ты не спускался, если так давно там стоял? — спросил я. Мне было неприятно, что он следил за мной, хотя и приятно, что он все видел.
— Я хотел узнать, что с тобой сделает озеро, — сказал он просто.
— Неужели ты веришь в эти сказки, а еще в армию идешь? — сказал я.
— Внизу-то я не верю, но здесь, кто его знает, земля необжитая, — объяснил Датуша, немного подумав.
Он снова протер туфли о траву и взобрался на камень, на котором я сидел, как будто поднялся в дом. Теперь он сидел на камне и мирно следил за мной, пока я выжимал мокрые от снега рубашку и брюки.
— Может, пойдем к сванам, там Валико, — сказал он, выждав, пока я оденусь.
Валико — заведующий фермой — маленький, худой, издерганный животноводческими заботами человек. За последнее время отношения с пастухами у него несколько осложнились. Председатель приказал высчитывать из трудодней пастухов стоимость выпитого молока по слишком высоким, почти городским ценам. И хотя никто не мог проверить, сколько пастухи пьют молока и никто их в этом не ограничивал, да и не мог ограничивать, сама эта мера на бумаге выглядела солидно. Она доказывала вышестоящим лицам, что в хозяйстве колхоза ведется строгий учет.
— А что он там делает? — спросил я.
— Кто-то скот пригнал на наши пастбища. Пошел узнать.
— А далеко?
— Отсюда видно, — сказал Датуша и слез с камня. Я посмотрел на озеро и подумал, что несколько минут тому назад хотел остаться здесь на всю жизнь, но не пробыл и часа.
Мы обогнули его и вышли на обрывистый край лужайки.
Под нами расстилалась большая, зеленая, плавно уходящая ложбина с рыжими и черными пятнами пасущихся коров, со светлой зеленью травы и темной зеленью пихт, как сказочные витязи, стоящих на краю ложбины. Между стволами пихт виднелось бревенчатое строение.
Мы спустились в ложбину по крутой тропе, терпеливо петляющей между скалами.
Мы прошли под пихтами и вышли на лужайку, где стоял сванский дом, сложенный из золотистых тесаных бревен невероятной толщины. Рядом с домом стоял такой же сарай. Казалось, строения были выдержаны в каком-то неведомом богатырском стиле. К углу дома была привязана маленькая сванская лошадь.
Вошли в дом. В большой светлой комнате с ярко пылавшим очагом сидело несколько мужчин. Среди них был и наш Валико.
Мужчины встали и поздоровались с нами, не особенно удивляясь нашему приходу.
Пожилой широкоплечий сван что-то сказал женщине, стоявшей у окна с веретеном. Я сначала ее не заметил. Она что-то сказала в другую смежную комнату, и оттуда вышла совсем юная девушка с глазами большими и темными, как колодцы. Она вынесла два стула и, оглядев нас с любопытством, довольно смелым для этих мест, ушла в другую комнату.
— Как попали? В чем дело? — быстро и тревожно спросил Валико, и на его худом лице задвигались желваки.
— Он купался в озере, — сказал Датуша, глупо улыбаясь, как будто он привел меня сюда показывать сванам.
— В самом деле? Расскажите, как было, — оживился Валико. Он явно ждал худших вестей. Он подмигнул сванам: дескать, подождите и узнаете кое-что забавное. Мы говорили по-абхазски, поэтому они нас не понимали.
Я ему рассказал, как было дело, невольно входя в роль городского чудака. Пока я говорил, сваны вежливо молчали. Их было трое. Пожилой, широкоплечий, видимо хозяин, молодой парень, обесцвеченный городской одеждой, и старик со свирепым бельмом на глазу. Старик сидел с краю поближе к огню, держа неподвижно вытянутую ногу на посохе. Так раненые держат ногу на костыле.
— Ну и как, на дно не тянуло? — спросил Валико.
— Нет, — сказал я, — только вода была очень холодная.
— Конечно, очень холодная, — подтвердил Валико, как бы радуясь, что предупреждение пастухов отчасти сбылось.
Он повернулся к сванам и стал переводить им по-грузински мои слова. Говорил он по-грузински довольно плохо, так что я почти все понял. По его словам, мое купание в озере было похоже на борьбу Давида с Голиафом. Ему хотелось польстить сванам. Все-таки это было их озеро. Сначала я немного боялся, что они обидятся на меня за то, что я нарушил грозное поверье. Но потом я заметил, что никто не обиделся. Они почти одновременно заговорили между собой гортанным орлиным клекотом, поглядывая на меня и прицокивая. Потом хозяин перешел на грузинский язык и что-то сказал Валико.
— Он спрашивает, зачем ты полез в озеро, — сказал Валико, давая знать, что сам он только из вежливости присоединяется к любопытному хозяину.
— Просто так, — сказал я.
Сваны усмехнулись, а старик с бельмом что-то сказал, и все трое рассмеялись.
— Он говорит, что ты хотел поймать сванского бога, — перевел Валико.
— Нет, нет, — сказал я по-русски, обращаясь к старику, и замахал рукой.
— Да, да, — неожиданно сказал старик по-русски. Сваны опять рассмеялись. Старик еще что-то сказал, после чего сваны вовсе расхохотались.
— Он говорит, что сванский бог работает на лесозаготовках, — перевел Валико.
В дом вошла женщина лет тридцати и быстро прошла в другую комнату. В руках она держала деревянную миску с мукой. Было слышно, как она тихо переговаривается с девушкой. Потом послышалось равномерное шлепанье ладоней о сито.
Хозяин и сваны, о чем-то переговаривались между собой. Женщина, которая все это время молча стояла у окна, оставила свое веретено и вышла из дому. Она вышла во двор, и в открытую дверь было видно, как она подошла к кольям, на которых сушились сванские шапочки, видимо изделие ее рук. Она примерила каждую шапочку и, наверное, решив, что они еще не досушились, снова повесила их на колья. Было что-то странное в том, как она примеряла эти шапочки, может быть, то, что она это делала без привычного для глаз женского кокетства. Она их примеряла с той отвлеченной безразличностью, с какой крестьяне примеряют топор к топорищу.
— Это старшая жена хозяина, — сказал Валико, заметив, что я слежу за ней. — Удивительная женщина...
— Почему?
— В прошлом году она здесь осталась одна. Неожиданно пошел снег и перекрыл все дороги. Они живут в деревне, а это их летний дом. Снег шел несколько дней подряд и завалил дом до самой крыши. Она одна просидела в этом доме сорок дней, пока не ударили морозы.
— Сорок дней не всякий мужчина выдержит, — добавил Валико, как бы намекая, что если и есть такие мужчины, то, во всяком случае, не в городе.
Женщина вошла в комнату и молча взялась за веретено. Кружащееся веретено медленно двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из большого клока шерсти, который она держала одной рукой. По мере того как спускалось веретено, она подымала руку все выше, чтобы вытянуть нить подлинней. Видимо, она догадалась, что Валико говорит о ней, потому что посмотрела на него и улыбнулась. И потом продолжала улыбаться, слушая его рассказ. Так улыбаются взрослые, слушая болтовню детей, в которой смещаются привычные взрослые понятия.
Я пытался себе представить эти сорок дней одиночества, когда вокруг ни одной живой души, только свист горной метели и мертвый шорох снега.
— Спроси, что она делала все эти сорок дней.
— Фуфайки вязала, — перевел Валико ее слова, и она продолжала все так же улыбаться, когда Валико переводил.
В комнату вошла девушка и, раздвинув головешки, нагребла жар и вбросила туда чугунную жаровню. Сзади к юбке ее прицепилась щепка. Девушка тряхнула юбкой, но щепка не отделилась. Так и ушла с этой щепкой на юбке в другую комнату.
— А почему она старшая жена? — спросил я у Валико, вспомнив его слова.
— У этого свана было три жены, — ответил Валико, сделав такое выражение лица, какое бывает у людей, когда они делают вид, что говорят о чем-то постороннем.
— Вторую жену ты видел, она приходила с мукой, а третья ему изменила, и он ее...
Женщина с веретеном, взглянув на огонь, что-то сказала в другую комнату, и оттуда опять вышла девушка с миской, на которой стопкой лежали сырые хачапуры. Она поставила миску с хачапуры на низенький стульчик, выволокла из огня жаровню, перевернула ее, так что посыпались искры. После этого она быстро протерла дымящейся тряпкой внутреннюю часть жаровни и шлепнула туда готовый хачапур. Она подставила жаровню к огню, приперев ее сзади низенькой колодой.
— Так что он ее? — спросил я у Валико, когда девушка вышла из комнаты, полыхнув глазами в нашу сторону. Зрачки ее глаз сверкнули, как сверкает вода в глубине колодца, если ее всколыхнуть. Девушка была очень хороша.
— Он ее выгнал из дому, но построил ей другой дом и иногда ходит к ней, — сказал Валико. — Он ее все еще любит, но уже женой не считает...
Из другой комнаты раздался сдавленный смех девушки. Я посмотрел в ту сторону и вдруг увидел в щели дощатой стены любопытствующий глаз. Через мгновение глаз исчез, и снова раздался смех. Потом она выскочила в нашу комнату, вывалила из жаровни шипящие жиром хачапуры и снова бросила перевернутую жаровню на огонь.
Вскоре хачапуры были готовы, и вторая жена хозяина застелила стол чистой скатертью, а девушка, взяв в руки кувшинчик с водой и перекинув полотенце через плечо, вышла из комнаты.
Мы вышли вслед за нею и стали мыть руки. Первым мыл руки старик, но прежде он вежливо предложил другим, особенно он предлагал мне, как самому дальнему гостю. После некоторых пререканий очередность была установлена, и мы все вымыли руки. Поливая Датуше, девушка отворачивалась, слегка закусив губу, чтобы не рассмеяться.
Было видно, что этому горному котенку надоело играть с клубком шерсти, но Датуша не обращал на нее внимания. Он мыл руки, вытянув их далеко вперед, чтобы не забрызгать брюки. Только теперь я заметил, что он хорошо выглядит. Подобно тому как можешь не замечать глупость красивой женщины, так можешь не заметить великолепия глупого мужчины.
— В школе учишься? — спросил я у девушки по-русски, подставив ладони под кувшинчик.
— Да, — сказала она, смущаясь, как я понял, нелепости вопроса, и добавила: — Десятый класс.
— Ого, — сказал я, — какая молодец!
— Умри, Датуша, эта девчонка тебя обставила, — сказал по-абхазски Валико, слышавший наш разговор.
Датуша добродушно хмыкнул.
— Неужели у них в деревне десятилетка? — спросил я у Валико.
— А как же, — сказал Валико, как будто десятилетняя школа на уровне альпийских лугов была обычным делом. — Они богатые, у них скот, скот, — добавил он, многозначительно подмигивая, словно намекая на то, что они что-то от кого-то прячут.
После мытья рук, одолев последнее препятствие к столу, все заметно повеселели. Старик, взглянув в мою сторону, что-то сказал, и сваны рассмеялись. Хозяин перевел Валико слова старика.
— Он говорит, чтобы ты завтра не купался в озере, а то пойдет дождь, а старику надо ехать к доктору, — перевел Валико.
— А что у него с ногой?
— С лошади упал, — сказал старик.
— Что, лошадь испугалась? — спросил я.
Сваны почему-то рассмеялись, когда Валико перевел им мой вопрос.
— Он говорит, что лошадь его не узнала, — сказал Валико.
— Как не узнала? — спросил я, чувствуя, что становлюсь назойливым и рискую попасться на розыгрыше. Мне все-таки хотелось узнать, как он упал с лошади.
Старик что-то быстро ответил, и сваны опять рассмеялись, и по смеху было видно, что они вспомнили что-то веселое.
— Слишком пьяный был, возвращался со свадьбы, — перевел Валико.
— Араки, уодка, уодка! — сказал старик энергично, давая знать, что такое дело он и сам может объяснить кому хочешь.
Мы ели жирные, сочащиеся, горячие хачапуры, и казалось, ничего вкуснее я в жизни не ел. Секрет кухни был прост — сыра в хачапурах было больше, чем теста. После обеда вымыли руки в том же порядке.
Пора уходить. Оказалось, что старик тоже уезжает в деревню. Это его лошадь стояла на привязи. Хозяин подвел ее к дверям. Старик прислонил палку к стене, взял из рук девушки камчу и, ковыляя, вышел во двор. Хозяин хотел ему помочь, но старик отказался от помощи и, плотно вложив ногу в стремя, спокойно перекинул тело через седло. Но тут хозяин все же не удержался и вложил его больную ногу в стремя.
— До свидания! — крикнула девушка по-русски, когда мы немного отошли. Я оглянулся, но она уже вбежала в дом. У дома стоял хозяин, озаренный уже по закатному золотящимся солнцем, стоял неподвижный, сильный, широкоплечий. Рядом с ним стояла его жена, такая же статная, как и он, и, не глядя в нашу сторону, продолжала свое бесконечное занятие. Вся ее сильная, спокойная фигура как бы говорила: гости приходят и уходят, а веретено должно кружиться.
Некоторое время мы шли молча, поспевая за лошадью старика. Чувствовалось, что он ее сдерживает. Она беспокойно вертела головой, стараясь освободить поводья. Старик несколько раз оглядывался и смотрел на нас рассеянным взглядом. Мне показалось, что он что-то хочет сказать.
Когда мы прошли пихтовую рощицу и вышли на развилье тропы, он остановил лошадь и начал что-то говорить. Валико сначала улыбнулся, а потом сделал серьезное лицо и несколько раз кивнул головой старику, пока тот говорил. И потом, когда Валико переводил мне его слова, старик внимательно смотрел мне в лицо, может быть, стараясь угадать, правильно ли я его понимаю.
— Он говорит: не думай, что они боятся озера. Им дедами завещано беречь такие места от порчи.
Я кивнул головой старику в знак того, что хорошо его понял, и старик ударил лошадь камчой, и она пошла быстрым шагом, время от времени пытаясь перейти на рысь.
Он ехал навстречу солнцу, и мы еще некоторое время видели его прямую спину над рыжим крупом лошади. А потом лошадь и всадник превратились в один стройный неразделимый силуэт, движущийся в сторону заходящего солнца.
И только когда мы выбрались к озеру и остановились передохнуть, околдованные его невидимым внутренним журчанием, я вдруг подумал о беззащитности его красоты и по-настоящему глубоко понял, что означали слова старика.
Мне вначале показалось, что, говоря о порче, он имел в виду сглаз или что-то в этом роде. Но то, что он сказал, было глубже и проще. Сваны хотели, чтобы красота этого озера навсегда осталась заповедной. Водяной же, или сванский бог, которого они когда-то поставили сторожить это озеро, теперь мало кого пугал. Люди стали догадываться, что ружье у сторожа не стреляет.
Я думал о пошлости, вечном браконьере красоты, о наивности, и о человеке, который, как буйвол, сам пашет и сам топчет.
Было уже темно, когда мы перешли перевал и медленно, Почти ощупью спускались к нашему лагерю. Луч карманного фонарика, который держал Валико, не мог сразу светить всем, и мы спускались осторожно, чтобы где-нибудь не сорваться. Но вот вышла из-за горы луна, и, хотя ее свет был не сильнее фонарика, он ложился всюду поровну, и идти стало намного легче.
Мы подходили к первому балагану, где жил Валико, и запах дыма был приятен, как голос любимого человека, которого давно не видел.
Еще издали нас встретили собаки, они кружились вокруг нас, радостно повизгивая и нетерпеливо забегая вперед. Казалось, они хотели сказать: посмотрите, что мы сделали, пока вас не было.
Мы подошли к шалашу, озаренному одиноким светом луны. На крыше балагана была распластана огромная медвежья шкура с передними лапами, свисающими над краем крыши. Из лап торчали когти, мертвые и жесткие, как гвозди. Я подумал, что когда этот медведь был жив, его когти были еще более мертвыми и жесткими.
Мы пришли как раз вовремя — пастухи ужинали. Нас усадили поближе к горящему костру.
________________________________________
МАЛЬЧИК-РЫБОЛОВ
Мальчик ловил рыбу с пристани. Я сразу заметил его живую фигурку среди малоподвижных старых любителей, которые, казалось, пытались и никак не могли наладить своими лесками телефонную связь с удачей.
Мелкая колючка быстро склевывала наживку, и мальчик то и дело вытягивал шнур, снова наживлял крючки и забрасывал снасть, стараясь закинуть ее подальше от пристани. Вскоре у него кончились рачки, на которые он ловил рыбу, и он попросил наживку у одного из рыбаков. Тот хмуро посмотрел на него и протянул небольшую рыбешку. Мальчик быстро распотрошил ее, выскоблил ровные кусочки мяса и снова наживил свои крючки. Он ловко забрасывал шнур и с артистической непринужденностью тащил его наверх. Видно было, что он рыбачит не первый день.
Наконец он подсек рыбу и стал быстро вытягивать, сверкая темными прислушивающимися глазами.
— Что-то хорошее идет, — сказал он мимоходом, заметив, что я за ним слежу.
Из воды высверкнуло широкое плоское тело ласкиря. Это был крупный ласкирь, с хорошую мужскую ладонь. Мальчик даже слегка покраснел от удовольствия. Он выбрал леску и осторожно, чтобы не запутаться, отбросил в сторону ее рабочую часть. Рыба забилась о пристань. Мальчик прижал ее ладонью и вырвал крючок.
Рыбаки с завистливым равнодушием следили за ним. В этот день рыба у всех плохо ловилась.
Мальчик подхватил ласкиря за хвост и передал его тому рыбаку, у которого брал наживку. Тот стал отказываться, уж слишком высок был процент за одолжение. Но мальчик решительно бросил рыбу возле него и вернулся на свое место. Ласкирь неожиданно забился и стал передвигаться к краю пристани. Тогда рыбак взял его и сунул в корзину как бы для того, чтобы он не упал в море.
У мальчика шнур зацепился за сваю, и он стал освобождать его, раскачивая из стороны в сторону. Леска никак не отцеплялась. Мальчик лег на причал и, вытянув руку, ухватил шнур ближе к тому месту, где он зацепился. Он держал шнур на самых кончиках пальцев, стараясь быть поближе к тому месту, где зацепился шнур. Конец шнура, намотанный на плоскую деревянную катушку, лежал у него за пазухой. Пока он ерзал, свесившись с пристани, катушка выскочила у него из-за пазухи и полетела в море. Он бросил шнур и попытался поймать ее рукой, но катушка отскочила от пальцев и шлепнулась в воду. Теперь шнур держался только на свае.
Мальчик встал, поглядел по сторонам и, видимо, не найдя более подходящего помощника, обратился ко мне:
— Дядя, подержите меня за ноги, а я сниму шнур.
— Не боишься упасть?
— Не, я не упаду.
— Плавать умеешь? — спросил я на всякий случай, хотя был уверен, что он плавает.
— А как же, — сказал он и, просунув голову между железными прутьями барьера, заскользил вниз. Я поддерживал его сначала за рубашку, потом за штаны, но штаны быстро кончились, потому что они были только до колен, и крепко уцепился руками за его скользкие, гибкие лодыжки. Тело у него было легкое, как у птицы.
— Подымайте! — крикнул он через некоторое время. Мне не было видно, достал он шнур или нет. Я осторожно вытянул его наверх.
— Унесло, — сказал он, вставая и отряхиваясь. Катушка медленно отходила от пристани. Грузило задерживало ее ход, но течение все же было сильней. Пока мы с ним возились, волна сдернула шнур, и вся снасть оказалась в море.
Мальчик некоторое время следил за ней, потом махнул рукой.
— У меня другая закидушка есть, лучше, — сказал он, стараясь унизить упущенную снасть. Он достал из карманчика, застегнутого на пуговицу, запасную. Шнур был намотан на пробковую катушку. Мальчик размотал шнур в воду, стараясь быть подальше от сваи, и, когда грузило достигло дна, отпустил шнур еще на несколько метров и сунул катушку за пазуху. Загорелый кулачок его юркнул под рубашку, как зверек в нору.
Он стоял в независимой позе и делал вид, что не следит за катушкой упущенной снасти, которая все еще была на виду.
— Если бы эта моталка упала, — он хлопнул себя по груди, — я бы поплыл за ней. А ту не жалко.
Через некоторое время, когда мимо пристани проходила лодка, он сказал:
— Может, попросить их достать?
— Попробуй, — сказал я.
— Э, не стоит, — ответил он, подумав немножко, — грузило тоже слишком легкое. Черт с ней!
У него начало клевать, и он стал внимательно прислушиваться к леске. Потом быстро подсек и стал выбирать. Большой ржавый ерш висел на последнем крючке. Мальчик выхватил катушку из-за пазухи, прижал ею ерша и осторожно, чтобы не уколоться, высвободил крючок. Кулак его с зажатой катушкой опять юркнул за пазуху.
Ерш лежал, подрагивая, похожий на маленького злого дракона во всем великолепии безобразного оперения.
— Пригодится на уху, — сказал мальчик, объясняя, почему возится с такой некрасивой рыбой. Он снова забросил шнур и стал искать глазами упущенную снасть. Дощечка катушки еле заметно желтела метрах в пятидесяти от пристани. Течение уносило ее все дальше и дальше.
— Смотри, возле буйка, — сказал я.
— А, черт с ней, — сказал он. — Крючки тоже плохие. Только леску жалко.
— Я тебе дам леску, — сказал я, чтобы он успокоился.
— А у вас есть 0,3?
— Нет, — сказал я, — но у меня есть 0,15.
— Слишком тонкая, — сказал он. — Не импортная? — неожиданно добавил он.
— Нет, — говорю, — ленинградская.
— Ленинградская хорошая, — сказал он поощрительно. — Она тоже импортная.
Перед заходом солнца клев улучшился, и он до вечера поймал еще трех ласкирей, две барабульки, одну ставриду и полдюжины колючек.
— Это что, — сказал мальчик, насаживая на кукан свой улов, — я больше ловил. Я все рыбы ловил. Только петух еще не попадался. А вам петух попадался?
Я сказал, что и мне петух не попадался.
— Ничего, еще попадется, — сказал мальчик, чтобы успокоить меня. За себя он был уверен.
Уже вечерело. Мальчик смотал свою закидушку, тщательно протер крючки о штаны, тряхнул кукан, чтобы увериться, что рыбы хорошо держатся, и мы пошли. Мы с ним договорились, что в следующее воскресенье выйдем в море на моей лодке.
— У нас тоже была лодка, — сказал мальчик, — только утонула.
— Как так? — спросил я.
— Она была не настоящая, — признался он. — Брат ее сделал из старых досточек. Но она была как настоящая, только потом утонула... Мы с братом ловили рыбу напротив дока. И увидели глиссер. Он гнался за нами.
— Почему?
— Я же сказал, лодка была не настоящая. На такой лодке не разрешают ловить рыбу. Когда мы увидели глиссер, брат закричал: "Давай, Павлик, сматывай шнуры!"
Я начал сматывать шнуры, а он начал выбирать якорь. Он так перегнулся, что в лодку стала набираться вода, и она стала тонуть. Мы сначала сидели в лодке, а потом встали, но она все равно тонула. Мы на ней стоим, а она тонет. Уже вода по шейку. Тогда брат сказал: "Плывем, Павлик!" И мы поплыли к берегу. Надо было рубить якорь, но нам было жалко веревку, потому что это была мамина веревка для белья.
— А глиссер?
— Они нас не догнали. Мы убежали. Потом мы спрятались у тети Мани в огороде. Вы не знаете тетю Маню?
— Нет, — сказал я.
— Мы спрятались у тети Мани, и они нас не нашли.
— За что все-таки они хотели вас поймать? — снова спросил я у него.
— Так я же сказал, что лодка была не настоящая. Без паспорта. На такой лодке можно утонуть, а за это полагается штраф.
— А брат у тебя большой? — спросил я.
— Еще бы, он учится в шестом классе. Он начал рыбачить еще в Казахстане. А я только три года как рыбачу. А вы были в городе Казахстан?
— Казахстан не город, а республика, — сказал я.
— Нет, город, — возразил мальчик. — Я знаю, я же там родился.
Воспоминания о Казахстане, видно, возбуждали его. Он обгонял меня и заглядывал в лицо, полыхая напряженными глазами на чумазом большеротом лице.
— О, у нас в Казахстане был такой замечательный дом! Здесь нет такого красивого дома, — он махнул рукой в сторону гостиницы и всех прибрежных домов.
— Где вы его взяли? — спросил я.
— Сами построили, — сказал он гордо. — Папа и дедушка строили, а брат помогал. Но это другой брат, он сейчас в армии. Папа и дедушка строили, а он носил из леса прутики...
— Какие прутики? — спросил я, уже вовсе ничего не понимая.
— Ну, прутики. Знаете, такие маленькие-маленькие деревья..
— Значит, из них вы строили дом?
— Нет, еще были коровины лепешки с глиной, — сообщил он доверительно. — А прутики были внутри. И доски тоже были. У нас был самый красивый дом в Казахстане...
Мы шли по прибрежной улице. Мальчик не переставая рассказывал о своих братьях, отце, дедушке. Они были самые ловкие, самые сильные и самые умелые люди на свете. Рассказывая, он успевал оглядеть все вывески, витрины магазинов, встречных собак.
— Это немецкая овчарка, — говорил он, прерывая свой рассказ. — А это бульдог, а это дворняжка...
Он смело проходил мимо бродячих собак, ничуть не сторонясь, как храбрый мимо храбрых. Чувствовалось, что он смотрит на собак, как на зверей, может быть, и опасных, но все-таки из своего мальчишеского царства.
Какой-то мальчик, заметив моего спутника, разогнался с воинственным воплем: "Попался, гречонок!" Но в последнее мгновение, видимо заметив, что тот не один, развернулся и пробежал мимо, как будто бежал по каким-то своим надобностям. Павлик не только не испугался, но даже и не посмотрел в его сторону.
Я решил выпить турецкого кофе и угостить мальчика конфетами. Мы зашли в летнюю кофейню, уселись за столик, и я заказал два кофе. Конфет не оказалось, и я решил купить их где-нибудь в другом месте.
— Папа говорит, что всю жизнь положил на этот дом, — сказал мальчик, оглядевшись и быстро освоившись с новым местом.
— Почему? — спросил я, хотя этот казахстанский дом начинал мне надоедать.
— Потому, что ему на ногу упало бревно, и он заболел. Мы думали, что он умрет, но умер дедушка. А папа живой, только ему отрезали ногу.
Официантка принесла две чашки кофе. Становилось прохладно, поэтому кофе было особенно приятно пить. Но мальчик наотрез отказался от кофе.
—Что я, старик, что ли, —сказал он с достоинством, — такой кофе пьют только старики...
Старик с четками, сидевший за соседним столиком, посмотрел на нас и улыбнулся. Потом он обратил внимание на кукан с рыбой. Он смотрел на рыбью гроздь, как на детские четки.
— Отчего умер дедушка? — спросил я, потому что понял: он должен, так или иначе, рассказать свою историю.
— У него разорвалось сердце, — сказал мальчик. — Ему было так жалко папу, что он всю ночь плакал, а потом у него разорвалось сердце...
— Откуда вы узнали, что он плакал всю ночь? — спросил я, не знаю почему. Может быть, мне хотелось, чтобы вся эта история оказалась его выдумкой.
— Так у него утром вся подушка была мокрая. Он думал, что папа умрет, и ему было очень жалко папу.
Я вспомнил своего школьного товарища. Он тоже тогда уехал в Казахстан, и я о нем с тех пор ничего не слышал. Обычно переселенцы из одних мест старались, если это было возможно, держаться вместе. Я подумал, что, может быть, мальчик о нем что-нибудь знает или слышал.
— А он рыжий? — спросил мальчик, выслушав меня.
— У него отец каменщик, — сказал я. — Твой же папа тоже каменщик?
— А он с усами? — спросил мальчик настороженно. На этот вопрос я ему не мог ничего ответить. Когда его увозили, он был вообще безусый.
— Мой папа не любит усатых, — сказал мальчик. — Он больше всего на свете не любит усатых.
— Почему?
— Не знаю, — сказал мальчик, радуясь моему удивлению и сам радостно удивляясь. — Так он добрый, но усатых не любит... Он даже с ними не здоровается на улице. Папа говорит всем нашим знакомым: "Если вы меня уважаете, не носите усы!" И никто не носит, потому что все уважают папу.
— Но почему же он не любит усатых?
— Не знаю. Он нам не говорит почему. Не любит, и все. Брат мой, когда приезжал из армии, имел усы. Он не хотел их отрезать. Но потом он уснул, и папа отрезал ему один ус, другой не успел, потому что брат проснулся. Если б ему кто-нибудь другой отрезал ус, он бы его одной рукой убил на месте. А папе он ничего не мог сделать, поэтому сам отрезал себе второй ус. Но все равно было видно, что у него были усы. Потом, когда мы обедали, папа ему сказал: "Выпьем за твои усы". А мама сказала: "Лучше выпейте за то, чтобы он жив-здоров домой воротился". — "Нет, — сказал папа, — мы выпьем за его бывшие усы". Они выпили, и брат совсем перестал сердиться на папу, потому что в армии он стал человеком.
Расплачиваясь за кофе, я случайно вытащил вместе с мелочью ключ от лодки. Когда официантка отошла, мальчик спросил:
— Что это за ключ?
— От лодки.
Он рассмотрел ключ и разочарованно вернул. Ключ был ржавый и старый.
— Если бы у моего папы был такой ключ, он бы его выкинул в море...
— А кто твой папа?
— Он чистильщик, — ответил мальчик. — Он работает возле Красного моста, у него очень хорошее место. До этого он работал сторожем в военном санатории, но его оттуда выгнали, потому что кто-то ночью вошел в клуб и украл красную скатерть со стола. Папа не был выпивши и не спал, но начальник ему не поверил...
Но тут мы подошли к лоточнику, и мальчик, неожиданно перескакивая на более приятную тему, предупредил:
— Здесь плохие конфеты.
Конфеты были и в самом деле неважные, самые дешевенькие.
Мы вошли в кондитерскую. В буфете под стеклом рядами стояли пирожные, розовые, сочащиеся, с кремовыми финтифлюшками. Мальчик притих и уставился на витрину: так смотрят сухопутные дети на аквариум с разноцветными рыбками.
— Выбирай, — сказал я ему.
Он вздрогнул и улыбнулся застенчивой, милой, ждущей чуда улыбкой.
— Не надо, — сказал он и остановил руку, которая сама потянулась к тому месту витрины, где лежали пирожные с самым пышным слоем крема.
Я заставил его выбрать два пирожных.
— Кто он вам? — спросила буфетчица и проницательно посмотрела на мальчика.
— А что? — сказал я.
— Ничего, — ответила она и положила пирожные в тарелку.
Я заказал кофе с молоком, и мы уселись за столик. В кондитерской он чувствовал себя не так уверенно, как в кофейне. Может быть, потому что кофейня была под открытым небом. Он не знал, куда деть рыбу, и, наконец, осторожно уложил кукан на колени. Казалось, он хотел иметь как можно меньше точек соприкосновения с предметами кондитерской: сидел на краешке стула, кусал пирожное и прихлебывал кофе, стараясь не притрагиваться к столику.
Официантка разносила чебуреки, и, когда запах жареного дошел до нас, я понял, что надо заказать еще пару чебуречин. Надо было начинать с них, но и в этом порядке было видно, с каким удовольствием он ест. Я заказал ему еще стакан кофе.
Я глядел, как он ест, и вспомнил, как однажды в детстве тетка привела меня в кондитерскую. Мы ели кулич и запивали таким же кофе с молоком. Тетка была с подругой, и я решил, что по законам приличия надо от чего-нибудь отказаться. Я отказался от второго стакана кофе, хотя мне хотелось выпить еще один стакан. Сейчас даже трудно представить, до чего мне хотелось выпить еще кофе с молоком. Но я отказался, и отказ мой был принят легко и даже, как мне показалось, облегченно, поэтому я не решился попросить еще один стакан. Кулич был очень вкусный, но есть его без кофе тоже было почему-то неприлично. Мне пришлось старательно растягивать свой стакан кофе, чтобы его хватило на весь кулич.
Когда мы вышли с мальчиком на улицу, было уже совсем темно, и я решил проводить его до автобусной остановки.
Всю дорогу он мне рассказывал какую-то бредовую историю, где эпизоды армянской резни в Турции перемежались с действиями партизан во время Отечественной войны. Я запутался и устал, пытаясь уловить смысл в его рассказе. Мне показалось, что он слегка опьянел от кофе. Видимо, он импровизировал свой рассказ. Так как до автобусной остановки было не очень далеко, он спешил, как бы торопясь полностью расплатиться за этот вечер.
В следующее воскресенье погода испортилась, и мы не встретились. С тех пор я его видел только один раз и то с моря. Я проходил на лодке недалеко от пристани. Он там рыбачил. Узнав меня, он помахал рукой и побежал, провожая лодку до самого конца пристани. Я его не взял в лодку, потому что пристань не имела лодочного причала, а возвращаться к берегу было лень. К тому же пограничники не разрешают брать не отмеченных при выходе пассажиров.
С тех пор я его не видел. Он живет на окраине города и обычно рыбачит в тех местах.
________________________________________
ДОЛЖНИКИ
Одолженец предупредительных телеграмм не шлет. Все происходит неожиданно.
Человек затевает с тобой беседу на общекультурную или даже космическую тему, внимательно выслушивает тебя, и когда между вами устанавливается самое теплое взаимопонимание по самым отвлеченным проблемам, он, воспользовавшись первой же паузой, мягко опускается с космических высот и говорит:
— Кстати, не подкинул бы ты мне десятку на пару недель?
Такой резкий переход подавляет фантазию, и я ничего не могу придумать. Главное, непонятно: почему кстати? Но одолженцы, они такие — им все кстати. Первые две самые драгоценные секунды проходят в замешательстве... И это губит дело. Ведь то, что я не сразу ответил, само по себе доказывает, что деньги у меня есть. В таких случаях труднее всего доказать, что твои деньги нужны тебе самому. Тут уж ничего не поделаешь, приходится выкладываться.
Конечно, некоторые чудаки возвращают взятые деньги, но в сущности они делают вредное дело. Ведь если б их не было, институт злостных неплательщиков долгов давно вымер бы. А так он существует и преуспевает за счет морального кредита этих чудаков.
Однажды я все же отказал одному такому явному одолженцу. Но тут же вынужден был раскаяться.
Встретились мы с ним в кафе. Я его, может быть, и не заметил бы, если б не гнусная мужская привычка оглядывать чужие столики. Наши взгляды столкнулись, и я с ним поздоровался. Мне показалось, что он достаточно прочно сидит за своим столиком. Однако он неожиданно легко отделился от него и, радостно улыбаясь, направился ко мне.
— Привет, земляк! — крикнул он еще издали. Я посуровел, но было уже поздно. У некоторых людей достаточно один раз неосторожно прикурить, чтобы они потом всю жизнь вас называли земляком.
Я решил не допускать никакой фамильярности, а тем более панибратства. Он довольно быстро исчерпал все свои жалкие приемы предварительной обработки и, как бы между прочим, задал роковой вопрос.
— Нету, — сказал я ему, вздохнув и довольно фальшиво хлопнул себя по пиджаку, кстати, как раз по тому месту, где лежал кошелек. Одолженец сник. Я был доволен проявленной твердостью и, решив слегка смягчить свой отказ, неожиданно сказал:
— Конечно, если они тебе очень нужны, я мог бы занять у товарища...
— Прекрасно, — оживился он, — сходи позвони, я тебя подожду здесь.
Он уселся за мой столик. Такого оборота дела я не ожидал.
— Но он далеко живет, — сказал я, стараясь погасить его неожиданный энтузиазм и вернуть первоначальную атмосферу безнадежности.
— Ничего, — ответил он радостно, не давая мне погасить свой энтузиазм, а также вернуть первоначальную атмосферу безнадежности. — Я буду пить кофе и ждать, — добавил он, доставая сигарету из моей пачки, лежавшей на столе, как бы полностью отдаваясь на мое попечение...
— Так я уже заказал себе обед, — сказал я, незаметно для себя переходя в оборону.
— Пока его принесут, ты успеешь сбегать. В крайнем случае я его съем, — сказал он, — а ты себе потом еще закажешь...
Словом, бой был проигран. Против природы не попрешь. Если ты не умеешь врать экспромтом, лучше не берись.
Пришлось в слякоть уходить из теплого кафе на улицу. Собственно говоря, звонить было некуда, но я зашел за угол и юркнул в телефонную будку.
В этой будке я просидел минут пятнадцать. Вынул из кошелька нужную сумму денег и положил в карман. Потом вынул стоимость обеда и положил в другой карман. Кошелек сунул на место. Теперь он был почти пустой.
После этого я медленно возвратился в кафе, стараясь читать по дороге газетные витрины. Но прочитанное в голову не лезло, потому что я боялся спутать карманы и обрушить на свою голову собственное здание лжи, устойчивость которого, в конечном итоге, всегда оказывается иллюзией.
Когда я вошел в кафе, он дожевывал мой обед и собирался приступить к моему кофе. Я дал ему деньги, и он, не считая, сунул их в карман. В ту же секунду я окончательно уверился, что их обратный путь будет долгим и извилистым. Так оно и оказалось.
— Я тебе заказал кофе, — сказал он предупредительно. — Сейчас принесут.
Мне ничего не оставалось, как выпить кофе, потому что аппетит у меня пропал. Официантка принесла кофе вместе со счетом. Причем после того как я расплатился за съеденный им мой обед, он щедро сунул ей на чай, как бы поправляя мою бестактность и изображая из себя скучающего, но все еще благородного богача...
Одолженцы, они все такие. Они широким жестом приглашают вас в такси, дают вам возможность первым войти и последним выйти, чтобы не мешать вам расплачиваться.
Говорят, Вильям Шекспир сказал, что, одалживая деньги, мы теряем и деньги и друзей. У меня получилось наоборот, то есть деньги-то я, в общем, потерял, но зато приобрел сомнительного друга.
Однажды я ему сказал, что каждый человек в Большом Долгу перед обществом. Он со мной охотно согласился. Тогда я осторожно добавил, что понятие Большой Долг в сущности состоит из множества маленьких долгов, которые мы обязаны выполнять, даже если они порой обременительны. Но тут он со мной не согласился. Он указал, что понятие Большой Долг — это не множество маленьких долгов, а именно Большой Долг, который нельзя распылять, не рискуя стать вульгаризатором. Кроме того, он обнаружил в моем понимании Большого Долга отголоски теории малых дел, давно осужденной передовой русской критикой. Я решил, что расходы на осаду этой крепости превзойдут любую контрибуцию и оставил его в покое.
Но вот что удивительно. Людям безупречно честным легче отказать в одолжении, чем субъектам с облегченной, я бы сказал, спортивного типа совестью. Отказывая первым, мы успокаиваем себя тем, что делаем это не из боязни потерять деньги.
Куда сложней с одолженцами. Давая им взаймы, мы знаем, что рискуем потерять деньги, но и они, конечно, знают, что мы знаем об этом риске. Создается щекотливое положение. Своим отказом мы как бы подрываем веру в человека, в сущности наносим ему оскорбление, подозревая его в потенциальном вымогательстве.
Об одном из своих должников я хочу рассказать поподробней. Не скрою, что, кроме отвлеченной исследовательской задачи, я хочу при помощи этого рассказа частично восстановить свои филантропические убытки, а также припугнуть возможностью печатного разоблачения остальных должников. Их не так уж много. На двести с лишним миллионов жителей нашей страны человек семь-восемь. В сущности говоря, ничтожный процент. Но все-таки приятно узнать, что у человека проснулась совесть, а к тебе возвращаются без вести пропавшие деньги. Я бы сказал так: нет ничего своевременней неожиданно возвращенного долга, и нет ничего неожиданней своевременно возвращенного долга. Кажется, это неплохо сказано? Вообще, когда мы говорим о своих потерях, голос наш приобретает неподдельный пафос.
Так вот. Началось все с того, что я получил в одном месте довольно значительную сумму денег. Я не называю этого места, потому что вы там все равно ничего не получите.
Поддавшись общему поветрию, я решил приобрести себе собственный транспорт. Машину я сразу же отверг. Во-первых, надо иметь на нее права. Хотя некоторые сейчас права покупают. Но это, по-моему, глупо. Купить машину, купить права, а потом в один прекрасный день попасть в аварию и в лучшем случае лишиться машины вместе с правами. Я уж не говорю о том, что денег у меня было раз в пять меньше, чем на нее надо.
По всем этим причинам машину я отверг. Я снял с воображаемой машины одно колесо и получился трехколесный комфортабельный мотоцикл с коляской.
Однако после зрелых размышлений я понял, что мотоцикл с коляской мне не подходит, ввиду его неисправимой ассиметричности. Я знал, что эта ассиметричность будет меня постоянно раздражать и дело кончится тем, что я снесу коляску при помощи дорожного столба.
В конце концов я остановился на велосипеде и купил его. Я нашел в нем ряд безусловных преимуществ. Это самый легкий, самый бесшумный и самый проверенный вид транспорта. К тому же здесь я экономил на бензине, ибо двигатель его питается своими внутренними силами, находится, так сказать, на хозрасчете.
С месяц я гонял на своем велосипеде и был вполне доволен им. Но однажды, когда я ехал на полной скорости, неожиданно из-за поворота выскочил автобус. Полумертвый от страха, я вывернулся из-под его огнедышащего радиатора, влетел на тротуар, откуда, не снижая скорости, ворвался в часовую мастерскую.
— Что случилось?! — закричал один из мастеров, вскакивая и роняя ереванский будильник, который покатился по полу, издавая многопластинчатый звон восточного барабана с бубенцами.
— Гарантийный ремонт, — сказал я спокойным голосом, ударившись о будочку кассы и неожиданно легко остановившись.
— Чокнутый, — первая догадалась кассирша и захлопнула окошечко кассы.
Я пришел в себя и, чтобы не менять выгодного впечатления, молча вывел свой велосипед. Краем глаза заметил, что у одного часовщика выпало из глаза стеклышко. Я почему-то подумал, что стеклышко часовщика и монокль аристократа имеют в своем назначении странное сходство. Часовщик при помощи своего увеличительного стекла увеличивает мелкие механизмы, а любители монокля, вероятно, думают, что то же самое происходит с людьми, на которых они смотрят.
Потом по дороге мне пришло в голову, что, шагая рядом с велосипедом, легче и безопасней предаваться мечтам, чем верхом на велосипеде, и потому решил больше им не пользоваться. В конце концов велосипедисту состязаться с автобусом все равно, что легковесу выходить на ринг против тяжеловеса.
Придя домой, я поставил свой велосипед в сарай и больше о нем не вспоминал.
Примерно через месяц к нам домой пришел мой дальний родственник и напомнил о нем. Вообще, если к вам приходит ваш дальний родственник, которого вы давно не видели, ничего хорошего не ждите. Вы пережили трудные годы становления и еще чего-то там, а он в это время пропадал черт его знает где. А потом, когда вы встали на ноги и даже приобрели собственный велосипед, он как ни в чем не бывало приходит к вам домой, улыбается всеми своими тридцатью двумя резцами и начинается великое кумовство.
Представьте себе крепыша небольшого росточка, в несгораемой кожаной тужурке, с мощным мозолистым рукопожатием. Работает в городе на бензоколонке, а живет в деревне в десяти километрах от города. Он еще крестьянин, но уже рабочий... Он воплощает в одном лице оба победивших класса.
И вот стоит передо мной этот самый Ванечка Мамба, и такая сила жизни прет из каждой складки его кожаной тужурки, лучится в золотистых глазах, в плотных зубах, похожих на костяшки газырей, что кажется, захочет — и выпьет пивную кружку бензина, закурит сигарету, и ни черта с ним не будет.
— Привет, — говорит и жмет руку. Такое, знаете, крепкое рукопожатие волевого мужчины.
— Здравствуй, — говорю, — Ванечка, какими судьбами?
— Слыхал, велосипед продаешь, хочу купить.
Не знаю, откуда он взял, что я продаю велосипед. Я даже не подозревал, что он знает о его существовании. Но Ванечка Мамба один из тех людей, которые знают о вас больше, чем вы сами о себе. "А почему бы не продать, — думаю я, — очень даже кстати..."
— А что, — говорю, — продам.
— Сколько?
— Сначала посмотри...
— А я уже смотрел, — говорит он и улыбается, — вижу, сарай открыт...
Велосипед стоил рублей восемьсот старыми деньгами. Скинул сотню на амортизацию.
— Семьсот...
— Не пойдет.
— А сколько дашь?
— Триста!
Ну, думаю, сейчас начнется встречный процесс. Один будет повышать, другой понижать. В какой-то точке интересы сольются.
— Хорошо, — говорю, — шестьсот.
— Брось, — говорит, — трепаться, триста рублей на улице не валяются.
— А велосипед, конечно, валяется?
— Кто же сейчас ездит на велосипеде? Одни сельские почтальоны.
— Зачем же ты покупаешь?
— Мне на работу далеко ездить, я временно, пока машину не купил.
— Покупаешь машину, а торгуешься из-за велосипеда.
— Потому, — говорит, — и покупаю машину, что торгуюсь из-за велосипеда.
Ну что ты ему скажешь? На то он и Ванечка Мамба, человек хорошо известный в нашем городе, особенно в шоферских кругах.
— Ну хорошо, — говорю, — за сколько купишь?
— А я сказал. Не пойдешь же ты с ним на толчок.
— Не пойду.
— В комиссионке тоже не примут.
— Ну ладно, — говорю, — бери за четыреста, раз ты все знаешь.
— Ладно, — говорит Ванечка, — беру за триста пятьдесят, чтоб и тебе и мне не было обидно. Все же мы родственники.
— Черт с тобой, — говорю, — бери за триста пятьдесят. Но откуда ты узнал, что я продаю велосипед?
— А я, — говорит, — видел, как ты ездишь на нем. Думаю — этот долго не наездит: или разобьется, или продаст.
Ванечка хозяйственно оглядел комнату и говорит, опять же улыбаясь всеми своими газырями:
— Может, еще чего продашь?
— Нет, — говорю, — пока с тебя хватит. Мы вышли из комнаты. Я стоял на крыльце, а он спустился во двор и вывел из сарая велосипед.
— А где же, — говорит, — насос?
— Пацаны стащили.
— Ну вот, а еще торговался, — говорит Ванечка, садится на велосипед и, объезжая двор, поучает: — Надо повесить замок на сарай. Я тебе привезу хороший замок.
— Замок, — говорю, — не твоя забота. Ты мне деньги давай.
— Вот в воскресенье продам груши и привезу деньги, — говорит Ванечка и, не слезая с велосипеда, выезжает со двора.
Не понравилось мне это. Но что поделаешь, как-никак родственник, хоть и дальний. Я и раньше говорил, что лучше один близкий друг, чем десять дальних родственников. Но не все это понимают, особенно в наших краях.
И вот встречаю его через неделю на улице.
— Ну как, продал груши?
— Продал, но сам знаешь, в этом году на них такой урожай, что выгодней свиньям скормить.
— Что ж, ты ничего не выручил?
— Да выручил бабам на тряпки. Сам знаешь, у меня пятеро девчонок. Да еще жена беременная. Одно разорение от этих зараз.
— Что ж ты, — говорю, — жену мучаешь — хватит хулиганить.
— Мне, — говорит, — мальчик нужен. А деньги за мной не пропадут. Скоро виноград поспеет, а там хурма, а там мандарины. Как-нибудь выкручусь.
— Ну, — говорю, — давай, выкручивайся.
На том и расстались. С должником приходится считаться. Должника лелеешь, иногда даже приходится распускать слухи о его честности.
Но вот пришел сезон винограда, потом отошла хурма, появились мандарины, а Ванечка все не идет.
Как-то узнаю стороной, что жена его опять родила дочку, и я решил напомнить о себе под видом поздравительного письма. Так, мол, и так, поздравляю с очередной дочкой. Как-нибудь заходи, я живу на старом месте. Посидим за бутылочкой вина, поговорим о том о сем.
Через неделю пришел ответ. Ну и почерк, пишет, у тебя хреновый, старшая дочка едва разобрала. Спасибо, говорит, за поздравление, еще одну дочку жена родила. Совсем запутался в именах. У нас, говорит, в деревне электричество провели. За него тоже надо платить. За долг помню, но ничего, Ванечка Мамба как-нибудь выкрутится. А в конце письма еще спрашивает, купил ли я замок на сарай. Если не купил, говорит, я тебе привезу.
Ну, думаю, пропали мои деньги. Так и не виделся с ним до следующего лета. Про долг почти забыл.
Как-то иду по базару, слышу, меня кто-то окликает. Смотрю, стоит Ванечка Мамба за целой горой арбузов. Хрустит большущим ломтем, сверкает зубами, кричит:
— Мамбавские арбузы, налетай, пока сам не съел! Какая-то женщина спрашивает меня, что это за сорт — мамбавские арбузы.
— Вы не знаете мамбавские арбузы? — смеется Ванечка и, нашпилив на нож кусок мясистой мякоти, сует гражданке прямо в лицо.
— Я не хочу пробовать, я только спрашиваю, — стыдливо отстраняется гражданка.
— Я не прошу покупать, я прошу только попробовать мамбавские арбузы! — почти рыдает Ванечка.
В конце концов гражданка пробует, а попробовав, не решается не взять. Смотрю, на каждом арбузе выскоблено, как фирменный знак, буква "М".
— Что это еще, — говорю, — за меченые атомы?
— Это мы с одним стариком везли из деревни арбузы, так я, чтоб не перепутать, переметил свои.
А сам смеется. Не успел я ему напомнить о долге, как он сунул мне в руку довольно увесистый арбуз. Я попытался отказаться, но Ванечка взорлил:
— Родственники мы или нет? С огорода! Свои! Некупленные!
Пришлось взять. С подаренным арбузом в руке говорить о долге было как-то неудобно, и я промолчал. Черт с ним, думаю, хоть арбуз получил за велосипед.
Потом мне рассказывали, что он здорово накрыл этого старичка. Пока они ехали на грузовике верхом на своих арбузах, старичок заснул, а Ванечка успел переметить своим пиратским ножом два десятка стариковских арбузов. Вот они, мамбавские арбузы!
Через полгода с одним приятелем я случайно заехал на бензоколонку. Товарищу надо было заправить машину. Смотрю, Ванечка мой ходит вокруг "Волги" и с такой угрюмой доброжелательностью поливает ее из шланга.
— Привет, — говорю, — Ванечка. Ты что, мойщиком стал?
— А, — говорит, — здравствуй. — Выключает свой шланг и подходит. — Ты что, в самом деле ничего не знаешь?
— А что я должен знать?
— Я же купил "Волгу". Это моя "Волга".
— Молодец, — говорю, — слов на ветер не бросаешь.
— А еще родственник, — жалуется Ванечка, обращаясь к товарищу. — Когда он купил велосипед, я узнал об этом. А когда я купил "Волгу", он ничего не знает. Где же справедливость?
— Про велосипед, — говорю, — лучше не вспоминай.
— Не, — говорит, — я тебе за него заплачу, хоть это был и барахлинский велосипед да еще и без насоса. Но сейчас я затеял дом строить, весь в долгах. Вот построю дом, сразу со всеми расплачусь.
— Фрукты, — говорю, — небось возишь?
— Не говори, одно разорение. Автоинспекция сбесилась. Или совсем не берут или берут так много, что невыгодно возить.
Когда мы отъехали, товарищ мой сказал:
— Этот твой Ванечка махинации устраивает с бензином. Попадется.
— Пусть попадется, — говорю, хотя был уверен, что он не попадется.
Через некоторое время встречаю одного нашего общего знакомого.
— Слыхал, Ванечку Мамба в тяжелом состоянии в больницу свезли?
— Что случилось, — говорю, — бензоколонка взорвалась?
— Нет, — говорит, — в яму с известковым раствором упал. Он же дом строит.
— Ничего, — говорю, — Ванечка выкрутится как-нибудь.
— Нет, — говорит, — не жилец.
Пролежал Ванечка в больнице с месяц. Хотел я было навестить его, да как-то неудобно стало. Думаю, решит, что пришел за деньгами. А потом слышу, — встал, выкрутился. Я был в этом уверен. Слишком у него много дел на этом свете осталось, да еще таких, что другому не поручишь. Не справится.
Прошел год. Однажды передают мне приглашение из деревни: у Ванечки двойной праздник, новоселье и сын родился.
Насмотрелся я на эти празднества. Приглашают человек двести, триста, за стол начинают сажать часов в двенадцать ночи. Пока все приготовят, пока дождутся прихода начальства. А главное, приношения. Стоит посреди двора деревенский глашатай, рядом с ним сидит девочка за столиком. Она слюнявит карандаш и записывает в ученическую тетрадь, кто что принес. Подарки деньгами, но больше натурой.
— Ваза прекрасная, как луна, — кричит глашатай, высоко поднимая ее над головой и показывая всем гостям. — Чистая и прозрачная, как совесть дорогого гостя, — импровизирует он.
— Одеяло русское, — кричит глашатай, вдохновенно разворачивая стеганое одеяло. — Под таким можно уложить целый полк, — бесстыдно добавляет он, хотя размеры одеяла самые обыкновенные.
Особенно в этом отношении отличаются бзыбцы. Они слова не могут сказать без преувеличения. Пока глашатай краснобайствует, гость с комической скромностью стоит перед ним, низко опустив голову. На самом деле он искоса следит за девочкой, чтобы она правильно записала его фамилию и имя. Потом он присоединяется к зрителям, а глашатай уже превозносит следующий подарок.
— Скатерть царская, — кричит краснобай и жестом деревенского демона вскидывает в руках скатерть. Одним словом, это своеобразный спектакль. Конечно, если ты пришел без подарка, тебя никто не прогонит, но общественное мнение создается.
В общем, я не поехал, но все же послал ему поздравительное письмо, уже без всяких намеков.
Как-то стою на привокзальной площади одного из наших районных городков и думаю, как бы мне добраться домой: то ли ехать на электричке, то ли ловить попутную...
Слышу, кто-то окликает меня. Смотрю — Ванечка выглядывает из "Волги".
— Ты как сюда попал?
— В командировке был. А ты что?
— Да вот в Сочи прошвырнулся. Садись подвезу.
Сел я рядом с ним, и мы поехали. В машине стоял устойчивый субтропический аромат контрабанды. После больницы я Ванечку ни разу не видел. Он почти не изменился, только лицо слегка обесцветилось, как будто его промокашкой обсушили. Но все такой же веселый, зубы блестят.
— Получил, — говорит, — твое письмо. Кутеж был отличный, напрасно не приехал.
— Как это ты в яму с известью попал?
— Да-а, неохота вспоминать. Чуть концы не отдал. Можно сказать, уже там был. Зато у меня сын родился через эту яму.
— Как так?
— Я думаю так, что у меня для пацана извести в организме не хватало.
— Ну, извести у тебя хватало.
— Кроме шуток, — смеется Ванечка, — может, я научное открытие сделал. Напиши в какой-нибудь журнальчик, — деньги пополам. Хотя тебя не напечатают.
— Это почему? — насторожился я.
— Почерк у тебя никудышный, — говорит, — не станут разбирать.
— Брось, — говорю, — травить. Лучше расскажи, как дела.
— Да как сказать, — тянет Ванечка, а сам включил одной рукой радио, нащупал джаз, выровнял, отпустил.
— Порядка нет, — неожиданно добавил он, — вот что плохо.
— Что это ты стал заботиться о порядке?
— Вот возил в Сочи мандарины. На двести километров четыре инспектора, разве это порядок? Нет, ты не перебивай, — добавил он, хотя я и не думал его перебивать. — Трое берут, четвертый отказывается. Разве это порядок? Договоритесь между собой в конце концов! Или совсем не берите или берите все. Не могу же я сказать, что с троими уже поладил. Это же нечестно?
— Конечно, нечестно, — говорю, а сам думаю: интересная вещь это, честность. Не удивительно, что каждый кроит ее по-своему. Удивительно, что никто без нее обойтись не может.
— Хорошо, — говорю, — Ванечка. У тебя есть машина, есть дом, есть сын. Брось ты это все, что тебе еще надо?
— Улики, — говорит, — еще хочу завести.
— Какие такие улики?
— Пчелы. Мой сад обжирают чужие пчелы. Лучше своих заведу. Попробую.
— Ну, — говорю, — пробуй. Чего ты только еще не пробовал.
— Хорошего пчеловода не знаешь?
— Нет, не знаю.
Помолчали немного. Но Ванечка бесплатно молчать не любит.
— Послушай, что это за кампания пошла насчет домов?
— А что, тебя беспокоят?
— Сам знаешь, всякие завистники. Жалуются. Откуда, мол, дом, машина... Председатель уже вызывал.
— Ну и что?
— Я ему говорю, когда комиссия или там делегация — ты их ко мне приводишь. Вот, мол, зажиточный крестьянин. А сейчас продаешь?
— А он что?
— С меня, — говорит, — тоже спрашивают...
Мы так и не договорили. Случилось неожиданное.
Мы ехали с большой скоростью, но, хотя дороги наши виражируют, я был спокоен. Ванечка и в армии пять лет просидел за рулем и вообще прекрасно чувствует машину. Сейчас мы въезжали в черту города, а он вроде и не собирался снижать скорость. И вот у автобусной остановки напротив вокзала женщина вырывается из очереди и, как очумевшая овца, бежит через улицу. "Не успеем!" — мелькнуло в голове, и в то же мгновение раздался скрежет тормозов, шипение волочащейся резины, крик толпы. Машина ударила женщину, отбросила ее на несколько метров и остановилась.
К женщине подбежали люди. Подняли ее, стали уводить в сторону. У нее было бледное одеревеневшее лицо. Но вдруг она неожиданно затрясла руками и стала гневно отбиваться от помощников.
Какой-то парень подбежал к машине, заглянул в нее и заорал:
— Что стоишь, Ванечка, газуй!
Ванечка дал задний ход, вырулил на привокзальную площадь, вырвался на автостраду и так газанул, что фары проносились мимо нас, как метеоры. Минут десять мы ехали с такой пожарной скоростью, и каждую секунду я ожидал, что вот-вот мы отправимся в те места, откуда Ванечка, может, и выкарабкается, но на себя я не очень надеялся.
— Ты что, сбесился, — кричу ему. — Тише!
— Чанкайшист присосался!
Я оглянулся. За нами мчался мотоцикл автоинспектора. Ванечка завернул в переулок, и машина, вибрируя, запрыгала по булыжной мостовой. Мотоцикл исчез было, но через несколько секунд снова появился в конце квартала. Ванечка завернул в совсем глухой переулок, проехал его и вдруг так резко затормозил, что я ударился головой о дверцу, за которую держался. В двух шагах от машины зияла свежевырытая яма, рядом валялась бетонная труба. Ванечка попробовал дать задний ход, но машина забуксовала. Грохот мотоцикла нарастал, как железный рок.
Через несколько секунд рядом с нами остановился мотоцикл автоинспектора. Он заглушил мотор и подошел к нам пружинистым шагом укротителя.
— Почему ехал с повышенной скоростью? Почему не остановился сразу?
— Не слышал сигнала, дорогой, — сказал Ванечка. Стало ясно, что автоинспектор ничего не знает о случившемся на вокзале. Все-таки он упорно пытался что-то записать и что-то требовал у Ванечки. Ванечка вышел из машины. Я его впервые видел в таком униженном состоянии. Он просил, он умолял, он клялся, он называл общих знакомых, говорил, что они в сущности оба работают в одной системе. Потом я заметил, что он многозначительно кивает в мою сторону, явно превышая значение моей личности. Получалось, что он везет меня чуть ли не по заданию местного правительства. Я поймал себя на том, что незаметно для себя приосанился.
В конце концов Ванечка его уговорил. Он проводил автоинспектора до мотоцикла, так в наших краях провожают до лошади верхового гостя. Я думаю, что он поддержал бы ему стремя, если б оно имелось у мотоцикла.
— Подумаешь, что он из себя представляет — нищий! — неожиданно сказал Ванечка, как только автоинспектор уехал. Видимо, это был новый автоинспектор, которого он не знал.
Ванечка сел в машину и закурил. Я решил, что дорожных приключений на сегодня хватит, и вышел из машины.
— Спасибо, — говорю, — мне теперь недалеко.
— Как хочешь, — говорит он и включает мотор. — А насчет порядков я тебе правильно говорил.
— Каких порядков? — спросил я, ничего не понимая.
— Улицу разрыли? Знака не поставили? Объезд не указали? Это что, порядок?
Я только развел руками.
Как-то неудобно было уходить, пока он не выбрался отсюда. Я еще постоял. Ванечка дал задний ход, и пока машина, буксуя, медленно отходила назад, я глядел на его твердое лицо с жесткой конквистадорской складкой вдоль щеки, четко озаренное государственным электричеством дорожного фонаря.
Вот такой он, Ванечка — хищный, наглый, веселый. Человек он, конечно, не глупый, но возить с ним арбузы на базар я бы никому не советовал.
После машины особенно приятно было идти пешком. Вообще я терпеть не могу всякие автомобильные происшествия. Жалко мне как-то пешеходов. Хоть я и понимаю, что жалость унижает человека, — но ничего с собой поделать не могу. Хорошо, что обошлось без крови. Видно, мы эту тетку не столько ударили, сколько испугали...
Однажды, много лет назад, я шел по Москве, и у меня было очень скверное настроение. Я кончал институт, а кафедра не принимала мою дипломную работу. Что-то она им там не понравилась. Она даже в какой-то мере их испугала. Работа была достаточно глупая, но руководители кафедры, да и я, не сразу об этом догадались. Позже, во время защиты, это благополучно выяснилось, и я получил за нее хорошую оценку. А тогда у меня на душе было неважно. На улице холодно, скользко, на тротуарах мокрая наледь. И вот я вижу, как из узкого проема между домами выезжает задним ходом грузовая машина. На тротуаре двое малышей: один лет восьми, другой лет четырех. Увидев приближающийся кузов, старший бросил малыша и перешел на безопасное место. Я заорал, что было сил. Малыш ничего не слышал, он следил за уличными голубями и был в той глубокой задумчивости, в которой бывают только философы и дети. Он был так мал, что конец кузова уже беспрепятственно прошел над его головой. Я успел подбежать и выволочь его за шиворот из-под кузова. К счастью, машина шла очень медленно, была гололедица, и шофер боялся слишком резко вывалиться на улицу.
Малыш ничего не понял. Он был тщательно укутан от холода, только парная мордочка выглядывала из-под пушистой ушанки. Но ни одна мать, ни один водитель не могут предусмотреть всех случайностей. Тут-то на помощь и приходят пешеходы. Но и пешеходам помогают такие случаи. Я окончательно понял, что смысл жизни не в дипломной работе и даже не в кафедре, а в чем-то другом.
Может быть, в том, чтобы быть достойным пешеходом? В сущности, все эти машины, самолеты, паровозы — не что иное, как детские коляски, которые мы, пешеходы, тянем за собой или катим впереди себя.
После долгого сидения в чужой машине приятно и легко было идти по земле. Земля — она всегда своя, кто бы там ее и как бы там ее ни крутил. А главное — ощущение свободы и спокойствия. Не тебя несет какая-то сила, а ты сам себя несешь. К тому же ты ни на кого не можешь наехать. Конечно, на тебя могут наехать, но если так думать, и кирпич на голову, как говорится, может упасть. Главное, самому не швыряться кирпичами.
Я шел домой, и мне приятно было думать, что я в свое время не купил машину, а потом продал велосипед.
Я думаю, что лучшие мысли приходят нам в голову, когда мы передвигаемся со скоростью, не превышающей пять километров в час.
____________________________________________
КОЗЫ И ШЕКСПИР
Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья. Выбор дерева, по-видимому, определял главный петух, который стоял на взлетной полосе, пока все куры не взлетят. Разумеется, куры одного хозяйства всегда взлетали на одно дерево. Из чего никак не следует, что они неслись, сидя на ветках.
Я об этом говорю, потому что слухи о том, что чегемские куры несутся, сидя на ветках, а чегемские женщины терпеливо стоят под деревьями, растянув простыни, чтобы мягко поймать снесенные яйца, распространялись врагами Чегема, которых я устал называть.
Нет, куриные гнезда уже придумали, хотя куры чаще предпочитали нестись вблизи от дома в кустах, вероятно, заметив, что люди нередко используют яйца не по прямому назначению продолжения куриного рода, а для поддержания собственного рода. Кур это не вполне устраивало.
Так что хозяйка дома по вечерам разгребала окрестные кусты и собирала яйца в подол, как белые грибы. Хотя грибы у нас вообще не собирают. Да и зачем собирать грибы там, где можно собирать яйца. Любовь к грибам — следствие хронической бескормицы многих народов.
...В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира. Для начала это было неплохо. Я охватывал действительность с двух сторон.
К козам меня приставили не случайно. Мои родственники, с немалым преувеличением страшась, что я страдаю под бременем дармоедства, выдали на мое попечение коз.
Но случайно в доме моей двоюродной сестры, учившейся в городе, я нашел огромный том Шекспира. Целое лето я его читал и перечитывал. Лето тоже было огромным, как том Шекспира.
— Книга перевешивает его, — насмешливо говорили чегемцы, увидев меня с этим томом.
Из этого не следовало, что они вообще против книги, а следовало, что все-таки надо сообразовывать вес книги с собственным весом. Привыкнув иметь дело с кладью на вьючных животных, они чутко замечали всякое нарушение равновесия.
— Пока спускаешься к пастбищу, — остановив меня, доброжелательно поучали некоторые, — можно веревкой приторочить книгу к спине. Она будет оттягивать тебя назад. А то брякнешься носом на крутой тропе и скатишься вниз. С книгой-то ничего не будет, я за нее не боюсь. На ней вон какая шкура. А ты покалечишься и тем самым опозоришь нас. Скажут, недоглядели!
— Кто скажет? — по неопытности спрашивал я первое время, проявляя, с чегемской точки зрения, бестактность, которую нельзя свалить на ротозейство.
— Не притворяйся, что ты не знаешь врагов Чегема! Не такой уж ты маленький! — упрекали меня.
Изредка находились и неожиданные любители книг. Один из них, пощупав том Шекспира, предупредил:
— Видел, видел, как ты шастаешь по деревьям, оставив свою книгу без присмотра. Нехорошо. Козы-то ее не перегрызут, хотя обгадить могут. А буйволица, пожалуй, перегрызет.
Мои тогдашние худосочность и малорослость, видимо, способствовали тревоге чегемцев, что книга однажды окончательно перевесит меня и свалит с тропы. Но я на них нисколько не обижался. Хотя я в те времена и не мечтал о писательском будущем, но почему-то знал, что все они мне когда-нибудь пригодятся.
Впрочем, я уже тогда глубоко задумывался над происхождением слов. Именно тогда я открыл происхождение (ненавижу кавычки!) слова — айва.
...В древности русская женщина и кавказский мужчина гуляли в наших дремучих лесах. Вдруг они увидели незнакомое дерево, усеянное незнакомыми могучими плодами.
— Ай! — воскликнула русская женщина.
— Ва! — удивился восточный мужчина.
Так неведомый плод получил название — айва. Что занесло русскую женщину в наши дремучие леса, съели они тогда айву в библейском смысле или нет, меня в те времена не интересовало.
Я читал Шекспира. Сэр Джон Фальстаф баронет и королевские шуты надолго и даже навсегда стали моими любимыми героями. Один шут сказал придворному, наградившему его монетой:
— Сударь, не будет двоедушием, если вы удвоите свое великодушие!
Мне эта фраза казалась пределом остроумия, доступного человеку. Я беспокоился только об одном: дойдет ли до моих школьных товарищей в городе эта шутка без всяких пояснений. Я уже знал, что пояснения снижают уровень юмора.
Я хохотал над шутками шутов и, подняв голову, смеялся над хитростями коз. Когда я с томом Шекспира в руках гнал их на пастбище и устраивался где-нибудь под кустом, они время от времени поглядывали на меня, чтобы угадать, достаточно ли я зачитался, чтобы двинуться на недалекое кукурузное поле. Никакая изгородь их не удерживала.
Иногда я им очень громко, возможно, пытаясь преодолеть их неопытность в общении с Шекспиром, зачитывал наиболее смешные монологи Фальстафа. Силой голоса я пытался заразить их своим восторгом.
Пастбище было под холмом, на вершине которого находился табачный сарай, где женщины низали табак. Мой голос доходил до них.
— Ша, — вскидывалась какая-нибудь из них, — это, кажется, кричит Тот, Кого Перевешивает Книга!
Иногда самая любопытная не выдерживала и, не поленившись выйти из сарая, кричала мне вниз:
— Эй, с кем это ты там перекрикиваешься и хохочешь?!
— С козами! — кричал я в ответ, чтобы обрадовать их, ибо ничто так не воодушевляет людей, как если мы проявляем признаки неопасного слабоумия. Как мне потом передавали, мой ответ неизменно приводил женщин к долгим, аппетитным разговорам о странностях моего сумасшедшего дядюшки.
Тончайшая деликатность чегемок заключалась в том, что, аккуратно перебирая странности моего сумасшедшего дядюшки, они никогда не переходили на меня. Правда, говорили, что в этих описаниях иногда прорывалась неуместная, неактуальная горячность, ибо странности моего дядюшки были присущи ему от рождения до пожилого возраста, в котором он тогда пребывал.
Из сказанного никак не следует, что позже в жизни моего дядюшки наступила тихая, просветленная старость. Увы, это не так. Однако стремление к точности слишком преследует меня, словно я, пытаясь бежать от своего дядюшки, приближаюсь к нему с другой стороны земного шара.
Итак, я читал моим козам монологи Фальстафа. Многие козы подымали головы и слушали. Иногда даже фыркали, как мне казалось, в самых смешных местах, хотя не полностью исключается, что они фыркали по собственным козьим надобностям. Как видите, продолжаю следить за точностью происходящего.
Но, конечно, гораздо чаще, забывая все на свете, я зачитывался сам, а козы в это время перемахивали через изгородь и поедали кукурузные стебли вместе с листьями и зелеными стручками фасоли. В Чегеме фасоль часто сажают возле кукурузы, и она оплетает ее стебель. В Чегеме сажали столько фасоли, что подпорок не напасешься.
Очнувшись, я, бывало, бегу к стаду, грозно крича магическое слово, чтобы остановить потраву.
— Ийо! Ийо! — кричу я, что на козьем языке означает: прочь! Назад!
Каждый раз, услышав мой голос, козы не только не приостанавливали потраву, но, пользуясь последними мгновениями, начинали гораздо быстрей, даже с оттенком раздражения, раздирать кукурузные стебли и принимались гораздо поспешней жевать. Видимо, первейший проблеск сознания — когда отгоняют от жратвы, быстрее жри!
Мало того. Некоторые из них, держа в зубах недогрызанные кукурузные стебли, восшумев листьями, перебрасывались через изгородь на пастбище и уже спокойно доедали их там, словно все дело было в территории. Другие, опутанные плетями фасоли, перепрыгнув через изгородь, сами себя брезгливо объедали, якобы только для того, чтобы выпутаться из этих паразитических плетей.
Бригадир откуда-нибудь с далекого поля, услышав мой голос и поняв, в чем дело, посылал громкие проклятия, не теряя в крике извилистый сюжет проклятия, что больше всего меня поражало.
— Опять потрава?! — гремел он. — Чтобы ты наконец подломился под своей книгой! И чтобы я на костре из твоей книги поджарил самую жадную твою козу и, клянусь прахом отца, — огня хватит на эту козу! И чтобы я, съев козу, поджаренную на огне из твоей книги, успел прикурить от горящего пепла твоей книги! И успею, клянусь прахом отца, успею!
В самом деле успеет, с ужасом думал я и, отогнав коз, возвращался к тому Шекспира, не подозревающего, какая опасность над ним нависла.
Вместе с козами паслись три овечки. Они паслись, ни на секунду не подымая головы, словно поклявшись страшной клятвой: ни одной травинки в рот, прежде чем внюхаемся в нее! Так как они паслись, не подымая головы, они иногда наталкивались на коз, и козы их отгоняли ударом рогов. Впрочем, козы отгоняли их ударом рогов и тогда, когда овцы и не наталкивались на них.
Они вообще презирали овец. Никаких причин презирать овец у них не было, кроме одной: овцы не могли, да и не пытались одолеть изгородь кукурузного поля. Козы им этого не прощали.
Козы, в отличие от овец, паслись, часто подымая голову, чтобы оглядеть стадо или в глубокой полководческой задумчивости оценить окружающую местность. Для этого они не ленились взобраться на какую-нибудь близлежащую скалу и оттуда, пожевывая жвачку, озирались.
Видимо, им было свойственно стратегическое мышление. Впрочем, стратегическое мышление у них сочеталось с практическим. Увидев со своего возвышения козу, которая удачно подмяла куст лещины и поглощает сочные листья, они покидали свою скалу и быстрыми шагами, однако стараясь не терять лицо и не переходить на побежку, спешили к ней, чтобы вместе полакомиться. Зависть помогала им держаться вместе.
Зато если какая-нибудь коза, увлекшись кустом ежевики, застревала в овражке, из которого уже поднялось стадо, незаметно для нее пасущееся невдалеке, она начинала паниковать, металась в разные стороны, истерически взблеивала, давая знать, что она попала в гибельные условия. По-видимому, травоядные не обладают соответствующим нюхом, чтобы найти своих по следам.
Что интересно, козы ей обычно не отвечали. Видимо, они наказывали ее: будешь знать, как отбиваться от стада. И только намучив ее как следует, какая-нибудь небрежно отзывалась.
Забавно, что при этом мог достаточно отчетливо слышаться колоколец на шее какой-нибудь козы из стада. Но мечущаяся в овражке коза, без риска можно сказать, не обладая достаточным музыкальным слухом, не доверяла этому звуку, потому что колокольцы разных размеров болтались на шеях и других животных — коров, буйволов, ослов.
Без отзыва коза терялась, нервничала все сильней и сильней, возможно, считая, что стадо именно сейчас вышло на райские луга. Стадо не отвечало, но если в это время находилась какая-нибудь другая заблудшая коза, она мигом откликалась на ее блеянье.
Каждая из них считала, что ей отвечает представитель стада, и они, переблеиваясь, искали встречи и окончательно запутывали меня.
В таких случаях направить козу в сторону стада не хватало никаких сил. Через любые колючки, любые чащобы она рвалась на голос другой козы. Все неистовей, уже с хрипотцой переблеиваясь, они стремились друг к другу.
В голосах коз было столько вселенского сиротства, что казалось, встретившись, они не смогут оторваться друг от друга. И вдруг встреча после неслыханных блужданий! Мгновенное успокоение, и обе даже не смотрят друг на друга.
Та, которую я изо всех сил пытался повернуть к стаду, а она, вся в репьях и колючках, рвалась на голос козы, начинает деловито обгладывать куст сассапариля, словно именно его она искала все это время.
Они паслись, не обращая внимания друг на друга. Каждая из них считала, что за спиной другой козы все стадо. Тут-то наконец их обеих вместе можно было перегнать куда надо. Козы не выносят одиночества, но предпочитают стадо, создающее полноту равнодушия.
...Целыми днями я валялся на зеленой цветущей траве. Сверху невидимые жаворонки беспрерывно доказывали, что небо — первичный источник музыки.
Курчавые овцы паслись над курчавым клевером, отчего, вероятно, делались еще курчавей по законам Дарвина.
Пчелы погружались в цветки с неуклюжим упорством водолазов.
Прыгающие пружины кузнечиков.
Застенчивые зигзаги бабочек над цветками.
Какое-то крупное, неведомое мне насекомое с жужжанием подлетало к цветку, но никогда на него не садилось. Каждый раз, когда оно, жужжа, стояло в воздухе над цветком, я терпеливо ждал, когда оно сядет на цветок, чтобы я его мог рассмотреть. Но оно, жалобно жужжа и с минуту стоя над цветком в воздухе, видимо, убеждалось, что этот цветок не содержит нужного нектара, и перелетало к другому цветку. И опять, жалобно жужжа, стояло над ним, но, словно убедившись, что и он неполноценен, перелетало к третьему.
Но я так и не увидел ни разу, чтобы оно село на какой-нибудь цветок. Привередливость его удивляла меня и вызывала сочувствие. Да еще это беспрерывное жалобное жужжание. Чем же оно кормится при такой капризности? Какой же цветок оно наконец выберет?
Однажды, ближе к вечеру, оно поблизости от меня опять с жалобным жужжанием повисло над очередным цветком. И вдруг в косых закатных лучах сверкнул, как длинная, тончайшая игла, хоботок, который оно всадило в сердце цветка, не садясь на него. Я вздрогнул от предчувствия далекого коварства, хотя, казалось, был достаточно подготовлен к нему некоторыми мрачными героями Шекспира.
...Вдоль пастбища высились вплоть до котловины Сабида дикие фруктовые деревья — алыча, слива, яблони, груши, инжир, грецкий орех.
По мере созревания, а чаще значительно опережая его, я поедал фрукты и, поедая, сделал ботаническое открытие, о котором почему-то забыл известить мир. Но лучше поздно, чем никогда.
Я заметил такую закономерность: чем менее вкусны и питательны фрукты, тем плодоноснее фруктовое дерево.
Самой плодоносной была алыча. На ней плодов было больше, чем листьев. Но плод не очень вкусный, так, водянистая кислятина.
Слива гораздо вкусней, но плодов на ней гораздо меньше.
Дикие груши и яблоки вкуснее сливы, но плодов на них меньше, чем у сливы, конечно, учитывая достаточно большой размер дерева.
Инжир гораздо вкусней яблок и груш, но и гораздо менее плодоносен.
И наконец, самые вкусные и питательные — грецкие орехи, но, учитывая громадность дерева и количество плодов на единицу площади, плодов еще меньше.
Поглощая фрукты, я вывел великую закономерность природы, подсказанную аппетитом. Чем вкуснее плод, тем полезней вещество, из которого он состоит, но тем трудней корням добывать в земле редкие соки, питающие плоды. Поэтому чем вкуснее плоды, тем ниже плодоносность дерева.
Чем обильней плодоносит дерево, тем охотнее оно стряхивает с себя плоды. Поэтому под алычой всегда толпились свиньи, чавкая и громко дробя своими гяурскими зубами косточки алычи.
Свиньи, жуя алычу, приподнимали головы, с удовольствием прислушиваясь к собственному чавканью. Чувствовалось, что, чавкая, они получают от еды дополнительное удовольствие через звук. Когда многие свиньи перечавкивались, получалась симфония жратвы. Когда кончалась алыча, они переходили на другие, более вкусные фрукты, но чавканье не усиливалось, из чего можно сделать вывод, что они не улавливали разницы вкуса. Тут уже напрашиваются совсем не ботанические законы.
Вероятно, были еще какие-то другие открытия, но я о них сейчас не помню. Если потом вспомню — расскажу.
...Вечером, когда тетушка доила коз, нередко происходили недоразумения. В Чегеме (последний оплот гуманизма), когда доят коз или коров, всегда сначала подпускают детенышей к своим родительницам, чтобы они немного попили молока. И после доения оставляют молоко детенышам.
Козлят выпускают по одному. Радостно блея, козленок бежит к блеющему стаду, но часто не узнает свою мать и начинает сосать молоко совершенно посторонней козы. Самое удивительное, что опытная, уж во всяком случае по сравнению с козленком, коза тоже не узнает его и с рассеянной щедростью подставляет ему свое вымя.
Но тут спохватывается тетушка и за шиворот ведет козленка к вымени его собственной матери, чтобы дать козленку попить свое законное молоко, тем самым дать козе расслабиться и затем подоить ее.
К этому времени коза, у которой чужой козленок выпил часть молока, осознает свою ошибку, но почему-то затаивает обиду не на себя, а на тетушку, и уже когда выпускают ее козленка, довольно часто прячет молоко от тетушки, чтобы ее детенышу больше досталось.
Происходит сложнейшая психологическая борьба между хозяйкой и козой. Дав козленку немного отпить молока, хозяйка хворостиной отгоняет его и начинает доить. В это время коза, по ошибке подпустившая чужого козленка к своему вымени, с преувеличенной нежностью вылизывает своего детеныша, словно пытаясь зализать свою ошибку.
Однако, покаявшись всласть, она решительно прячет молоко, делая вид, что оно кончилось. Но хозяйка об этом знает. Все учтено: и то, что успел выпить чужой козленок, и то, что успел выпить свой.
Хозяйка снова подпускает козленка к законному вымени, и якобы кончившееся молоко снова исправно поступает, и козленок, причмокивая, дергает за сосцы. Через некоторое время тетушка мягко, очень мягко отодвигает козленка от вымени и начинает доить козу.
Проходит минут десять, и вдруг коза, туповато оглянувшись (интересно, о чем она думала все это время?), обнаруживает, что не козленок под выменем, а тетушка. Коза, спохватившись, снова прячет молоко. Тетушка снова подпускает козленка к вымени, молоко снова подается, и так несколько раз.
Ради справедливости надо заметить, что некоторые козы, очень редкие козы, когда под ними чужой козленок, вероятно, почувствовав чуждый прикус сосца чужим козленком, сразу отгоняют его. Но такая чуткость явление исключительное.
Насколько я заметил, сам козленок не придает особенностям родных сосцов никакого значения: молоко отсасывается, ну и ладно! Кстати, человеческий младенец в этом отношении, по-моему, ничем не отличается от козленка. Не подумайте, что последнее соображение я извлек из личных воспоминаний. Как это ни странно — я не помню себя грудным младенцем. А ведь это длилось довольно долго.
Но вот наконец козы, загнанные в загон, угомонились. Ночь. Тишина. Взбрякнет колоколец сонной козы, и вновь тишина. Передохнем и мы.
Вот мои, кажется, самые ранние воспоминания. Года, вероятно, в четыре отец мне объяснил, что царя нет. Если были еще какие-нибудь подробности, я о них не помню.
Помню, что я поверил отцу, и мне стало невыносимо тоскливо. Я вышел на улицу и подумал: царя нет, значит, эта земля, по которой я хожу, никому не принадлежит, никто за нее не отвечает. Было жалко себя, но я отчетливо помню, что особенно было жалко землю без хозяина. Крестьянские гены матери, что ли, сработали?
Соседский мальчик подбежал ко мне, чтобы поиграть. Но какие тут могут быть игры!
— Царя нет, — сказал я ему, чтобы потрясти его распадом миропорядка. Но то, что я сказал, до него как-то не дошло.
— А где он? — спросил мальчик.
— Нет совсем, — сказал я, не оставляя ему никакой надежды. Но я опять почувствовал, что это его не тронуло.
Оскорбленный, я отошел от него, чтобы полноценно страдать одному. Видимо, это был кризис сказочного сознания. Разумеется, я уже что-то слышал о Советской власти, но я, считал, что царь стоит надо всем этим.
...Однако не будем преувеличивать мою педантичную привязанность к Шекспиру. Иногда, бывало, я приходил пастушить без тома Шекспира. И я заметил, что козы при этом явно скучнели. В этих случаях они почти не пытались перелезть на кукурузное поле, потому что тут я всегда был начеку и вовремя отгонял их. За лето козы, привыкнув к моей бдительности вне чтения, начинали понимать, что кукурузные стебли им недоступны, если они не видят в моих руках тома Шекспира.
Когда же я утром с томом Шекспира в руках гнал коз из загона, они сразу веселели и приходили в игривое настроение. Игривость их доходила до того, что они насмешливо демонстрировали внесезонную случку. Козы пародировали однополую любовь, на ходу изящно громоздясь друг на друга, что отдаленно напоминало мне путаницу с переодеваниями у Шекспира, где мужчина рядился в женщину и наоборот.
Совершенно нелепо заподозрить тут склонность к извращениям, но вполне допустимо, что козы пытались встряхнуть, разгорячить степенно вышагивающих козлов. Можно предположить, что это была легкая форма забастовки соскучившегося от безработицы гарема. Но было похоже, что козлы угрюмо осуждают эти внесезонные любовные игры. Они молча отстаивали свое законное право на отдых.
Их можно было понять. Их было всего четыре, а коз около сорока. Козы при виде тома Шекспира явно взбадривались с далеко идущими целями. Было совершенно ясно, что козы хотят, чтобы я читал Шекспира. Дальнейшее они брали на себя. Козлы, конечно, тоже хотели, чтобы я читал Шекспира, но не такой дорогой ценой, на которую намекали козы. При этом должен заметить, что овцы были совершенно равнодушны к Шекспиру.
Между придворными интригами у Шекспира и хитростями коз я находил много общего, и это веселило меня и, как я сейчас думаю, подсознательно работало на оптимизацию моего мировоззрения.
Тогда же я понял: человек — это нечто среднее между козой и Шекспиром. Говорят, последние математические исследования на эту тему не только подтвердили, но даже усугубили мою догадку. Говорят, теперь установлено: Шекспир, деленный на козу, дает человека в чистом виде. Без остатка.
Для проверки этого положения даю беглый набросок моей московской жизни. Когда я приехал сюда учиться, я в первые же дни был потрясен двумя, можно сказать, противоположными событиями.
Как-то, будучи в центре города, я подошел к милиционеру и спросил, как пройти на такую-то улицу.
Милиционер вдруг отдал мне честь, подняв руку в перчатке потрясающей белизны, и гостеприимно показал дорогу к нужной улице. Мне, мальчишке, отдают честь, да еще в такой белоснежной перчатке!
Я был потрясен этой доброжелательностью. Может быть, перчатка была из шерсти чегемских коз, думал я ликуя, но как он узнал, что я чегемец?
А через несколько дней я стал свидетелем совершенно не понятного мне и даже испугавшего меня зрелища. Я увидел, как милиционеры грубо и без всяких перчаток на большой проезжей улице сгоняют все машины на обочину.
А через минуту я увидел правительственные автомобили, мчавшиеся с такой панической скоростью, словно за ними гнались пулеметчики, словно они чудом выскочили из-под обстрела. Но никакой погони за ними не было, в чем я убедился воочию.
За годы пребывания в Москве я не раз наблюдал подобное зрелище и убедился, что это нормальная мания преследования, видимо, присущая всем правителям. Впервые я это увидел в сталинские времена. Потом времена менялись, но мания преследования оставалась.
На цветущих подмосковных полях я иногда встречал одиноких коз, которых обычно пасли одинокие старушки. Одна коза на одну старушку. По чегемским обычаям старушки, пасущие коз, это все равно что старики, стирающие белье в корыте. Меня в первое время подмывало спросить у старушек: а куда делось стадо?
Но чегемская деликатность удерживала меня от этого чегемского вопроса.
Но что меня больше всего поражало. Одинокая коза спокойно паслась, не проявляя никакого волнения по поводу отсутствия стада. И это было для меня дико. Сотрясаясь от внутренних рыданий, я следил за козой и думал, до чего большевики довели коз, что они забыли о всяком родстве. Смирилась гордая коза, рыдай, Россия!
За время долгой жизни в Москве я сделал немало открытий из писательской жизни. Из чего, конечно, не следует, что я теперь пас писателей. Скорее, меня самого пасли и наказывали как заблудшую козу, уже злонамеренно избегающую стада.
Я надеюсь, что любовь к Фальстафу не стала фальстартом в моей писательской судьбе.
Вдохновение — счастье для писателя. Но ничего так не изнашивает человека, как счастье. Природа щадит нас, редко удостаивая счастьем. Так что, люди, будьте счастливы тем, что счастье — редкий гость.
Читатель может спросить у меня: чем хороший писатель отличается от плохого?
Спешу ответить, даже если читатель меня об этом не спросит.
Вот как бездарный и талантливый писатели пишут об одном и том же.
Бездарный писатель пишет:
— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку.
Талантливый писатель пишет:
— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку, и я, как всегда, незамедлительно присоединился к нему.
Одна фраза все меняет. Самоирония делает картину более объемной и не оскорбительной для пьющего приятеля.
Вообще писатель, лишенный самоиронии, рано или поздно становится объектом иронии читателя, и именно в той степени, в какой он лишен самоиронии.
Итак, Шекспир, деленный на козу, дает человека. Я для смеха рассказал об этом одному милому ученому, мы с ним сдружились на любви к шекспировским шутам. Мы помогали друг другу жить тем, что жили, находя время для шуток. Однажды, будучи в мрачном настроении, я написал такие стихи.
Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.
И даже зрением ослаб,
Не различаю лица
Друзей, врагов, людей вообще,
И болью отдает в плече
Попытка жить и длиться.
...Так морем выброшенный краб
Стараньем перебитых лап
В стихию моря тщится...
Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.
Через несколько дней он пришел ко мне, и я дал ему почитать эти стихи. К этому времени настроение у меня выровнялось. Беспрерывно куря, он странно долго читал стихи, а потом поднял голову и сказал:
— Если бы эти стихи я прочел в другом городе, я примчался бы к тебе на помощь.
Я смутился и замял разговор. Тем более, я знал, с каким безукоризненным мужеством он вел себя в труднейшие для него годы борьбы с космополитизмом. Шутник!
Мы нередко с ним спорили и просто говорили на отвлеченные темы. Чаще всего наши мнения совпадали, хотя иногда и расходились, но это никогда не влияло на нашу дружбу.
Вот некоторые формулировки, на которых мы сошлись.
Жестокость — попытка глупости преодолеть глупость действием.
Коварство — удар труса в темноте.
Анализ убивает всякое наслаждение, но продлевает наслаждение анализом.
После долгих споров мы установили строгую научную линию эволюционного развития человека: живоглот, горлохват, горлоед, оглоед, шпагоглот, виноглот, куроглот, мудоглот, трухоглот, мухоглот (он же слухоглот), горлодер, горлопан, горлан и, наконец, полиглот.
Если здесь последует вздох облегчения, то, предупреждаю, он преждевремен, потому что развитие это циклично (чуть не сказал — цинично) и все повторяется в том же порядке. Эволюционная лестница рушится, не выдержав бедного полиглота, и все опять начинается с живоглота.
Но в вопросе — может ли человек, принимающий людей за коз, пользоваться козьим мясом, мы не сошлись. Я считал, что не может такой человек есть козье мясо. А он считал, что мой подход — выражение крайнего субъективного идеализма, или, грубо говоря, солипсизма.
Так вот, когда я ему со смехом (для перестраховки!) сказал, что современная наука установила, что Шекспир, деленный на козу, дает человека, он иронически приподнял брови и подхватил! Он умел подхватывать:
— Здравствуй! Этому открытию уже двадцать лет! Даже появилось доказательство от обратного — Шекспир, деленный на человека, дает козу.
— Почему же об этом не было слышно? — удивился я
— Потому что это считалось государственной тайной, — отвечал он, — тайной национального мышления. Но когда американские разведчики выкрали у нас секрет нашего национального мышления, а наши разведчики выкрали у американцев секрет их национального мышления, обе тайны абсолютно совпали, и стало возможно их рассекретить. Угроза войны отпала, демократия у нас расцвела, как огород для коз, и каждая страна перешла на подножный корм. Правда, у каждой страны свой подножный корм, но это другая тема.
Кстати, мой ученый друг был оставлен на необитаемом острове для проведения научных опытов в условиях полного одиночества. Через три года, как и договаривались, за ним приплыли соотечественники.
— Какое у вас самое сильное впечатление от трехлетнего одиночества? — спросили они у него.
— Совесть отдохнула, — неожиданно ответил он, но, смягчившись, добавил. — К тому же тут полно диких коз.
— В смысле людей? — догадался кто-то, правильно проследив за направлением его смягчения.
— Да, в смысле людей, но и в смысле свежего мяса, — пояснил он, возможно, заочно продолжая спорить со мной.
Соотечественники все-таки обиделись на него за себя и за человечество. — Так, может, вас еще на три года оставить здесь? — язвительно спросил один из них.
— А вы думаете, человечество за три года исправится? — не менее язвительно ответил мой друг, подымаясь по трапу. — По-моему, со времен Шекспира оно не изменилось, но качество шуток сильно снизилось.
...Нет, шепчу я про себя, прогресс все-таки есть. Чегемские куры больше не взлетают на деревья, но покорно удаляются на ночь в курятник. А может, все-таки лучше бы взлетали? Боже, боже, как все сложно! Точно установлено, что на деревья взлетало гораздо больше кур, чем тех, что теперь укрываются в курятниках.
...Но где я? Где Чегем? А все-таки с козами было лучше.
________________________________________
ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
Небольшая делегация молодых московских писателей по командировке ЦК комсомола прибыла в большой сибирский город. Нас встречал местный комсомольский вожак, крепкий молодец с добродушными плутоватыми глазами. Он был похож на замаскированного мастера карате. Он отвез нас в местную гостиницу, но, увы, нам велели подождать, пока освободятся номера. Свободных мест не было. Помощники вожака что-то напутали, и нам не заказали номера.
Был вечер. Мы уныло ждали, когда выедут другие постояльцы. Но они не выезжали, и уже некоторые командировочные, почему-то неизменно в лиловых кальсонах, выходили из своих номеров и шлепали в единственную на этаже уборную. Время тянулось и тянулось.
- Я сейчас позвоню в одно место, - вдруг сказал комсомольский вожак и сверкнул своими плутоватыми глазами. - Или пан, или пропал.
Он решительно подошел к телефону, висевшему на стене, набрал номер и стал с кем-то разговаривать. Когда его соединили, глаза его стали излучать мягкий блеск, а голос заурчал.
- Делегация ЦК комсомола, - урчал он, - неудобно, люди устали, а номеров нет.
Потом он некоторое время говорил про какой-то таинственный терем-теремок. Было странно слышать это слово из детских сказок, которое произносилось без всякого подобия улыбки.
- Спасибо, спасибо, Марья Дмитриевна, - прощаясь, сказал он, низко склонив голову к трубке, словно пытаясь поцеловать далекую женскую руку. Он возвращался к нам от телефонной трубки, как мастер карате, только что выигравший трудный бой.
- Сейчас, - сказал он загадочно, - поедем в одно местечко. Там перекусим, и там вы переночуете.
Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо. Видно, нелегко ему дался этот разговор, но он был доволен результатом:
- Пошли отсюда, - не без брезгливости сказал он, и мы вышли из гостиницы. А на улице холодина, метель.
- Сейчас придут машины, - успокоил нас неунывающий крепыш.
"Знаем это ваше сейчас, - думал я, дрожа от холода и отворачиваясь от ветра. - Про гостиничные номера он тоже говорил "Сейчас! Сейчас!" - а мы прождали три часа, так ничего и не дождавшись". Все это время он неутомимо расспрашивал одного нашего поэта, работавшего в комсомольском журнале. Он расспрашивал о смещениях и перемещениях кадров в аппарате ЦК комсомола, сладострастно выслушивал новости далекой аппаратной жизни.
На этот раз мы прождали минут пять, хотя и успели за это время основательно продрогнуть. Лихо подкатили две "Волги", и нас повезли куда-то. Шоферы были радостно возбуждены. Наш, во всяком случае. Машины ехали быстро, резко и неожиданно сворачивая в какие-то переулки, выезжая из них, снова сворачивая, словно стараясь сделать неведомый нам город еще более неведомым, словно заметая следы, и без того заметенные метелью. Наш шофер время от времени озирался на нас, как бы дивясь чуду несоответствия наших лиц нашему маршруту. Это чудо явно вдохновляло его для собственных будущих надобностей. И я заметил, что он имеет отдаленное сходство с нашим вожаком. Так сказать, недошлифованный алмаз.
Наконец машины резко затормозили. Мы с чемоданами стали вылезать.
- Саша, заедешь за мной через два часа, - сказал наш провожатый шоферу.Мы подошли к подъезду ничем не примечательного дома. Он как-то не был похож на гостиницу. Однако как только мы поднялись к дверям, они распахнулись и оттуда высунулся крепкий молодец. Он с гостеприимной улыбкой провел нас в переднюю и указал на вешалку. Он был удивительно похож на нашего провожатого. Тоже напоминал мастера карате, даже не слишком замаскированного. Оба прочно сбитые, румяные, а главное - у обоих тот особый лоск на лице, который свойствен, как говаривал дядя Сандро, людям, допущенным к столу.
Он ввел нас в теплое помещение с тяжелыми золотистыми занавесками и коврами на полу. Комната была уставлена несколькими столами со слепящими белизной накрахмаленными скатертями.
На одном из столов громоздились закуски, скромно светились коньячные бутылки и, позабыв о всякой скромности, сияли в вазах огромные апельсины, словно здесь, в Сибири, они и созрели, выращенные мичуринским способом.
Мы уселись за стол. Приступили к закускам с некоторой поспешностью, как бы опережая возможность ошибки случившегося, однако стараясь не клацать вилками и зубами. Процедуру никто не прерывал. Окончательно обнаглев, мы стали посылать вдогон закускам золотистые струи армянского коньяка. Ни один из нас никогда не сидел за таким столом, а некоторые поэты вообще жили впроголодь. Но пить умели все.
Но что за стол? Таймени, пельмени, мозги оленьи, какие-то почки, какие-то грибочки и Черное море икры в странной географической близости с Красным морем икры! А главное, чувствовалось, носилось в воздухе, что за все это не придется платить. Да и кому платить и какие деньги? Экспроприаторов экспроприировали! Деньги отменены! Мы ворвались в царство коммунизма. Это он, родимый, сближающий моря и народы! Хотя стол был переполнен, нас обслуживали официанты, принося горячие блюда. Хрустящие молодые официантки, хорошенькие, как на подбор. Они приоткрывали тайну тщательно продуманного и "промытого" отдыха государственных людей от государственных дел.
После нескольких рюмок коньяка наш провожатый признался нам, что звонил жене самого секретаря обкома, умнейшей женщине, и она дала добро на наше воцарение в тереме-теремке.
А я-то по простоте душевной, когда он звонил, думал, что он разговаривает с директрисой другой гостиницы. Лихой человек, решил я, быть ему в ЦК комсомола, о деятелях которого он так подробно расспрашивал.
Кстати, в течение нашего застолья он, впадая в служебный лунатизм, то и дело невпопад обращался к нашему поэту из комсомольского журнала.
- Агапов теперь в отделе пропаганды? - заискивающе спрашивал он, как бы заранее умиляясь, что тот в отделе пропаганды, но как бы и готовый умиляться, если того из отдела уже вышвырнули.
Наш поэт, на мой взгляд, давно исчерпал свои скромные знания аппаратной жизни, но, чтобы угодить ему за царский прием, явно блефовал.
Но тот не замечал. Он зачарованно прислушивался к чему-то, словно по скудным обрывкам мелодии восстанавливал и восстанавливал в голове всю грандиозную симфонию этой жизни.
С самого начала опьянев от сказочной пещеры, куда мы попали, мы уже почти не пьянели от многих рюмок коньяка. Конечно, в этом и закуски сыграли свою выдающуюся, тормозящую роль: таймени, пельмени...
Нет, мы, конечно, все-таки пьянели, но я заметил, что по мере нашего опьянения, как бы для равновесия ситуации, строжали и строжали лица наших молодых официанток. И чем больше они строжали, тем яснее проступала в их чертах суровая мощь монастырского блуда.
И по мере опьянения, может быть, из-за явной недоступности официанток хотелось броситься на шею руководства страны и крикнуть ему, содрогаясь от преданности:
- Так вот что вы готовите народу, наши избранники! Сегодня вы нас допустили к столу как бы для пробы! А завтра или послезавтра весь народ хлынет в распахнутые двери теремков! После ужина второй каратист, обегая нас, как добрая овчарка, и не давая разбредаться по дому, всех уложил спать в просторных комнатах, в душистых от свежести постелях.
Утром он провел нас в это же помещение завтракать. Первый каратист был уже здесь и, попивая боржом, дожидался нас. Стол теперь, прямо скажем, не ломился, но всего хватало. А главное - не забыли дать опохмелиться. Хотелось зарыдать от этой прославленной партийной чуткости. Хотя некоторые из нас считали, что в прославлении партийной чуткости есть немалые преувеличения.
И вот сегодня из совсем другой эпохи я кричу:
- Была! Была! Эта чуткость! Сам на себе ее испытал! И не раз! Под строгим надзором нашего вожака мы опохмелились на джентльменском уровне. Официантки уже были другие, но такие же хрустящие и хорошенькие. И мы дивились: в каких парниках их выращивают?! Днем и вечером мы выступали перед рабочей и студенческой аудиторией.
Нас отлично принимали. Комсомольский вожак, сопровождавший нас веста день, был очень доволен. Такой уж прыти он от нас не ожидал. Да мы и сами от себя не ожидали такой прыти. Если еще, в сущности, не зная нас, нас так угощали, что же будет после наших искрометных выступлений! Может быть, нас посадят рядом с Марьей Дмитриевной? Мы даже гадали: нет ли ее в зале, инкогнито? После вечернего выступления мы вышли на улицу. Пиршество близилось неотвратимо. С болью отдираясь от разгоряченных студентов, приглашавших нас на вечеринку, мы ввалились в машины и поехали. Машины были те же и шоферы те же.
Но через некоторое время я почувствовал какую-то тревогу. Наш шофер больше на нас не озирался. В его езде не было вчерашнего азарта, а главное - вчерашней извилистости пути. С какой-то тупой прямолинейностью нас привезли не в терем-теремок, а в ту же протухшую гостиницу. За что?!
- А как же вещи? - ушибленный обидой, спросил один из членов нашей делегации, возможно, надеясь, что наш вожак привез нас в гостиницу по какой-то дурной инерции. И вероятно, сейчас опомнится...
- Уже здесь, уже все на месте, - доброжелательно отвечал вожак. Однако голосом он дал знать, что такая сказка может присниться только раз в жизни и то благодаря Марье Дмитриевне, за золотое сердце которой мы вчера пили.
Открывая дверь номера, куда нас водворили с моим приятелем, я успел заметить, как некий командировочный - все в тех же лиловых кальсонах - прошаркал в сторону уборной. В соседнем номере громко переговаривались и злобно щелкали фишками домино.
Я открыл дверь. Наши чемоданы были на месте. Прислонясь лбом к оконному стеклу, я долго дивился административной гениальности нашего вожака. Ничего ни у кого не спрашивая, он точно разместил нас всех так, как мы хотели. Даже чемоданы не спутали. Или бумаги о нас шли впереди нас? Трудно поверить.
Нет, думал я, эту систему никто никогда не победит. И в самом деле - ее никто не победил. Она рухнула сама. Не потому ли, что на тебя ушли все силы, терем-теремок? А где же наши каратисты? Они теперь главные фирмачи или главные охранники фирмачей. Иногда встречаю их или их подобия на презентациях и чувствую всей шкурой: ох, главнее, главнее они остались!
_________________________________________
МОЛОДОЙ АРХИТЕКТОР И КРАСОТКА
Молодой архитектор Павел Богатырев после окончания московского института приехал в один среднерусский город. Он попал сюда по распределению. Проработав здесь с полгода, он уже обзавелся друзьями из местных интеллигентов и новым заграничным костюмом, который на нем хорошо сидел. Такого у него еще никогда не было. Но пальто у него было старое, студенческое, мешковатое.
Однажды один из его новых друзей привел его в местный педагогический институт на какое-то праздничное мероприятие. Начались танцы. Во время танцев он заметил, что на него очень смело поглядывает хорошенькая девушка.
Она поглядывала на него из-за плеча своего кавалера, с которым танцевала, как из-за ограды, через которую можно легко перемахнуть.
Своими взглядами она как бы радостно удивлялась тому, что до сих пор его никогда не видела. Возможно, она его принимала за студента и тем более удивлялась, что до сих пор его никогда не видела. "Где ты пропадал? Скорее ко мне!" - как бы восклицала она своими распахнутыми зелеными глазами.
Минут через десять он ее пригласил танцевать, и они довольно долго топтались в танцах, охотно переговариваясь. А потом гуляли по коридорам института и даже заглянули в одну пустую аудиторию и сели рядом.
Сидя в пустой аудитории с очаровательной девушкой, он вдруг совершенно ясно почувствовал, что вот сейчас он может обнять и поцеловать ее и она его не оттолкнет. Это было абсолютно ясно.
Но он решил не торопить события. Конечно, она его предпочла всем остальным молодым людям. Как проницательная девушка, думал он. Как здорово, что ее красота сочетается с такой проницательностью.
Из их разговора получалось, что она ждала его приезда в этот город, а он как бы только для этого сюда и приехал. Ясно, что он ей нравится.
Проницательная девушка, думал он. Собственно говоря, она его и привела в эту пустую аудиторию, чтобы получить от него первый урок любви. Так он думал. Но он не решился на этот урок отчасти потому, что аудитория была не заперта и сюда могли забрести другие студенты со своими уроками.
После танцев он провожал ее домой. Он подал ей в гардеробной ее легкую шубку и надел свое пальто. И тут он краем глаза заметил, что его красотка сильно и неприятно удивлена. Старое пальто, мешковатое и неуклюжее, скрыло его красивый костюм. Он не без юмора подумал, как это все в ее головке укладывается: пальто с чужого плеча или костюм? Или он вообще архитектор-самозванец? Все это промелькнуло в его сознании, но не сильно расстроило его. Он еще верил в возможность идеальной любви, которая ни с каким пальто не считается. Тем не менее он подумал, что, сдержавшись там, в аудитории, он допустил шахматную ошибку. Тут нужен был более атакующий стиль. Она, видимо, этого ждала, еще ничего не зная о его плохо прикрытом фланге - о его пальто.
Он проводил ее домой. Они еще во время танцев, когда она ничего не знала о его пальто, договорились встретиться на вечеринке у его друга. Она охотно приняла приглашение, тем более что слышала об этом доме. Это была известная в городе семья.
В парадной ее подъезда, расставаясь с ней, он понял, что поцеловать ее сейчас нельзя. Мешало пальто. Он скромно попрощался с ней и почувствовал, что она ему благодарна за сдержанность. По тем авансам, которые она выдавала в институте, еще не зная о его пальто, он мог бы теперь быть посмелее. Но сейчас она видела, что он не требует платить по счетам. Она была так благодарна ему за это, что на прощанье с необычайной смелостью поправила ему кашне на горле, правда, ему показалось, что она при этом старалась не прикасаться к его пальто. После этого она облегченно взлетела на свой этаж.
На вечеринку к друзьям он пришел с ней в том же пальто. Просто другого у него не было. На его спутницу все обратили внимание. А девушка хозяина дома с тайным поощрительным восторгом закивала ему головой. Он знал, что нравится ей. Но она была подружкой его товарища, и он никогда не пытался сделать шаг в ее сторону, хотя и она ему нравилась. Иногда ему казалось, что она ждет этого шага. Но это было не в его правилах. И сейчас она поощрительными кивками благословляла его уход к другой. Если уходить, то только к такой, как бы говорила она.
Потом было веселое застолье с выпивкой и танцами. С его девушкой зачастил танцевать один молодой, но уже известный в городе журналист. Они танцевали очень хорошо, почти с недопустимой по тем временам чувственной смелостью. Тем более что этот журналист был здесь со своей женой.
Молодой архитектор почувствовал, что его захлестывает багровая ревность. Он старался как можно больше пить. Но это не помогало. Чем больше он пил, тем больше трезвела ревность. "Мы всего второй раз видимся, - уговаривал он себя, - она мне ничем не обязана, и я ее не люблю. Откуда же эта ревность?" Он все-таки попытался что-то восстановить и пригласил ее танцевать, заранее предчувствуя какой-то провал.
- Вы танцуете примитивно, - вдруг заметила она ему во время танца своим задыхающимся, грудным голосом, который так волновал его до этого.
Она это сказала, как бы кивнув на его пальто. Он и в самом деле плохо танцевал. Но ведь в институте они довольно долго танцевали, и она как будто не замечала этого. Тогда она его неуклюжие движения приняла за новомодную московскую небрежность. Но потом, увидев его пальто, сообразила, что никакой новомодной небрежностью тут и не пахнет. И теперь она как бы дважды его уличила.
И он больше с ней не пытался танцевать и вообще не танцевал. Она продолжала танцевать с этим журналистом. Жена журналиста, чтобы скрыть свою ревность, стала бешено кокетничать с хозяином дома, и тот, может быть, под влиянием выпивки, поддался этому напору и не сводил с нее глаз. А девушка хозяина дома, в свою очередь, чтобы скрыть свою ревность, так резвилась в танцах, что в конце концов подвернула ногу и ее уложили на диван.
Выпивка и танцы продолжались. А бедная девушка, подружка хозяина дома, бросала на молодого архитектора взгляды, исполненные грусти и упрека.
Ее взгляды означали: "Если бы ты вовремя обратил на меня внимание, ничего такого не произошло бы со мной". Еще ее взгляды означали: "Если бы ты со своей красоткой не явился сюда, ничего такого не произошло бы ни с тобой, ни со мной. А так теперь мы оба страдаем".
Какая умница, подумал он о ней, она уловила всю цепочку и поняла взаимосвязь того, что произошло. И только эти двое ничего не понимали. Его красотка и этот ничтожный модный журналист со своими тошнотворными либеральными намеками. Они продолжали танцевать как ни в чем не бывало.
Кошмар, тупицы, думал молодой архитектор и тянулся к рюмке.
После вечеринки он проводил ее домой. Голова его была ясна, но не настолько, чтобы уследить за тем, как разъезжаются его ноги. Идти по заледенелому тротуару было скользко, и ему казалось, что, держа ее под руку, он как бы цепляется за нее и продолжает, как в жутком сне, еще более неловкий и унизительный танец.
О попытке поцеловать ее в подъезде теперь не могло быть и речи. Теперь она была далека, как на Северном полюсе. Добраться до нее, да еще в таком пальто, было абсолютно невозможно. Он попрощался с ней и пошел домой, ничего не сказав о возможности встречи.
Однако испытания того вечера на этом не кончились. Была глубокая ночь.
Недалеко от его дома он заметил, что навстречу ему идут два человека, и он вдруг подумал: что-то будет. В самом деле, они попросили у него закурить. Он протянул им пачку и взял сигарету сам. Дул сильный ветер, поэтому он сначала сам прикурил от спички, а потом протянул горящую сигарету одному из них, чтобы тот прикурил. И тот долго у него прикуривал, и молодой архитектор с бьющимся сердцем тоскливо понял: да, что-то будет! Тот наконец прикурил и, подняв голову, вдруг рявкнул:
- А теперь сымай пальто, падло!
Страх сдунуло. И ему стало яростно и весело. Все-таки нашелся человек, который польстился на его пальто!
Сильным неожиданным ударом он сбил его с ног и повернулся ко второму, готовый и с этим подраться. Но тот явно уклонился от драки.
- Ладно, ладно, пошутить нельзя, - проворчал он угрюмо и стал поднимать своего товарища.
Молодой архитектор благополучно добрался домой. Он с удивлением подумал, что, если бы этот негодяй потребовал от него денег, он, пожалуй, отдал бы ему свой тощий бумажник. Тем более что рука негодяя, когда он рявкнул про пальто опустилась в карман его телогрейки, где, вероятно, лежал нож. Но с этим пальто они его достали! Несколько раз после этого вечера он встречал ее на улице. Она явно шла из института, и ее всегда сопровождали франтоватые студенты. Иногда ее сопровождал один и тот же студент, без компании. Молодой архитектор вежливо кивал ей, она тоже кивала ему, и они проходили мимо друг друга.
Так прошло месяца два. Он сменил свое пальто на вполне приличный плащ, потому что наступила весна. Но это уже не могло ничего изменить, а он продолжал о ней думать. Он не мог забыть о том ощущении странного волшебства, которое его охватило, когда они познакомились и особенно когда они, тихо переговариваясь, сидели в аудитории. Казалось, тайна счастья приоткрылась ему и захлопнулась в гардеробной. И он не мог об этом забыть.
Но в конце концов ему надоело думать о ней. Он решил совсем выкинуть ее из головы и перестал при встречах здороваться с ней. Когда он первый раз прошел, не поздоровавшись, она окинула его долгим удивленным взглядом. И это ему понравилось. Ему показалось, что он поставил ее на место.
Шумная гурьба франтоватых студентов продолжала провожать ее домой. Она царила среди них. Иногда ее провожал один и тот же студент, и как победно, как радостно он вышагивал рядом с ней! Молодой архитектор продолжал одиноко и мрачно проходить мимо нее, не здороваясь. И он заметил, что она каждый раз внимательно вглядывается в него и как бы чего-то ждет.
По-видимому, она решила, что упорство молодого архитектора слишком далеко зашло. Вероятно, она никак не могла поверить в то, что чары ее на кого-то перестали действовать. Было похоже, что она готова простить ему старое мешковатое пальто. Тем более что он теперь был во вполне приличном плаще. А впереди предстояло долгое лето, и в конце концов к осени он мог купить новое пальто. Но он еще был так молод и ему так надоело его одиночество-одно-ночество!
И вскоре молодой архитектор познакомился с милой девушкой, и у них начался довольно бурный роман. Она не только не презирала его старое пальто, но даже, можно сказать, пользовалась им. В каморке, которую снимал молодой архитектор, было всегда прохладно, и они, ложась, накидывали его пальто поверх одеяла. Однако и о той красотке он почему-то никак не мог забыть, хотя и стыдился этого.
Однажды он шел со своей девушкой по улице и вдруг увидел, что навстречу идет она с победно вышагивающим студентом. И она его увидела издалека. И она была потрясена. Она резко отстранилась от своего провожатого, словно отбросила его, и быстрыми шагами, почти переходящими в побежку, стала приближаться. Она жадно вглядывалась в его спутницу и одновременно очень дружески и виновато улыбалась ему. Брошенный студент остановился, ничего не понимая и ошарашенный случившимся. А она быстро-быстро двигалась архитектору навстречу, дружески и виновато улыбаясь и одновременно жадно оглядывая его спутницу.
В ее облике была какая-то безуминка. И ему вдруг захотелось все забыть и все начать сначала! Но он взял себя в руки. Ему потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы не улыбнуться и не рвануться ей навстречу.
Поняв, что он и на этот раз не собирается с ней здороваться, она уже в двух шагах от него вдруг сникла, даже подурнела и прошла мимо. Девушка молодого архитектора, слава Богу, ничего не заметила. Он почувствовал, что это полная победа, но никакой радости она ему не принесла.
Какая красота погибает, наивно думал он, имея в виду, что теперь уже совершенно невозможно восстановить знакомство. Других он считал недостойными ее красоты. Иногда он в себе ощущал такой мощный прилив сил, что был готов срыть этот кургузый город и построить новый. В такие минуты он изо всех сил хватался пальцами за стол или за стул, на котором сидел, чтобы не взлететь на высоту своего воображаемого шедевра. Но этот неожиданный прилив сил, который он порой испытывал, к его удивлению, никто не замечал. Впрочем, опомнившись, он и сам осознавал, что не скоро дождется заказчика, если дождется вообще.
Красотка и в самом деле была потрясена. Возможно, она даже влюбилась в него, потому что впервые в жизни получила от ворот поворот. Этого она еще не могла ни понять, ни принять.
В тот вечер, один придя в свою каморку, он сильно захотел выпить.
Вспомнил, что есть в запасе бутылка вина. Он достал бутылку, но никак не мог найти штопора и стал вилкой выковыривать пробку. Пробка долго сопротивлялась, но он ее наконец выковырял. В борьбе бутылки с человеком всегда побеждает человек, подумал он, усмехнувшись чему-то. Он спокойно выпил три стакана вина, а когда выпил четвертый, вдруг взгляд его остановился на пальто, уныло висевшем на гвозде, и он вдруг так сжал стакан в руке, что он хрустнул и рассыпался. Осколки сильно поранили его ладонь, и обильно потекла кровь.
Он открыл кран и подставил ладонь под холодную струю воды. Теплая боль, теплая кровь и ледяная струя воды успокаивали его. Минут через двадцать кровь перестала сочиться, он перевязал ладонь платком и лег спать. Теперь он окончательно успокоился.
Однажды, побывав в гостях у своих друзей, они вместе со своей подружкой, оба навеселе, вернулись в его каморку.
После близости она вдруг вскочила с постели, полуголая, накинув его пальто, сымпровизировала очаровательный дикарский танец, пародирующий все современные танцы. И танец этот, приперченный насмешкой, пародируя пародийную свободу современных танцев, приобретал истинную свободу и смысл.
Пальто, как бы ликуя и одобряя ее, взлетало и болталось на ней. И она кружилась по комнатке, хорошея и хорошея и каждым движением доказывая неисчерпаемость комических оттенков не только танца, но и всей жизни. При этом она каким-то образом, словно угадывая, прихватывала в своей пародии и его страсть к красотке. И это было так смешно, что он хохотал до слез. Юмор, подумал он, это музыка правды, не требующая доказательств.
Этим танцем, сама того не ведая, она навсегда уложила на лопатки и его, и его красотку, но уложила не рядом, разумеется, но вдали друг от друга.
Вскоре они поженились и покинули этот город. Через несколько лет он стал известным архитектором. И те порывы творческой энергии, которых никто не замечал, остались в его памяти как единственная реальность, связанная с этим городом.
Но ему было суждено еще раз встретиться с красоткой. Через двадцать лет по его проекту и под его личным присмотром, что было гораздо труднее, чем создать проект, учитывая пьянство и вороватость рабочих, был воздвигнут прекрасный курортный комплекс на берегу Черного моря.
Строили вместе иностранные и наши рабочие. Он давно заметил, что иностранные рабочие трудились превосходно, если не соприкасались с нашими рабочими. Но если на стройке они работали вместе с нашими, их хватало почему-то ровно на три месяца. Дальше их можно было отсылать домой. Начав пить с нашими рабочими, они через три месяца теряли всякую работоспособность и уже работали хуже наших работах, которые и в пьяном виде кое-что кумекали.
Почему не добросовестные влияют на разгильдяев, а наоборот? Он часто над этим задумывался и пришел к выводу, что человек от природы больше склонен опускаться, чем подниматься. Это был горький вывод из наблюдений над человеком, но не горше других.
Так вот. Местное начальство пригласило на открытие здравницы почетных гостей из Москвы и других мест. И она приехала сюда с мужем, тайно прославленным генералом. Он где-то, кажется в Африке, кого-то свергал.
Нашему архитектору об этом шепнул директор здравницы. Для генерала генерал очень молодо выглядел. А ее он просто не узнал. Глядя на генерала, он подумал: в нашей дряхлеющей стране молодеют и молодеют генералы. К чему бы это? Не придется ли генералу в следующий раз ехать куда-нибудь поближе, мелькнуло у него в голове.
В разгар банкетного пиршества, когда все подвыпили, жена генерала, поймав его взгляд, вдруг нежно улыбнулась ему и кивнула. Они сидели за соседними столами. И он улыбнулся ей и благодарно кивнул ей в ответ, думая, что она приветствует его как творца этого сооружения. Тем более что в этой праздничной суматохе, с многочисленными общими тостами, об архитекторе, который все это создал, никто не вспомнил.
Она была довольна его приветливой улыбкой, ей показалось, что она наконец победила его упорство и последнее слово осталось за ней. "Боже мой, - вспоминала она, - в каком задрипанном пальто ходил он в нашем городе, и нравился мне, и влюблен был в меня, но за что-то обиделся на меня, гордец, и перестал здороваться". Она никак не могла припомнить, за что он обиделся на нее. "Я же не виновата, что я всем нравилась", - подумала она, припомнив, что всегда была окружена поклонниками. Глядя на него, ей и в голову не могло прийти, что он ее мог не узнать. "Кажется, волнуется, - подумала она. - Я тоже, кажется, волнуюсь".
Но у него была другая причина для беспокойства. Вокруг нового курортного комплекса, сильно нарушая его гармонию, были наляпаны хибарки местных жителей. Их было не очень много, но они были. Чтобы снести эти хибарки, он для их обитателей выстроил новые коттеджи с такими удобствами, о которых они и мечтать не смели.
Но пока шла стройка, эти жулики успели прописать в своих хибарках несметное количество родственников, чтобы потом, перейдя в коттеджи, оставить за собой и хибарки. В курортный сезон лишняя площадь сулила здесь немалые доходы. Предстояла скандальная разборка. Но он был уверен, что победит. Его душу уже обжигал замысел нового проекта. Надо было поскорее освободить голову от всякого мусора, а в таких случаях он бывал неукротим.
_____________________________________
ЖИЛ СТАРИК СО СВОЕЮ СТАРУШКОЙ
В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял полноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным и трезвым он всегда был одинаково весел.
Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.
На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:
— Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.
Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?
На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли? — думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она.
Теперь он ей снился каждую ночь и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:
— Да как же тебе переслать костыли?
— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.
Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.
— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.
Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.
И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.
Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:
— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.
Но старушка уже все обдумала.
— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.
Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.
Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог — он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:
— Видно, и я скоро там буду и встречусь с твоим стариком.
И тут старушка оживилась.
— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не тороплю, — добавила она, — но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.
Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.
— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.
Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.
— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в Мавзолее. А остальным это не под силу.
Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.
— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.
— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.
Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.
— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...
— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. — Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, — не смеши людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...
Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.
— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...
Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.
— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.
— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.
— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.
С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни.
— Что с тобой? — встрепенулась старушка.
Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.
— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.
Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужней. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.
Но что всего удивительней — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.
А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.
Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятущий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.
Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! Пых трубкой! А козы никогда не насытятся.
________________________________________
АВТОРИТЕТ
Георгий Андреевич был, как говорится, широко известен в узких кругах физиков. Правда, всей Москвы.
На праздничные майские каникулы он приехал к себе на дачу вместе с женой и младшим сыном, чтобы отдохнуть от городской суеты и всласть поработать несколько дней в тишине.
Весь дачный поселок был послевоенным подарком Сталина советским физикам, создавшим атомную бомбу. Однако с тех давних пор дачи сильно одряхлели, ремонтировать их не хватало средств. За последние годы, даже еще до перестройки, государство потеряло интерес к физикам: мавр сделал свое дело... Тем более старшее поколение физиков, создававшее эту бомбу, в основном уже перемерло.
На третий день праздников труба в ванной дала течь. Георгий Андреевич пошел в контору. Он знал, что оттуда можно было вызвать одного из двух сантехников. Но работник конторы скорбно заявил ему, что сантехники сами вышли из строя.
— Что с Женей? — спросил Георгий Андреевич.
— Руку сломал, — ответил конторский работник.
— А Сережа?
— Голову разбил. Только что его увезли на машине, — был мрачный ответ.
Георгий Андреевич вернулся на дачу несолоно хлебавши. Трудно жить в России, думал он: прежде чем починить трубу, надо починить слесаря. Нам многодневные праздники ни к чему. Работа невольно заставляет нашего человека делать некоторые паузы в выпивке. Праздничные дни — пьянство в чистом виде.
Однако он не дал себе испортить настроение этой неудачей, а сел работать. Работа — единственное, в чем он еще не чувствовал приближение старости. И тем более было обидно, когда любимый ученик сказал ему об отзыве о нем одного известного физика. Каким ярким ученым был Георгий Андреевич! — вздохнул якобы тот. — Как жалко, что он замолк.
Откуда он взял, что я замолк? — с горьким негодованием думал Георгий Андреевич. За последние два года четыре его серьезные работы были опубликованы в научных журналах. Да тот просто журналы эти не видел! Физики, — во всяком случае, те, что остались в России, — перестали интересоваться работами друг друга. Это тоже было знаком времени. На свои последние публикации он получал восхищенные отклики от некоторых иностранных коллег.
Однако ему было шестьдесят пять лет, и он действительно чувствовал первые признаки старости. Только не в работе. Так он думал. Но, например, процесс еды перестал приносить удовольствие, и он ел не то чтобы насильно, но с некоторым тихим раздражением примиряясь с необходимостью перемалывать пищу. Сколько можно!
Утреннее бритье тоже стало раздражать его. Боже мой, думал он, включая электробритву, сколько можно бриться! Всю жизнь каждое утро бриться! Некоторые его коллеги давно завели бороды, якобы подчиняясь моде возвращения к национальным корням. Он сильно подозревал, что им просто надоело бриться. Сам он никак не хотел заводить бороды. Они при помощи бороды маскируют собственную старость, думал он.
Третьим признаком старости он считал то, что на ночь стал проверять, хорошо ли закрыты дверные запоры. Раньше он никогда об этом не думал. Правда, этот признак старости он мог не засчитывать себе или, по крайней мере, смягчить тем, что, по вполне проверенным слухам, многие дачи их академического поселка ограбили.
Слава Богу, обошлось без убийств. Правда, одного опустившегося физика, пьяницу, воры избили. Он случайно во время грабежа оказался на даче, но был так беден, что из дачи буквально нечего было вынести. Все, что можно было вынести и продать, он уже сам вынес и продал. Воры обиделись и, разбудив его, избили за свои напрасные труды. Тем более у кровати его стояла пустая бутылка. Как будто он один любит выпить!
Но Георгий Андреевич почему-то чувствовал, что его повышенный интерес к замкам и запорам перед тем, как лечь спать, связан не с участившимися грабежами вообще, а с философским старческим отношением к собственности. Тем более он хорошо помнил слова Гете о том, что в молодости мы все либералы, потому что нам нечего терять, а в старости делаемся консерваторами, потому что хотим, чтобы нажитое нами осталось именно нашим детям.
Ничего особенного нажито не было, хотя он был лауреатом нескольких международных премий. Но деньги, на которые он никогда не обращал внимания, как-то незаметно испарились, хотя это было не совсем так.
Оба его старших сына были биологами, и когда они женились, он обоим купил квартиры. Они рано женились. Это было еще в советское время, и один из них, которому он дал деньги на квартиру, просил его, чтобы он, пользуясь своим авторитетом, помог вступить в какой-то кооператив. Но он наотрез отказался. Он презирал этот путь и никогда в жизни не умел и не хотел им пользоваться.
— Я же дал тебе деньги, — твердо ответил он сыну, — дальше действуй сам.
— Деньги — это далеко не главное, — ответил ему сын довольно нахально.
Впрочем, в те далекие, как теперь казалось, советские времена, вероятно, так оно и было.
Зато теперь деньги решали все. Оба его старших сына по контракту работали в Европе. Судя по всему, они были хорошо устроены и в Россию почти не приезжали. Беспокоиться об их судьбе не приходилось. Но он волновался о младшем сыне. Отчасти и это было признаком старости или следствием постарения.
Через пятнадцать лет после второго сына у него родился третий сын. Ему было сейчас двенадцать лет, и отец несколько тревожился, что может не успеть поставить его на ноги. А время настолько изменилось, что однажды сын ему сказал с горестным недоумением:
— Папа, почему мы такие нищие?
Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.
— Какие мы нищие! — воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. — Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!
Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!
Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей скорее всего жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту.
И тогда он подумал, что грешен перед своими детьми: всю жизнь углубленный в науку, не уделял им внимания. Двое старших, слава Богу, без его участия стали вполне интеллигентными людьми и достаточно талантливыми биологами. Да иначе с ними не продлевали бы контракты с такой охотой! Западные фирмы с необыкновенной точностью выклевывали наших самых талантливых ученых! И ему, несмотря на его возраст, приходили выгодные предложения, но он их отклонял. Мы, думал он о своем поколении, так страстно мечтали о новых демократических временах, и если демократия пришла с такими чудовищными уродствами, мы ответственны за это. Уезжать казалось ему дезертирством...
Но дети ни при чем. Да, двое его старших сыновей стали на ноги. Но что будет с младшим? Он увлекается спортом и почти ничего не читает. Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? Может быть, это всемирный процесс? Хотя такие признаки есть, но он отказывался в них верить. Не может быть, чтобы книга, самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником, ушла из жизни!
Он сам стал читать сыну. С каким увлечением он читал ему пушкинский рассказ Выстрел. Он сам чувствовал, что никогда в жизни вслух не читал с таким волнением и с такой выразительностью. Он читал ему минут пятнадцать, и сын как-то притих. Достал! Достал! — ликовал отец про себя: сын подхвачен прозрачной волной пушкинского вдохновения! Однако, воспользовавшись первой же паузой, сын встал со стула и очень вежливо сказал:
— Папа, извини, но это для меня слишком рано.
И вышел из кабинета. Отец был сильно смущен. В словах сына ему послышалось сожаление по поводу его напрасных стараний. Но не может быть, чтобы ясный Пушкин до сына не доходил!
Все-таки он прочел ему несколько книжек, в том числе Капитанскую дочку. Нельзя сказать, чтобы сын не понимал прочитанного. Формальный смысл он легко улавливал. Он не улавливал того очаровательного перемигивания многих смыслов, которое дает настоящий художественный текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. Неужели телевизор и компьютерные игры победили? И тогда он решил пойти самым большим козырем, который у него был в запасе, — он решил прочесть ему Хаджи-Мурата.
И действительно, Хаджи-Мурат несколько растормошил сына. Отец радовался, читая ему эту великую книгу, написанную не только гениально, но и с рекордной простотой. Он думал, что смерть Хаджи-Мурата потрясет сына, но ничего такого не случилось.
— Я так и знал, — сказал сын, покидая его кабинет, как всегда после чтения, со сдержанным облегчением. Все-таки облегчение он сдерживал. И на том спасибо!
Но ведь не был же сын бесчувственным! Отец несколько раз, случайно войдя в столовую с телевизором, видел на глазах у сына слезы. Ясно было, что сын только что смотрел какой-то сентиментальный фильм. Как втолковать ему условия игры книги, ему, так самозабвенно усвоившему жалкие условия игры телевизора?
И нельзя же все время читать ему вслух. Ему уже двенадцать лет. Боже мой, думал Георгий Андреевич, в этом возрасте меня невозможно было оторвать от книги! Более того, он был уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и любимыми книгами. Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, который охватывал его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга была первична.
Нет, надо приучить его читать самого. Но как сын этого не хотел, как морщился, как пытался любым способом увильнуть от этой постылой обязанности!
Здесь, на даче, он с сыном играл в бадминтон. И сын у него насмешливо выигрывал каждый раз. Сын его был очень спортивен, впрочем, как и отец в юности. Отец в очках только работал или читал. Играя с сыном без очков, иногда он просто лупил ракеткой мимо волана. В таких случаях сын безжалостно смеялся. Но отца это почти не трогало. Он с нежностью вспоминал, как всего несколько лет назад он аккуратно и плавно отбивал сыну волан, чтобы тому было легче его принять.
Как летит время! А сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что, в сущности, он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон.
На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему:
— Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу!
— Ты у меня выиграешь... — презрительно ответил сын. — Папа, у тебя крыша поехала!
— Но ты согласен на условия?
— Конечно! Пошли!
— Только дай я очки надену!
— Хоть бинокль!
Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рисковать очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятному удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре.
Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпушились березы, словно излучая тепло, рыжели стволы сосен, и только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени.
На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, неожиданно подумал он, был бы толк в науке. Но это невозможно. И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать ни о чем не думая. Но тогда уж под ними, насмешливо поправил он себя. Нет, сверху, встряхнулся он духом, лежать и думать только о физике.
Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки, игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбить волан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но следовал его примеру.
Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напружинился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачи сына. Тот почти все время умудрялся гасить.
Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправданна. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил: кесарю кесарево, Богу богово. Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить кесарево, то для народа Иудеи это обернется еще большим, безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит непременной кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел. Но свою!
Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына к глубине, Георгий Андреевич пустился на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, поплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине.
...То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие.
...Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом... Удар!
...Если бы Пушкин прожил еще хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой... Удар!
...Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены! Какой стыд!.. Удар!
...Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской: подите прочь, какое дело поэту мирному до вас! И толстовской: не могу молчать! Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость... Удар!
...Задыхаюсь! Задыхаюсь! Нельзя было почти всю жизнь работать по четырнадцать часов! А в застолье по четырнадцать рюмок можно было пить?!. Удар!
...Сейчас много пишут о реформах Столыпина. И это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та? Некрасиво!.. Удар!
...Выражение тихий Дон, кажется, впервые упоминается у Пушкина в Кавказском пленнике... Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... Удар!
...Религиозный взгляд на мир научно корректней атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать: это не нашего ума дело!.. Удар!
...Обширные пространства России всегда вызывали в правителях тайную агорофобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайнее и потому невзвешенное решение... Удар!
...Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятерит агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира... Удар! Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу... Удар!
...Политика! Как говорил Ходжа Насреддин: не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости... Удар!
...Первый признак глупца: количество слов не соответствует количеству информации... Удар!
...Какой маразм! Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус дома! Проклятый телефон! Но он, молодец, догадался сам найти! Маразм... Хотя в момент звонка я был весь в работе... Удар!
...Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее... Удар!
...Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти!.. Удар!
...Подставленная щека воспитывает бьющую руку... Сомнительно. Односторонность подставленной щеки... Удар!
Они обычно играли до двадцати пяти: кто первым набрал двадцать пять очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять — пять в пользу отца он как бы очнулся.
— Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь! — крикнул он. После чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче.
Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал волан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил волан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку.
Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того как он отбивал особенно трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. Однако сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку, он был весь мокрый от пота. Но чем трудней ему было, с тем большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным.
А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца, оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задыхающемуся отцу это казалось чудом. Но игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку.
— Будешь нервничать, будешь хуже играть, — задыхаясь, предупредил его отец.
— Эта ракетка соскальзывает с руки, — крикнул сын, — я пойду возьму запасную.
И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения — и он рухнул бы наземь.
Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точней и свирепей. Сын бил ракеткой по волану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков: когда же вы наконец сдохнете! Авторитет таких ученых, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям.
Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах.
— Завяжи шнурки, иначе не играю! — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю.
Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться. Иначе от переутомления он сам мог грохнуться. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнанный одышкой.
Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца, однако отец выиграл, на два очка опередив сына.
— Ну что, сынок, старый конь борозды не портит? — спросил он, обнимая его и целуя.
— Случайный выигрыш, — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему как к отцу, ища у него утешения. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением.
— Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось, — сказал отец. Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял.
— Завтра я выиграю всухую, — сказал сын с вызовом, приходя в себя.
— Посмотрим, — ответил отец, — но сегодня ты два часа почитаешь.
— А что читать? — спросил сын.
— Двенадцать стульев и Золотой теленок, — ответил отец, — начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.
— Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, — ответил сын.
— Это не фильмы, а книги прежде всего, — пояснил отец.
— Хорошо, — согласился сын, — но завтра я тебя разгромлю.
Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению.
Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим, дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите.
— А наш отец еще ничего, — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением, — но завтра я его расколошмачу.
После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать? — подумал он о предстоящем долгом лете. Впрочем, успокоил он себя, будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть.
__________________________________________
МАЛЬЧИК И ВОЙНА
Мальчик был уже в постели, когда друг отца вместе со своим взрослым сыном пришел к ним в гости. Звали его дядя Аслан, а сына звали Валико.
Это были гости из Абхазии. Мальчик три года подряд вместе с отцом и матерью отдыхал в Гаграх. Они жили у дяди Аслана. И это были самые счастливые месяцы его жизни. Такое теплое солнце, такое теплое море и такие теплые люди. Они там жили в таком же большом доме, как здесь в Москве. Но в отличие от Москвы там люди жили совсем по-другому. Все соседи-абхазцы, грузины, русские, армяне ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и вместе отмечали всякие праздники.
Если кто-нибудь варил варенье, или пек торт, или готовил еще что-нибудь вкусное, он обязательно угощал соседей. Так у них было принято. В доме все друг друга знали, а на крыше была устроена особая площадка, каких не бывает в московских домах, где соседи собирались на праздничные вечера.
И вот сейчас в Абхазии идет страшная война и люди друг друга убивают. Чего они не поделили, мальчик никак не мог понять. Сейчас возбужденные голоса родителей и гостей раздавались из кухни.
— Ты, кажется, воевал? — спросил отец мальчика у Валико. Валико было лет двадцать пять, он был лихим таксистом.
— Да, — охотно согласился Валико. — Вот что со мной случилось. Когда мы ворвались в Гагры, я взял в плен двух грузинских гвардейцев. Отобрал оружие, веду на базу. А со мной рядом казак. Я вижу — эти гвардейцы сильно приуныли. Я им говорю:
— Ребята, с вами ничего не будет, вы пленные.
И вдруг один из них нагибается и вырывает из голенища сапога гранату. Я не успел опомниться, а автоматы у нас за плечами. Видно, отчаянный парень был, вроде меня. Одним словом, кидает гранату в меня, и они бегут. Граната ударила мне в грудь и отскочила. Слава Богу, на таком близком расстоянии она не взрывается сразу. Ей надо шесть секунд. Я прыгнул на казака, и мы вместе повалились на землю. Взрыв, но нам повезло. Осколки в нас не попали. Мне чуть-чуть царапнуло ногу. Вскакиваю и бегу за этими гвардейцами. Они, конечно, далеко убежать не успели. Забежал за угол, куда они повернули, и достал обоих автоматной очередью. Иду в их сторону и думаю, как это нам повезло, что гранатой нас не шарахнуло.
И вдруг вижу — двое, старик и молодой парень, выходят из дому, как раз в том месте, где лежат убитые гвардейцы. А на спине у них вот такие тюки. Перешагивают через мертвых гвардейцев и идут дальше. Я сразу понял, что это мародеры. Мы берем город, значит, наши мародеры.
— Бросьте тюки! — кричу им по-абхазски.
Молчат. Идут дальше.
— Бросьте тюки, а то стрелять буду! — кричу им еще раз.
Молодой оборачивается в мою сторону. А тюк за его спиной больше, чем он сам.
— Занимайся своим делом, — говорит он, и они идут дальше.
Я психанул. Мы здесь умираем, а они барахло собирают. Скинул свой автомат и дал им по ногам очередь. В старика не попал, а молодой упал. Я даже не стал к ним подходить. Надо было в бой идти. Одним словом, Гагры мы отбили.
Проходит дней пятнадцать. Я вообще забыл про этот случай. Живу в гостинице. Все наши бойцы жили в гостинице. В тот день мы отдыхали. Вдруг вбегает ко мне сосед с нижнего этажа и говорит:
— Приехали за тобой вооруженные ребята. Все с автоматами. Духовитый вид у них. Может, помощь нужна?
— Не надо, — говорю, — никакой помощи.
Я вспомнил того, молодого, которого я в ногу ранил. Что делать? А на мне вот эта же тужурка была, что сейчас. Взял в оба кармана по гранате и выхожу. Руки в карманах. Гранат не видно. Готов ко всему.
Вижу, метрах в двадцати от гостиницы стоит машина. А здесь у гостиницы четыре человека. Все с автоматами.
Я подхожу к ним не вынимая рук из карманов.
— Что надо?
— Ты стрелял в нашего брата? Вот он здесь в машине сидит.
— Да, стрелял, — говорю и рассказываю все, как было. Рассказываю, как нас чуть не взорвали гвардейцы и как их брат вместе со стариком тюки тащил из дома. Рассказываю, а сам внимательно слежу за ними. Чуть кто за автомат, взорву всех и сам взорвусь.
И они немного растерялись. Никак не могут понять, почему я, невооруженный, не боюсь их. Стою, руки в карманах, а они с автоматами за плечами. И тогда старший из них говорит, кивая на машину:
— Подойдем туда. Можешь при нем повторить все, что ты здесь сказал?
— Конечно, — говорю, — пошли.
Я иду рядом с ним, но руки держу в карманах. Подошли к машине. Тот, кого я ранил в ногу, сидит в ней. Я его узнал. И я повторяю все, как было, а этот в машине морщится от злости и стыда. Окна в машине открыты.
— Правду он сказал? — спрашивает тот, что привел.
— Да, — соглашается тот, что в машине, и ругает в Бога, в душу мать своих родственников за то, что они его привезли сюда.
А у меня руки все еще в карманах.
— Что это у тебя в карманах? — наконец спрашивает тот, что привел меня к машине. Уже догадывается о чем-то, слишком близко стоит.
— Гранаты, — говорю, — не деньги же. Я воюю, а не граблю.
— Ты настоящий мужик, — говорит он, — мы к тебе больше ничего не имеем.
— Я к вам тоже ничего не имею, — отвечаю ему и иду вместе с ним назад, но руки все-таки держу в карманах.
Так мы и разошлись. Война.
Бывают ужасные жестокости с обеих сторон. Но я, клянусь мамой, ни разу не выстрелил в безоружного человека. Эти двое не в счет. Я же психанул. Гранатой шарахнули в двух шагах.
— А почему ты не с автоматом вышел, а с гранатами? — спросил отец мальчика.
— Если бы я вышел с автоматом, — ответил Валико, — получилась бы бойня. А так они растерялись, не поняли, почему я их не боюсь. Я правильно рассчитал. Я был готов взорваться вместе с ними. И потому твердо и спокойно себя держал. Если бы они почувствовали мой мандраж, кто-нибудь скинул бы автомат. А так они растерялись, а потом было уже поздно.
— Ладно тебе хвастаться, — перебил его отец, — счастливая случайность тебя спасла и от гранаты гвардейца, и от родственников этого раненого. По теории вероятности, если два раза подряд повезло, очень мало шансов, что повезет в третий раз... Учти!.. А ты знаешь, что доктора Георгия убили?
Он явно обратился к отцу мальчика. У мальчика екнуло сердце. Он так хорошо помнил доктора Георгия. Тот жил в доме друга отца. После работы он выходил во двор и играл с соседями в нарды. Вокруг всегда толпились мужчины. Доктор Георгий громко шутил, и все покатывались от хохота.
Однажды доктор Георгий рассказал:
— Сегодня еду из больницы в автобусе. Вдруг одна пассажирка кричит: Доктор Георгий, вас грабят! Тут я почувствовал, что парень, стоявший рядом со мной, шарит у меня в кармане. Я поймал его руку и говорю: Это не грабеж, это медицинское обследование. Автобус хохочет. Многие меня знают. Парень покраснел, как перец. Тут как раз остановка, и я разжал его руку. Он выпрыгнул из автобуса. Если вор способен краснеть, он еще может стать человеком.
— За что его убили? — спросил отец мальчика.
— Кто его знает, — ответил дядя Аслан. — Но он громко ругал и грузинских, и абхазских националистов. Я о случившемся узнал от нашей соседки. Тогда еще шли бои за Гагры, я места себе не находил, потому что не знал, мой сын жив или нет.
Двое вооруженных автоматами людей ночью вошли в наш дом и постучали в двери соседки. Она открыла.
— Нам нужен доктор Георгий, — сказали они, — он в вашем доме живет. Покажите его квартиру.
— Зачем вам доктор Георгий? — спросила она.
— У нас товарищ тяжело заболел, — сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий.
— Зачем вам доктор Георгий, — ответила соседка, — у меня только что умер муж. Он был болен и не выдержал всего этого ужаса. От него осталось много всяких лекарств. Я вам их дам.
Ей сразу не понравились эти двое с автоматами.
— Нам не нужны ваши лекарства, — начиная раздражаться, угрожающим голосом сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий. Он должен помочь нашему товарищу.
С каким-то плохим предчувствием, так она потом рассказывала, она поднялась на два этажа и показала на квартиру доктора. Сказать, что она не знает, где он живет, было бы слишком неправдоподобно для нашей кавказской жизни.
Показав им на квартиру доктора Георгия, она остановилась на лестнице, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но тут один из них жестко приказал ей:
— Идите к себе. Больше вы нам не нужны.
И она пошла к себе. Ночь. В городе еще идут бои. Одинокая женщина. Испугалась. Через полчаса она услышала, что внизу завели машину, раздался шум мотора и стих. Она решила, что это, скорее всего, они увезли доктора. Доктор с самого начала войны успел отправить семью в Краснодар. Он оставался жить с тещей.
Соседка снова поднялась на этаж, где жил доктор, чтобы у тещи узнать, куда они отвезли его и как с ним обращались. Стучит, стучит в дверь, но никто ей не отвечает. Думает, может, испугалась, затаилась. Громко кричит: Тамара! Тамара! — чтобы та узнала ее голос. Но не было никакого ответа. И тут она поняла, что дело плохо. Эти двое с автоматами увезли доктора вместе с тещей. Если доктор им нужен был для больного, зачем им была нужна его теща, которая к медицине не имела никакого отношения? Она вернулась в свою квартиру.
На следующий день обо всем мне рассказала. А что я мог сделать? Спросить не у кого. Да и сам места себе не нахожу: не знаю, жив ли сын.
Но вот проходит дней пятнадцать. Бои вокруг Гагр затихли. Однажды стою возле дома и вижу: по улице едет знакомый капитан милиции. Увидев меня, остановил машину.
— Ты можешь признать доктора Георгия? — спрашивает, приоткрыв дверцу.
— Конечно, — говорю, — он же в нашем доме жил. А что с ним?
— Кажется, его убили, — отвечает капитан, — если это он. Поехали со мной. Скажешь, он это или не он.
Мы поехали на окраину города в парк. Там возле пригорка стоял экскаватор, а за пригорком валялись два трупа. Это был доктор Георгий и его теща. По их лицам уже ползали черви. Я узнал доктора по его старым туфлям со сбитыми каблуками.
— Это доктор Георгий и его теща, — сказал я.
Экскаваторщик уже вырыл яму.
— А почему не на кладбище похоронить? — спросил я.
— Столько трупов, мы с этим не справимся, — ответил капитан.
Он приказал экскаваторщику перенести ковшом трупы в яму.
— Не буду я переносить трупы, — заупрямился экскаваторщик, — у меня ковш провоняет.
Капитан стал ругаться с экскаваторщиком, угрожая ему арестом, но тот явно не хотел подчиняться. В городе бардак. Видно, капитан поймал какого-то случайного экскаваторщика.
Тут я подошел к экскаваторщику, вынул все деньги, которые у меня были, и молча сунул ему в карман. Там было около пятнадцати тысяч. Экскаваторщик молча включил мотор, перенес ковшом оба трупа в яму и завалил их землей.
Мальчик затаив дыхание слушал рассказ, доносящийся из кухни. Он никак не мог понять смысла этой подлой жестокости. Он пытался представить, что думал доктор Георгий, когда его вместе с тещей посадили в машину и повезли на окраину города. Ведь он, когда его вывели из дому вместе с тещей, не мог не догадаться, что его везут не к больному. Почему он не кричал? Может, боялся, что выскочат соседи и тогда и их ждет смерть?
В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о разумности мира взрослых. Он так ясно слышал громкий смех доктора Георгия. И вот теперь его убили взрослые люди. Если бы они при этом ограбили дом доктора, это хотя бы что-то объясняло. Мародеры. Но они, судя по рассказу друга отца, ничего не взяли и больше в этот дом не заходили.
Мальчик был начитан для своих двенадцати лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумней и разумней. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивны и просты, как дети. И это было смешно. И ему казалось, что люди с веками становятся все разумней и добрей. И теперь он вдруг в этом разуверился.
Уже гости ушли, родители легли спать, а он все думал и думал. Зачем становиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не делается добрей? Бессмысленно. Он мучительно искал доказательств того, что человек делается добрей. Но не находил. Впрочем, поздно ночью он додумался до одной зацепки и уснул.
Утром отец должен был повести его к зубному врачу. Мальчик был очень грустным и задумчивым. Отец решил, что он боится предстоящей встречи с врачом.
— Не бойся, сынок, — сказал он ему, — если будут вырывать зуб, тебе сделают болеутоляющий укол.
— Я не об этом думаю, — ответил мальчик.
— А о чем? — спросил отец, глядя на любимое лицо сына, кажется осунувшееся за ночь.
— Я думаю о том, — сказал мальчик, — добреет человек или не добреет? Вообще?
— В каком смысле? — спросил отец, тревожно почувствовав, что мальчик уходит в какие-то глубины существования и от этого ему плохо. Теперь он заметил, что лицо сына не только осунулось, но в его больших темных глазах затаилась какая-то космическая грусть. Отцу захотелось поцелуем прикоснуться к его глазам, оживить их. Но он сдержался, зная, что мальчик не любит сантименты.
— Сейчас людоедов много? — неожиданно спросил мальчик, напряженно о чем-то думая.
— Есть кое-какие африканские племена да еще кое-какие островитяне, — ответил отец, — а зачем тебе это?
— А раньше людоедов было больше? — спросил мальчик строго.
— Да, конечно, — ответил отец, хотя никогда не задумывался над этим.
— А были такие далекие-предалекие времена, когда все люди были людоедами? — спросил мальчик очень серьезно.
— По-моему, — ответил отец, — науке об этом ничего не известно.
Мальчик опять сильно задумался.
— Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, — сказал мальчик.
— Почему? — удивленно спросил отец.
— Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, — ответил мальчик. — Ведь сейчас неизвестно — люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют.
Боже, Боже, подумал отец, как ему трудно будет жить. Он почувствовал всю глубину мальчишеского пессимизма.
— Все-таки люди постепенно добреют, — ответил отец, — но единственное доказательство этому — культура. Древняя культура имеет своих великих писателей, а новая — своих. Вот когда ты прочитаешь древних писателей и сравнишь их, скажем, со Львом Толстым, то поймешь, что он умел любить и жалеть людей больше древних писателей. И он далеко не один такой. И это означает, что люди все-таки, хотя и очень медленно, делаются добрей. Ты читал Льва Толстого?
— Да, — сказал мальчик, — я читал Хаджи-Мурата.
— Тебе понравилось? — спросил отец.
— Очень, — ответил мальчик, — мне его так жалко, так жалко. Он и Шамилю не мог служить, и русским. Потому его и убили... Как дядю Георгия.
— Откуда ты знаешь, что доктора Георгия убили? — настороженно спросил отец.
— Вчера я лежал, но слышал из кухни ваши голоса, — сказал мальчик.
Отцу стало нехорошо. Он был простой инженер, а среди школьников, с которыми учился его сын, появилось немало богатых мальчиков, и сын им завидовал.
Взять хотя бы эту дурацкую историю с мерседесом. На даче сын его растрепался своим друзьям, что у них есть мерседес. Но у них вообще не было никакой машины. А потом мальчишки, которым он хвастался мерседесом, оказывается, увидели его родителей, которые ехали в гости со своими друзьями на их Жигулях. И они стали смеяться над ним. И он выдумал дурацкую историю, что папин шофер заболел и родители вынуждены были воспользоваться Жигулями друзей.
Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем сейчас. Сейчас сын неожиданно коснулся, может быть, самого трагического вопроса судьбы человечества — существует нравственное развитие или нет?
Он знал, что мальчик его умен, но не думал, что его могут волновать столь сложные проблемы. Хорошо было людям девятнадцатого века, неожиданно позавидовал он им. Как тогда наивно верили в прогресс! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны, значит, светлое будущее человечества обеспечено! Но почему? Даже если человек и произошел от обезьяны, что сомнительно, так это доказывает способность к прогрессу обезьян, а не человека. Конечно, думал он, нравственный прогресс, хоть и с провалами в звериную жестокость, существует. Но это дело тысячелетий. И надо примириться с этим и понять свою жизнь как разумное звено в тысячелетней цепи. Но как это объяснить сыну?
Когда они вышли из подъезда, он увидел, что прямо напротив их дома в переулке стоит нищая старушка и кормит бродячих собак. Он ее часто тут видел, хотя она явно жила не здесь. Нищая хромая старушка на костылях кормила бродячих собак. Она вынимала из кошелки куриные косточки, куски хлеба, огрызки колбасы и кидала их собакам.
У него не было никаких сомнений, что старушка все это находит в мусорных ящиках. Она с раздумчивой соразмерностью, чтобы не обделить какую-нибудь собаку, кидала им объедки. И собаки, помахивая хвостами, с терпеливой покорностью дожидались своего куска. И ни одна из них не кидалась к чужой подачке. Казалось, что старушка, справедливо распределяя между собаками свои приношения, самих собак приучила к справедливости.
— Вот посмотри на эту старушку, — кивнул он сыну, — она великий человек.
— Почему, почему, па? — быстро спросил сын. — Потому что она кормит бродячих собак?
— Да, — сказал отец, — ты видишь, она инвалид. Скорее всего, одинокая и бедная, но считает своим долгом кормить этих несчастных собак. Где-то мерзавцы убивают невинных людей, а тут нищая старушка кормит нищих собак. Добро неистребимо, и оно сильнее зла. Теперь представь себе злого человека, который всю свою жизнь травил бродячих собак. Но вот он сам впал в нищету, стал инвалидом и роется в мусорных ящиках, чтобы добывать объедки и, сунув в них яд, продолжать травить бродячих собак. Если бы это было возможно, мы могли бы сказать, что добро и зло равны по силе. Но можешь ли ты представить, что злой человек в нищете, в инвалидности роется в мусорных ящиках, чтобы травить собак? Можешь ты это представить?
— Нет, — сказал мальчик, подумав, — он уже не сможет думать о собаках, он будет думать о самом себе.
— Значит, что? — спросил отец с жаром, которого он сам не ожидал от себя.
— Значит, добро сильней, — ответил мальчик, оглянувшись на увечную старушку и собак, которые со сдержанной радостью, виляя хвостами, ждали подачки.
— Да! — воскликнул отец с благодарностью в голосе.
И сын это мгновенно уловил.
— Тогда купи мне жвачку, — вдруг попросил сын как бы в награду за примирение с этим миром.
— Идет, — сказал отец.
________________________________________
(Перепечатывается с сайта: http://lib.ru.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
