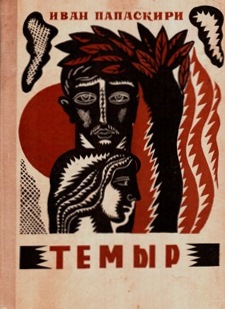
Скачать роман "Темыр" в формате PDF (1,18 Мб)

Об авторе
Папаскир Иван Георгиевич
(12 (25) декабря 1902, с. Кутол, ныне Очамчирского р-на - 1980)
Абх. сов. писатель. Чл. Коммунистич. партии с 1938. В 1928—29 учился в Ленингр. ин-те вост. языков. Сотрудничал в редакции газ. «Апсны Капш» («Красная Абхазия»). В лит-ру вступил в 1932. Первые рассказы П. («Карвальское ружье», «Кунач», «Телушка», «Поминки») воссоздают образы старой жизни. Автор первого абх. социально-бытового романа «Темыр» (1937, в рус. пер. — «К долгой жизни», 1948), повествующего о перестройке абх. деревни, о борьбе с предрассудками и обычаями прошлого. Роману присущи яркая нац. специфика, правдивое изображение человеч. характеров и судеб. В годы войны П. писал рассказы о героизме сов. народа на фронте и в тылу. В послевоен. годы П. опубл. романы «Женская честь» («Аҧҳәыс лыпату», кн. 1—3, 1949, первонач. назв. — «Путь Химур», 1948), «У подножия Эрцаху» (1953), сб. «Рассказы» («Ажәабжьқуа», 1956). Эпопея «Женская честь» — многоплановое произв., рисующее жизненный путь молодой абх. женщины, к-рая сумела выйти победительницей из мн. испытаний. П. — реалист по своему методу, наблюдатель социальной жизни. Его творчество сыграло большую роль в становлении абх. прозы, в создании абх. лит. языка. Произв. П. переведены на рус., польский, груз. и казах. языки.
Соч.: Ђемыр, Аҟуа, 1937; Аҧҳәыс лыпату, т. 1—2, Аҟуа, 1962; Ажәабжьқуа, Аҟуа, 1956; Иҩымҭақуа реизга, т. 1—3, Аҟуа, 1964—65; в рус. пер. — К долгой жизни, М., 1948; Темыр, Тб., 1959; Женская честь, Сухуми, 1967; Рассказы, в сб.: Абхазские рассказы, М., 1950; Рассказы, М., 1962.
Лит.: Дроздов А., Очерки абх. прозы, «Новый мир», 1949, № 4; Квициния И., Проза Ивана Папаскири, «Лит. Грузия», 1964, № 8; Чацба Л., Духовный рост крестьянства в абх. худож. прозе 30-х годов, «Тр. Абхаз. ин-та языка, лит-ры и истории», 1963, т. 33—34; Инал-Иҧа Ш., Иван Папасқьыр, в его кн.: Аҧсуа литература аҭоурых аҟнытә, Аҟуа, 1961.
(Источник: Х. С. Бгажба. Краткая литературная энциклопедия. М., Сов. Энцикл., 1962-1978. Т. 1-9.) |
|
|
|
|
Иван Папаскир
Темыр
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Донеслось первое пение петухов, и Ахмат подумал, что уже рассвело. Он приподнялся на постели, у изголовья лежала свернутая одежда, оделся и открыл дверь. На востоке слабо занимался рассвет. Ахмат перекрестился и вышел во двор.
Телята просовывали бархатистые головы между корявыми перекладинами ворот и поглядывали на маток, пощипывавших свежую, покрытую росой траву.
Собака, лежавшая, свернувшись в клубок, под лестницей, поднялась и, виляя хвостом, подошла к Ахмату. Коровы заметили приближение хозяина и перестали щипать траву; телята плотно прижались к воротам.
Ахмат погладил по голове пятнистого теленка, почесал ногтем его лоб и ласково пробормотал:
— Погоди-ка, погоди, сейчас подпущу тебя к матке...
Он вышел за ворота, чтобы спустить с веревки буйволицу, с вечера привязанную к пню среди ольховых деревьев, обвитых виноградными лозами. Но в рощице он не нашел животного. Старик посмотрел по сторонам, — его взгляд упал на обрывок веревки, лежавший у пня.
— Разорила! Должно быть, забралась в кукурузу.
Шаркая чувяками, он бросился искать и, перемахнув через поваленный, примятый плесень, вбежал на кукурузное поле — след вел сюда.
— Чтоб тебя съели псы! Пропали мои труды! — жалобно восклицал Ахмат.
Он прошел еще немного и увидел виновницу своих волнений; наевшись, она мирно лежала под тенистым деревом и неторопливо жевала.
Увидев хозяина, буйволица перестала жевать, встревоженная, встала и побрела к дому.
Ахмат шел следом и угрожающе замахивался палкой.
— Погубила! Чтоб тебя собаки разорвали...
Животное прислушалось к грозному голосу хозяина и побежало трусцой, ломая стебли; выбравшись из кукурузы, буйволица, снова мирно жуя, будто ничего и не случилось, дошла до ольхового пня, того пня, к которому была раньше привязана, и даже ткнулась в него лбом: «Видишь, хозяин, я знаю свое место».
Ахмат наскоро оплел свежими прутьями сломанный забор и подошел к буйволице.
— Подожди у меня! Я так привяжу тебя, что и святые духи не смогут отвязать!
Он скрепил узлом концы разорванной веревки, вошел во двор, подпустил к маткам нетерпеливых, тихо мычавших телят и подоил коров. Когда он вернулся домой с теплым молоком, жена его Селма еще спала.
— Лежишь, бара [1], чтоб тебя молнией ударило, — проворчал добродушно Ахмат. — Вставай, молоко прокиснет.
Селма упрекнула:
— Что с тобой? Зачем так рано будишь?
— Что со мной? Буйволицу спроси — она тебе скажет! — сердито ответил он. — Уморю ее на привязи, окаянную... — Он взял толстую длинную веревку и хмурый вышел за ворота.
— Ох, как горько во рту, должно быть, заболею малярией, — сказала Селма, потягиваясь.
Она была недовольна тем, что муж так рано подоил коров. Одевшись, Селма пошла на кухню и подбросила в очаг легкие, сухие сучья; когда она снимала с огня вскипевшее молоко, вошла дочь Шазина, — ее в семье звали Зиной.
— Ты так рано встала, мама! Я бы сама управилась.
— А ты зачем поднялась?
— Меня разбудил папа. Он бранился.
— Разве ты только сегодня узнала характер отца? Опять буйволица забралась в кукурузу.
Зина всплеснула руками: ох, эта лохматая, должно быть, все там потоптала!
Девушка выбежала из кухни и через минуту была в поле. Беда! Кукуруза объедена, часть ее вытоптана, повалена. Зина, нахмурившись, принялась поднимать и выпрямлять золотистые стебли. Некоторые еще могли стоять, а для остальных Зина находила палочки и ловко подпирала их. Затем девушка подошла к отцу, починявшему забор, и молча стала помогать ему.
— Иди домой, дад [2], и свари мамалыгу, — сказал Ахмат.
Когда работа была окончена, Зина вернулась домой и приготовила завтрак. Вошел усталый Ахмат, поставил у стены топорик и неторопливо присел; его мысли занимала все та же проказливая буйволица.
— Ну что с ней поделаешь! Подохла бы, что ли! — бормотал он.
Селма проворчала в ответ:
— Буйволица — животное! Что она понимает! Ты сам во всем виноват! Кто же привязывает веревочкой такое огромное животное, да еще с норовом? Так тебе и следует!
— Не то что веревочкой — пароходным канатом привяжешь, и то не удержишь!
Молчали. Слышался только звон посуды, которую Зина ставила на длинный узкий столик. Насытившись, Ахмат заговорил примирительно:
— Сколько от нашей буйволицы зла, а мы все-таки на нее смотрим молящими глазами. Не бойтесь, — Ахмат улыбнулся, — когда она отелится, мы про все забудем.
Селма снова придвинула к мужу миску.
— Это верно, но и убытку от нее немало.
Зина взглянула на отца.
— Только б не лезла она в кукурузу, вот хорошо было бы, папа!
Лицо Ахмата расцвело доброй улыбкой.
— Ох, кто видел скотину без недостатков! Правда, наша очень уж часто забирается в кукурузу, зато и молока дает много.
Зина унесла столик с маленьким кувшином, затем, перекинув полотенце через плечо, подошла к отцу; он внимательно, любовно оглядел дочку.
— Дад Зина, — сказал он, — тебе не хватает одежонки. Хотел бы тебя получше одеть, да вот беда — нет денег. Не попросить ли взаймы у Кадыра?
— Как хочешь, папа, — ответила Зина, протягивая отцу полотенце.
— Кадыр проценты берет, уара! [3] — вздохнула Селма. — Он нас совсем разорит.
— Что ж поделаешь! — вытирая руки, ответил Ахмат. — Зина взрослая, и ее надо приодеть.
Он встал, взял тяжелый посох и вышел из дому.
...Дом Ахмата стоял на возвышенном месте, окруженный мелким, жестким кустарником и зарослями папоротника. С обеих сторон дома протекали две речушки; по берегу одной из них тянулась роща розовато-коричневых грабов, среди которых то тут, то там виднелись привитые фруктовые деревья; их ветви клонились под тяжестью недозрелых плодов.
За колючей ежевичной оградой стояли облагороженные прививкой яблони и среди них — этакий толстяк! — грецкий орех. Даже в огороде Ахмата — и там росли плодовые деревья вперемежку с пахучим лавром и барбарисом.
Тот, кто не знал доброго характера Ахмата, думал с удивлением об этом нерасчетливом человеке, который в дикой роще неведомо зачем прививал деревья.
Но наступало лето, и в домик Ахмата приходили жители поселка, тащились лежебоки, чтобы вволю наесться фруктов. Они устраивались во дворе, под густой тенью граба, лениво острословили и жевали. Ахмат никому не отказывал в фруктах, и люди не стыдились, вовсю пользовались его гостеприимством.
Хотя у Ахмата было уже много плодовых деревьев, но он каждой весной уходил в лес и занимался прививкой диких груш и яблонь.
— Зачем тебе столько? — спрашивали у Ахмата.
В ответ он качал головой.
— Что за труд! Никаких расходов. Зато кто доживет, тот всласть полакомится.
— Сумасшедший Ахмат! — смеялись гости. — Он, вероятно, думает пережить всех.
Так и жил Ахмат — не богато и не бедно. Маленький домик — две комнаты — сбит из досок, кухня крыта соломой. На дворе одна буйволица и две коровы — нужно ли больше доброму человеку, который добывает свой хлеб трудом!
II
Зина легла спать радостная — она уже видела на себе новое платье. Еще до рассвета Ахмат разбудил дочку, и они пошли в городок Очамчира. В лавке Зина выбрала пестренькую материю, и отец купил ей на платье.
Дома Зина сразу же засела за шитье и через три дня била в новом чудесном платье. Когда отец с матерью уходили из дому, Зина, может быть, несколько дольше, чем нужно, вертелась перед маленьким зеркалом, щуря продолговатые глаза и приглаживая распущенные волосы; она заплетала косу и оглядывала свое красивое лицо и плечи — ну что за чудесное платье!
На другой день после того, как Зина надела обнову, она с матерью пошла навестить больную соседку. Вернувшись домой, девушка в своей комнатке остановилась у зеркала, бережно поправила платье на плечах, распустила волосы и тут заметила конверт, засунутый за потемневшую раму зеркала. На конверте было написано: «Шазине». Зина вынула листок и прочла:
«Шазина!
До сих пор я ничего не говорил тебе о моем сердце, но оно беспокоит меня, и этого скрывать я больше не буду. Любовь вошла в мою кровь, стала моим мучением и усилила мое горе. Люблю тебя! Хочу встретиться с тобой там, где нас никто не увидит, и прошу тебя — не говори «нет». До скорой встречи!
Темыр».
Письмо удивило Зину, и она долго стояла, позабыв даже о своем платье. Не подбирая волос, девушка терялась в догадках и не могла понять, как письмо попало в комнату? Утром его еще не было, а уходя, она закрыла дверь...
Зина, радостно улыбаясь, еще несколько раз прочитала письмо.
— Хоть бы скорей его увидеть! — прошептала она, глядя в зеркало.
В дверях показалась Селма.
«Что это я держу письмо на виду!» — испуганно подумала девушка и спрятала конверт за ворот платья, на груди.
Зина умела читать и писать. Маленькой она три года ходила в школу. Однажды, когда мать заболела, девочка осталась дома; Селма выздоровела и уже не пустила дочь в школу. «Зачем девчонке ученье! Пускай помогает по хозяйству. Так лучше будет».
Зина горевала, плакала, но ослушаться не посмела.
Темыр жил в Алашара — там же, где и Зина, но только в другом конце деревни. Девочкой Зина ходила в школу, где учился и Темыр. Оба по-детски дружили и делились всем, что было у них. Сидели они на одной парте и вдвоем читали одну книжку.
Темыр оставил школу вскоре после Зины — именно тогда, когда неизвестно кем был убит его брат Мыта.
Мальчик и девочка подросли; былая дружба осталась неизменной. Так выросли они, еще более привязавшись друг к другу, хотя об этом не говорили; подростки стыдятся даже думать о своих чувствах, но вместе с тем каждый хорошо знает, что переживает другой.
Сверстники любили Темыра — он рос хорошим малым. Когда, простодушно и громко смеясь, Темыр болтал с друзьями, его никто не мог заподозрить в чем-либо затаенном. Он, казалось, весь — полная откровенность.
А как хорош стал Темыр, выровнявшись в статного парня! Он носил серую черкеску, плотный ряд газырей с белыми головками украшал его выпуклую грудь, кинжал довершал наряд юноши. Зина опускала глаза, встречая того, с кем когда-то сидела на одной парте.
Темыр был очень беден. Уже давно его хозяйство пришло в упадок. Крытый соломой домик, сплетенный из прутьев, покосился, кровля разъехалась, а кухоньку подпирали десятка два жердей. Разрушались и плетни. Ни кукурузника, ни хлева или сарая, ни одной новой постройки не было на дворе Темыра. Правда, двор блестел, как зеркало, — ни соринки...
Все это видела Зина и печалилась о друге своего детства. Да и односельчане призадумывались над жизнью парня. «Здесь, должно быть, умер хозяин», — говорил всякий, еще не зайдя во двор. Но в непривлекательной с виду хижине все было чисто, все прибрано и расставлено по местам; старенькие, потертые коврики украшали стены. Зайдя в саклю, любой сказал бы, что молодой хозяин полон сил, но, вероятно, какие-то беды мешают ему отдаться своему хозяйству, что-то его тяготит.
Но что? Об этом никто не догадывался.
III
Отец Темыра, Пахуала, был человек тихий, скромный, жил в бедности. Недобрые соседи не давали спокойно жить Пахуале, но больше всего он терпел от воров; не мог завести хорошей скотины — ее тут же крали, словно она находилась без присмотра. Когда к вечеру корова или лошадь не возвращалась, Пахуала уже знал, что он обворован. Немного поискав, он ни с чем возвращался домой и, полный безнадежности, прекращал поиски.
Пахуалу погубил проживавший в деревне князь Мурзакан. Случилось это так.
Была весенняя пора. Фруктовые деревья расцвели и стояли в легком, благоухающем пуху. В густых лесах и на веселых холмах среди мелкого кустарника ярко пестрели цветы. Скотина, похудевшая в зимнюю бескормицу, разбрелась по лужайкам, греясь под теплыми золотистыми лучами солнца. Крестьяне пахали поля.
Работал и Пахуала, с добрым чувством прислушиваясь к веселым голосам, доносившимся отовсюду. Наступил вечер; Пахуала пригнал волов к дому и запер за ними ворота, просунув кол в ивовые петли.
Лег спать он в ту ночь с легким сердцем, как человек, не знающий горя; его дремотные мысли были заняты пахотой, и вскоре он погрузился в сладкий сон.
Проснулся Пахуала задолго до рассвета и вспомнил, что ни разу ночью не взглянул на волов. Он торопливо вышел из домишка и пошел к хлеву. Волов на месте не было, ноги Пахуалы подкосились, и он подумал, что такого несчастного, как он, еще не было на свете.
«Хоть бы скорей наступил рассвет», — томился он и долго бродил вдоль ограды, пока медлительное солнце не показалось из-за далеких горных хребтов и розовый солнечный блик не заиграл на жалкой крыше его домика.
Пахуала торопливо пошел по следам волов. Уже высоко поднялось солнце, когда следы животных привели его к воротам Мурзакана. Сердце его. упало. Он терялся в нерешительности: зайти или нет? Он долго стоял у ворот князя в тягостном раздумье. Уж очень хорошо знал Пахуала Мурзакана и боялся участи человека, о котором сказано, что он лишился курицы, а вслед за этим и асацбала [4].
Опустил голову бедняк и побрел было домой, но потом вернулся, подошел к воротам и, затаив дыхание, тихонько приоткрыл калитку. Он сразу же увидел своих волов — они жевали сено в углу двора. Как в лихорадке, Пахуала затрясся всем телом, его лицо покрылось мертвенной бледностью. Волы были так близко! Волосы зашевелились на голове, и хотелось умереть, — пусть его закопают на том же месте, где он стоит.
Пахуала подошел к кухне и услышал громкие голоса слуг Мурзакана. Войти в кухню Пахуала не решился; он скрестил на груди руки, прислонился к столбу и мрачно взглянул на волов.
Вышли двое слуг. Один из них знал Пахуалу.
— Тебе кого нужно, сосед?
Пахуала видел только волов. Слова слуги будто разбудили его; он медленно отклонился от столба и поднял на слугу потухшие глаза:
— Разве не видишь, дад: сегодня погасла опора моего очага.
— Что с тобой? — сочувственно спросил слуга.
— Эти волы мои. Оба! Без них нет у меня жизни. Их ночью, этой ночью, увели с моего двора.
Слуга помрачнел, опустил глаза.
— Видишь, двор полон скота, — произнес он негромко. — Все это чужой скот, его сюда привели недавно. — Слуга наклонился к Пахуале. — Многие, как и ты, мучились и тоже приходили сюда, но никто, ни один человек не увел обратно своей скотины.
Пахуала простонал:
— Неужто невозможно помочь мне?
— Не знаю, друг мой, такого средства.
Пахуала молчал. Слезы покатились по его густым усам, дрожь прошла по всему телу. Он поднял голову.
— Мурзакан дома?
— Он отдыхает.
Другой слуга махнул рукой, подошел к волам Пахуалы, взял одного за рога и повел к месту убоя. Пахуала застыл в оцепенении, даже слезы перестали литься. Но затем оттолкнул того, с кем говорил, и подбежал к слуге, державшему вола. Ярость свела потемневшие губы Пахуалы.
— Куда ведешь его?
Слуга сурово взглянул на Пахуалу.
— Или не видишь куда? Забивать!
Он потянул вола за рог.
— Не дам! Он мой!
Пахуала раскинул руки, загородил дорогу.
— А ну-ка, отойди!
И Пахуала отлетел в сторону, отброшенный сильным ударом в грудь, но, удержавшись на ногах, опять ринулся на слугу.
В это время на веранду выплыла грузная фигура Мурзакана; покручивая усы, он громко кашлянул, сплюнул и, увидев сцепившихся слугу и Пахуалу, поднял брови.
— Эй, кто там дерется? — окликнул он басистым голосом.
Слуга, оттолкнув Пахуалу, подбежал к веранде.
— Да вот он не дает вола забить, ухацкы сцейт[5].
Заплывшие глаза Мурзакана налились кровью, веки покраснели:
— Какой собачий сын затеял драку на моем дворе? Ко мне его!
Пахуала подбежал к Мурзакану, опустился на колени, схватил полу черкески и приложился к ней губами.
— Тебе что нужно, негодяй?
Князь толкнул ногой Пахуалу, и Пахуала упал навзничь; лежа, он жалобно, тихо стонал:
— Мои волы! Мои единственные!
Мурзакан пнул его еще раз.
— Из-за волов приходишь в мой дом затевать драку, негодяй!
Пахуала задыхался, и то, что он метался, лежа на земле, и стонал, еще сильнее раздражало Мурзакана. Он крикнул слугам:
— Эй, живее!
На его зов бросилось несколько парней.
— Чтоб я никогда не видел этого дрянного старика! Ну-ка, возьмите его да привяжите к стволу клена.
Не взглянув на Пахуалу, Мурзакан тяжело зашагал к двери; слуги схватили несчастного и привязали к дереву, туго стянув его веревкой. Веревка врезалась в тело, кожа горела как в огне. Но, не чувствуя боли, Пахуала и теперь не сводил пристального взгляда со своих волов, точно вкладывал в них остаток души.
Время близилось к полудню. Во двор въехали всадники; весело болтая, они спешились у дома. Дворня засуетилась: шумно стало в усадьбе, готовились к большому пиру. Слуга все-таки повел вола Пахуалы к месту убоя.
Когда Пахуала увидел это, ему почудилось, что смерть коснулась его самого, струйки пота побежали по телу.
Когда же через некоторое время слуги сдирали с вола шкуру, голова бедного Пахуалы бессильно свесилась на плечо, и он уже не слышал, что в усадьбе кипит безудержное веселье, что в доме гремит посуда и звенит стекло, — там пили вино, ели мясо, смеялись...
Вечером Мурзакан разрешил отвязать Пахуалу, и его выпустили со двора; он уходил обессиленный, молчаливый и только в последний раз бросил долгий взгляд на другого вола, который пасся во дворе; что ж, и этот вол — навеки потерянное добро.
Пахуала вышел за ворота, с трудом передвигая ноги. Он медленно брел по дороге в тяжелом, почти бредовом состоянии и так пристально время от времени вглядывался в окружающее, словно впервые увидел мир. Он вошел в свой двор, подошел, как к могиле, к хлеву, взглянул на лужайку под ольхами, где обычно паслись волы, а затем вошел в хлев, оглядел его и долго-долго не мог оторвать взгляда от яслей.
В кухне Пахуала с трудом снял рубаху: она приклеилась к телу кровью; кожа была в темно-розовых шрамах с рубцами, почерневшими, как уголь. Застонал Пахуала и бессильно свалился на свое твердое ложе.
...У многих крали скот, и часто следы вели к дому Мурзакана, но ограбленные редко входили в ворота княжеской усадьбы. Они смиренно возвращались домой, зная, что правды не добьются. Мало того, что пропавшего не вернешь, — сам погибнешь. Мурзакан часто говорил: «Не только ваш скот — все вы мне принадлежите, собаки».
В этом селе ни один крестьянин не мог выехать на хорошей лошади. «Для чего мужику добрый конь!» — рассуждал Мурзакан, и его люди приводили на княжеский двор коня.
...Однажды Мурзакан пришел на сход. Крестьяне кинулись к нему поддержать стремя. Они мешали друг другу. Мурзакан растолкал их ногой, слез с коня, ударил плетью по земле и направился к дереву. Старшина торопливо вынес из сельского правления скамейку и поставил ее в тени раньше, чем подошел князь.
Мурзакан не спеша сел, положил ногу на ногу. Крестьяне стояли, — он и не предложил им сесть. В это время на ладном коне подъехал хорошо одетый молодой крестьянин, и князь поманил его к себе. Парень направился к дереву.
— Откуда? — отрывисто спросил Мурзакан.
— Из Акуарчи, ухацкы сцейт!
— Тебе кто дал такого хорошего коня?
— Своими руками вырастил...
— Хорошо, что своими. А седло где купил?
— Седло в Зугдиди купил.
— Так, — покачал головой Мурзакан, не сводя глаз с крестьянина.
Люди переглядывались, настороженные словами князя; его расспросы никогда не сулили ничего доброго. Мурзакан часто посматривал помутневшими глазами на револьвер и на серебряный кинжал молодого крестьянина; помолчав, он отрывисто спросил:
— Где сшил черкеску?
Парень изменился в лице, его испугал этот слишком подробный допрос. Он задумался и долго не отвечал, а Мурзакан, нахмурившись, смотрел на него в нетерпении. Неожиданно встав и выпрямившись, он зычно спросил:
— Как тебя зовут?
— Алиасом.
— Дай-ка мне твою плеть! — И князь протянул руку.
— А зачем тебе моя плеть?
Глаза Мурзакана заблистали.
— Тебе кто позволил сидеть на лошади ценой в шесть пядей? [6] Кто позволил так разодеться, да еще появляться в таком виде там, где бывают князья? Зачем тебе такой конь? Ты бы мне его подарил.
Покрасневшие глаза Мурзакана, казалось, готовы были выскочить из орбит.
— Без стеснения говоришь князю, что купил седло в Зугдиди. Разве твой отец когда-нибудь ездил в такую даль — в Зугдиди! Где старшина?
Старшина подошел к Мурзакану, вытянулся, его пальцы дрожали.
Алиас гневно и беспокойно глядел на Мурзакана.
— Сейчас же подрежь полу черкески [7] у этого бесстыжего.
Старшина искоса посмотрел на черкеску Алиаса.
Мурзакан заорал:
— Подрежь, говорю!
Старшина вытащил нож и, быстро нагнувшись, хотел под резать полу. Алиас отшвырнул ногой старшину и так же бешено, как князь, заорал:
— Не подходи!
Он схватился за револьвер. Крестьяне бросились к нему, а Мурзакан спрятался за ствол орехового дерева.
Алиаса постигла неудача — его свалили и отняли оружие. В свалке он нанес немало веских ударов, но и ему тоже пришлось отведать тумаков.
В этом селе Алиас был бессилен перед врагом: здесь было немало молочных братьев [8] Мурзакана; на рождество и на пасху они носили ему подарки, и многие крестьяне были слугами князя, те же, кто не любил Мурзакана, опасались его разгневать.
Все это понимал Алиас и, когда у него отобрали оружие, сразу же присмирел. Старшина нагнулся и коротко обрезал полу черкески, отхватив заодно и край красивого архалука. Не помня себя, Алиас все так же стоял на месте, растерянно глядя на обезображенную одежду, а затем молча бросился из толпы на дорогу и тут вновь увидел Мурзакана: князь сидел на коне Алиаса и в сопровождении всадника направлялся к своей усадьбе.
IV
Стояло жаркое лето. Прихотливо изломанные острые горные хребты то призрачно синели, то розовели, купаясь в солнечных лучах; блестели пятна снежных обвалов. Снег накапливался и таял в низинах.
Солнце в этот день было таким знойным, что, казалось, оно испепелит разомлевшую землю; на высоких покатых склонах, обращенных к солнцу, трава стояла выжженной, сухой. Истомленный оводами скот рассеялся по берегам речек, прятался в короткой тени кустарника. В раскаленном воздухе плыло марево.
Зина к полудню бросила работу в поле и пошла домой. Прикрыв двери, она легла отдохнуть и, утомленная, скоро уснула. В доме было тоже нестерпимо жарко. Духота не дала спать Зине; она поднялась в испарине, приоткрыла дверь и посмотрела на солнце, спускавшееся бронзовым кругом к горизонту. Тут Зина вспомнила про телят, наспех оделась и поспешила на двор, чтобы напоить их. Но телят на месте не оказалось.
— Вот несчастье! — пробормотала Зина.
Она быстро побежала вдоль плетня разыскивать телят. В одном месте, на кольях, виднелись клочья шерсти; здесь девушка перелезла через плетень и направилась по следу. Она прошла рощу, перебралась через речку. Но и здесь телят не было.
«Куда они завели меня? — сердито подумала Зина. — Пусть их хоть волки разорвут».
Колючки жалили колени, и на нежной коже выступали капельки крови.
«И ты мне мешаешь, гадкая колючка, чтоб ты сгорела!»
Сдвинув тонкие брови, Зина притянула к себе ветку фундука — мелкого орешка, оторвала листок и стерла им кровь с колена. На дороге кто-то со свистом щелкнул плетью. Ах, да это едет Темыр!
Сердце девушки забилось чаще. Она бросила потемневший от крови листок, выбежала на тропинку, подумав: «Пусть Темыр сейчас скажет о своем письме...» Теперь Зина не обращала внимания на расстилавшиеся по земле ветки колючей ежевики.
Темыр увидел девушку и проворно соскочил с лошади. Молодые люди обменялись взволнованными взглядами. Первым овладел собой Темыр и тихо спросил:
— Как поживаешь, Зина?
Смущенная девушка глядела в сторону и еле ответила на приветствие: где уж тут ей справляться о письме!
Темыр заговорил, не подымая глаз:
— Мне хотелось, Зина, сказать тебе кое-что, а здесь не очень удобно — на дороге. Можно отойти в сторону.
И он взглянул на нежное лицо девушки, смутившись не меньше ее. Зина еле внятно произнесла, что она согласна, и тихонько свернула на тропинку, по которой только что шла. Все-таки Темыр должен ей что-нибудь сказать о письме. Он молча вел лошадь под уздцы и следовал за девушкой. Отойдя немного, они остановились.
— Мы встретились случайно, — торопливо произнес Темыр. — Ведь тут нет ничего неприличного, не правда ли? Кто увидит нас в лесу? Ни голубь, ни какая другая птица наших слов не перескажет.
Зина чуть улыбнулась. Она ломала веточки, сдирая пахучую коричнево-зеленую тонкую кожицу.
— Ты знаешь, Зина, живу я в сакле один, близких лишился, добра у меня немного, о тебе, Зина, я думаю день и ночь, живу тобою, люблю тебя, но...
На этом «но» он оборвал речь и так тяжело вздохнул, словно на его плечи давил невидимый груз. Зина увидела, как его рука, державшая повод, задрожала. Он крепко прижал ремешок плети к черешневому кнутовищу и подавленно продолжал:
— Любовь к тебе мучает меня, и часто в тоске я не помню, что делаю, что говорю. — Он встрепенулся. — Знаешь что со мной произошло?
Зина вопросительно подняла брови.
— Это было совсем недавно. Был полдень. Я расстелил в тени коврик, подложил под голову валик и...
Зина подумала, что он сейчас скажет о письме.
— Мне показалось — что-то сильно ударило по голове, я приподнялся, а с головы слетел легкий листок ольхи, всего только листок. Подняв его, я подумал: «Это он виноват в том, что у меня горе». Какая странная мысль, правда, Зина?
Зина, бледная, смотрела на Темыра.
— И я опять с горьким чувством ощутил свое положение. Ведь вот другие отдаются делу, хозяйству, у них есть надежды, они строят дома, а я думал, что у меня нет ничего, кроме худой сакли, — я одинок, я беден, и я так тебя люблю, Зина!
— Что же дальше?
— Тут чей-то голос окликнул меня. Это был твой отец, он искал буйволицу. «Что с тобой, дад, не болен ли?» — спросил он. А я так смутился, что, убей меня он, — кровь не пошла бы. Я даже не заметил, как он открыл ворота, и не услышал топота его коня.
Темыр дрожащими пальцами крепко сжал плеть.
Зина далеко отбросила изломанную веточку.
— Почему ты раньше не говорил о себе?
— Что сказать! То, что сейчас... пустое!..
Зина молча заплетала и расплетала кончик косы; она почувствовала, что по щеке сползает слеза, и вытерла ее косою.
— Если сказать правду, мне надо, Зина, разобраться в одном трудном деле. Как только это сделаю, тогда поговорим...
Темыру хотелось взять девушку за руку, но он не осмелился.
— Если ты не возражаешь, через неделю в этом же месте в полдень мы встретимся, а до того времени я уже во всем разберусь... или, по крайней мере, пойму.
Зина с усилием ответила:
— Посмотрим, вспомнишь ли ты обо мне через неделю.
Слова девушки показались Темыру холодными, ему так хотелось, чтобы Зина прониклась его тревогой.
А Зина раздумывала: что с Темыром? Может быть, ему стыдно того, что у него нет хорошего хозяйства? Она устремила взгляд, затуманенный слезой, на вершины молодых дубков и словно засмотрелась на них. Ее грусть тронула Темыра, и он произнес потеплевшим голосом:
— Ты все, все узнаешь, но ты уже и сегодня облегчила мое горе.
— Чем? — прошептала она.
— Тем, что ты любишь меня. И вот я уже спокоен: есть у меня на свете один-единственный человек, который любит меня. Что же, ты согласна встретиться через неделю?
— Согласна.
Теперь он осмелился взять руку Зины, посмотрел на ее пальцы, перебирая их, но Зина, улыбнувшись его тихой, осторожной ласке, легким движением отняла руку.
— Через неделю! — бодро произнес Темыр и поправил седло, подтянул подпругу.
Зина подержала стремя. Она вспомнила о конверте, положенном за зеркало, но что теперь конверт! Все уже сказано, и Зина будет ждать до новой встречи ровно через неделю.
V
Темыр уехал. Зина, задумавшись, медленно пошла в деревню.
Вдруг перед нею появился Мыкыч; он держал в руке топорик и, должно быть, пришел сюда, в кустарник, за хворостом, но, заметив Темыра и Зину, притаился за густым папоротником.
«Что, дрянь, застиг тебя!» — думал он теперь.
Хмуро и дико глядя, стоял Мыкыч перед оторопевшей Зиной. Она боялась сделать шаг вперед или назад. Мыкыч всегда преследовал ее, искал встречи наедине, и девушка понимала, что у парня были скверные намерения. Она испуганно спросила:
— Почему ты здесь?
Мыкыч не спеша сунул под мышку топорик, ближе придвинулся и, разгладив морщины на лбу, вкрадчиво заговорил:
— Ах ты, бедняжка, да ведь Темыр обманывает тебя! Он гадкий человек и только притворяется, что любит. Или ты не слышала, как он поступил с Такуной?
Сердце Зины замерло, она молчала.
— Он Такуну обманывал, как и тебя, обещал жениться. Когда Такуна поняла, что этому пролазе нужно, она его просто прогнала.
— Выдумываешь!..
— Выходит, я же и обманываю тебя. Ну, хорошо, пусть он любит тебя, но разве вы пара? Или ты не слыхала, каким был его отец: все помыкали им как хотели. Разве это не Пахуалу Мурзакан привязал к дереву!
Зина сердито воскликнула:
— А при чем тут Темыр, если его отца привязали к дереву?!
Мыкыч ухмыльнулся:
— Если бы Темыр был порядочным человеком и была бы у него совесть, он давным-давно разыскал бы убийцу своего брата и отомстил за него.
Зина была ошеломлена.
— Пропусти меня, — сказала она отрывисто и решительно, — я разыскиваю телят.
Она отшатнулась от Мыкыча и быстро пошла вперед.
— А когда с Темыром разговаривала, — крикнул он злобно, — тогда не надо было искать телят! Подожди, я тебе все докажу, я тебе все открою!
Он преградил ей дорогу, протянув топорик.
Зина остолбенела — так ее ошеломила дерзость парня. Она крепко стиснула зубы и молчала.
— Ты слишком загордилась! — продолжал Мыкыч. — Погоди, скоро твой любимец станет общим посмешищем. Все равно Темыр только жалкий последыш ничтожного, трусливого Пахуалы.
Мыкыч ядовито прибавил:
— Да, да, уж лучше бы твой любимец хоть дранкой покрыл свою крышу.
Зина презрительно глядела в злобно возбужденное лицо Мыкыча.
— Опусти-ка свой топор, я его не боюсь. Ты ничего не скажешь такого, чего бы я не знала о Темыре. Что плохого он тебе сделал?
Мыкыч пожал плечами и коротко рассмеялся:
— Он-то? А что может сделать этот последыш труса, какое зло он мне может причинить?
— Зачем же ты так говоришь о нем?
— Мне тебя жаль, потому и говорю. Вот выйдешь за этого ничтожного человека и пропадешь, непременно пропадешь. — Мыкыч опустил топорик, и глаза его заиграли недобрым блеском. — Ведь скорее я мог бы поухаживать за тобою, а не этот ничтожный человек. Честное слово, ты стоишь того, чтобы я поухаживал за тобою!
— А что у меня с тобою общего? — спросила Зина.
— У нас с тобою много общего. — Мыкыч притворился задумавшимся, но тут же схватил девушку за плечо. — Я люблю тебя, ужасно люблю...
Зина резко оттолкнула его:
— Отойди!
Топорик выскользнул из руки Мыкыча. Нагибаясь, чтобы поднять его, он злобно взглянул на девушку, и Зине стало не по себе, но она не поддалась чувству страха, насупилась. Мыкыч понял: дав волю злобе, он проиграет дело. Он опять спрятал топорик за спину и попытался улыбкой сгладить злое выражение лица.
— Я так давно люблю тебя, и этот последыш Пахуалы только помеха нам.
Мыкыч вытащил из кармана легкий шелковый платок, белоснежный, как свежий творог, и с гордостью показал его Зине, а затем очень медленно, пытаясь возбудить любопытство девушки, развернул его складки — в них лежало золотое колечко.
— Хочу подарить тебе это... Платок и кольцо!
Он протянул подарок Зине, но она, не прикасаясь к вещам, сердито ответила:
— Пусть при тебе останется.
Порыв ветра смахнул платок вместе с кольцом с ладони Мыкыча.
Мыкыч только зубами заскрипел, глядя вслед уходящей Зине, а она, рассерженная, быстро шагала, торопясь уйти от парня. Он хотел было догнать ее, но ему пришлось искать упавшее колечко; найдя кольцо, Мыкыч схватил его с жадностью, словно курица кукурузное зерно, и погнался за девушкой, но Зина успела выйти на шоссе, где медленно ехали всадники, и пошла впереди них.
Мыкыч почернел, как чугунный котел, насупившись, он притаился за густыми зарослями папоротника у самой дороги и сердито думал: «Иди куда хочешь. Я вас обоих прикончу — тебя и Темыра!»
VI
Когда Ахмат вернулся со схода, уже смеркалось. Сварившаяся мамалыга пыхтела в котле. Очажную цепь освещало пламя, по скромной кухне Ахмата распространялся сладковатый запах. Старик сел у очага и спросил дочь о буйволице и телятах.
— Развела по местам, папа, — ответила Зина; ее пальцы проворно заплетали тяжелые косы.
Ахмат сунул поглубже в огонь полуобгоревшие поленья и принялся рассказывать обо всем, что слышал на собрании в сельсовете.
— Хорошим юношей стал Темыр, — заметил он. — Совсем не похож на своего отца: тот ведь был так жалок! Пошли бог Темыру долгую, добрую жизнь. А уж как хорош парень, весь с ног до головы чистое золото!
Зина не доплела косы, отошла к столику в углу и с головой ушла в работу.
Отец продолжал:
— Да, вот еще что... большая новость! В помощь государству мы, говорят, должны внести деньги. Некоторые не хотели идти на это, в особенности противились люди Мыкыча. Ну, а Темыр, ты знаешь, он так редко бывает на людях... он встал и горячо сказал в защиту: ведь эти деньги нужны нашей советской стране. И он первый внес десять рублей.
Зина спросила из своего угла:
— А ты что-нибудь дал, папа?
— А как же, дал! Дал столько, сколько имел, — конечно, совсем мало.
Селма, до сих пор напряженно молчавшая, с неожиданной живостью обернулась к мужу и торопливо спросила:
— Сколько ты дал?
— Да у меня только и было, что пять рублей, все и отдал.
— Ах, чтоб ты добра не видал! Иногда ты бываешь просто сумасшедшим.
Муж и дочь взглянули на старуху. Зина спросила:
— Что случилось, мама?
— Как что? — негодующе ответила Селма. — Какой там заём, когда мне так нездоровится, и я хотела завтра пойти к знахарю и так надеялась на эти деньги!
Ахмат вскипел. Куда девалось его добродушное настроение!
— Чтобы вы оба добра не видели — и ты, и твой знахарь! Я уж думал, бог знает что случилось, так ты меня напугала. — Он вздохнул и позвал дочь: — Иди-ка сюда, Зина, помоги мне снять ноговицы и, ради бога, не слушай того, что она говорит.
Он принялся стаскивать потертые, морщащиеся на икрах ноговицы; Зина, обойдя пылающий очаг, посмеиваясь, подошла к отцу.
Селма, исподлобья глядя на дочь, угрюмо спросила:
— Чему смеешься?
— Ты все еще, мама, веришь в знахарей и, чуть что заболит, бежишь к ним. Ты уже всех наших кур перетаскала, а теперь будешь носить и наши гроши.
— Потише, потише, чертовка! Не твоего ума дело судить о знахарях. Ты себя веди, как полагается девушке.
Зина нагнулась и потянула ноговицу, слегка упершись ладонью в колено отца; она поглядывала через плечо на мать и все так же смеялась.
Ее смех злил Селму, а Ахмат, подставив ногу и шевеля ступней, приговаривал, подливая масло в огонь:
— Так ее с ее знахарями, так, дочка!
— Вот подожди, мама, — сказала Зина, держа в руке ноговицу, — я выписала «Апсны капш», в газете пишут, как дурачат знахари.
Селма была так взбешена, что даже не ответила. Задыхаясь от гнева, она сунула ноги в домашние деревянные сандалии и, постукивая ими, плотнее уселась, подперла рукой острый подбородок и принялась чертить хворостинкой узоры по теплой податливой золе.
Зина сняла с огня тяжелый котел, поставила его на подставку и деревянной лопаткой начала помешивать мамалыгу, издававшую глухой, пыхтящий звук.
Ахмат помолчал столько, сколько надо было для того, чтобы улегся яростный, немой гнев жены, и, как бы ища примирения, сказал:
— Что за отвратительные все-таки эти люди Мыкыча, да и сам Мыкыч весь пошел в отца!
Селма неодобрительно молчала.
— Такой пройдоха, — робко и все так же примирительно говорил Ахмат. — Сегодня, когда он заспорил с Темыром, я сразу же вспомнил его бешеного отца... Чего только не делал раньше Кадыр, как только он не подличал. Помню, когда он был старшиной, то растратил восемьсот рублей народных денег. Народ возмутился и пожаловался властям.
— Для чего ты это рассказываешь? — неодобрительно спросила старуха.
— А вот слушай... Помню, созвали сход, подъехал со стражником начальник, — такой злой, что даже не поздоровался с людьми. Он молча слез с коня, а мы-то, дураки, и решили: «Ну, теперь Кадыру несдобровать!» Кадыр же, как ни в чем не бывало, подошел к начальнику и стал ему на ухо что-то нашептывать да все указывал на нас. «Подходи!» — крикнул начальник. Мы баранами сгрудились вокруг него, развесили уши, приготовились слушать. «Вы пожаловались на Кадыра. — Начальник поднял плеть. — Да вы все до одного не стоите Кадыра, и если хоть раз еще услышу, что вы на него клевещете, — поглядим тогда! Вы должны ему подчиняться, он у вас главный!» Начальник пригрозил нам плетью, а затем и кулаком: «Разойдитесь!» Мы испуганно разошлись, радуясь, что живы остались. Да-а, — вздохнул Ахмат. — Тогда Кадыру все было нипочем, вся деревня стонала под его властью. Нечего сказать, порядочный был негодяй, сукин сын!
Селма отодвинула от огня свою скамеечку и снова застучала деревянными сандалиями:
— Какие бы они ни были для других, а для нас с тобой Кадыр и Мыкыч неплохие.
От палящего жара лицо Селмы горело малиновым отсветом, глаза ее колюче сверкали.
Ахмат, стараясь не глядеть ка жену, сквозь зубы сплюнул в очаг.
— А что он нам сделал хорошего?
— Не сделал, скажешь? — воскликнула Селма. — Как только у нас нужда в деньгах — к кому бежим? В дом Кадыра бежим! Куда бы девал ты Зину, во что бы ее одел, если бы они не дали денег взаймы? Уже большая девушка, а была раздета, разута.
— Глупа ж ты! — с сожалением взглянул на жену Ахмат. — Подумаешь, осчастливили меня — заставили заплатить вдвойне! Ты полагаешь, они дали деньги из жалости ко мне? Сама же, помнишь, говорила, что они нас совсем разорили.
Селма замялась.
— Помню, но... но они богатые!
Зина накладывала в миску крутую, окутанную паром мамалыгу.
— И деньги его противные, и сам он противный, этот Мыкыч, — продолжал Ахмат.
Селма прищурила глаза на дочку и ухмыльнулась.
— Хотела бы я, чтобы у Мыкыча не было другого выхода, кроме женитьбы на тебе; посмотрели бы мы тогда, какой он и его деньги противные.
Зина смущенно наклонилась над миской.
— Они люди сильные, — продолжала мать. — Добра у них очень много, нан, и по фамилии они близки к дворянам.
Ахмат сердито взглянул на старуху — очень не по душе ему пришлись слова жены:
— О каких дворянах ты толкуешь в наше время, когда у нас новая власть! Или ты думаешь, что трухлявая тыква всегда будет черпать воду?
Зина разложила на столике еду и подвинула его к отцу. Она спросила:
— Что за люди это были?
— Не то, что мы, — сказал Ахмат, беря пальцами мамалыгу. — Знаешь, как говорили в старину: «Старая мотыга всегда набредет на кувшин с вином». Князья и дворяне держали возле себя, вроде цепных псов, близких людей. Это такие же, как и мы, крестьяне, но нас, настоящих трудовых крестьян, они просто терпеть не могли и ценили дешевле старого плешивого осла.
— Тогда они просто сидели на нашей шее, правда, папа?
Зина взяла тонкими пальцами кусок горячей мамалыги и поднесла к губам.
— Ну, да, многие, дад, сидели на крестьянской шее! А мы, бедные, только гнулись и откармливали их своей кровью.
Щелкнули друг о друга деревянные сандалии, — Селму рассердило то, что сказал муж.
— Нехорошо отзываешься, — сердито возразила она, — они были чистые крестьяне.
— Они-то были чистые, ни в чем не нуждались. Зато мы были грязные.
Сандалии снова стукнули, и Селма сердито отозвалась:
— Бог не сравнял людей. Разве все люди могут быть одинаковыми? Взять твои пальцы — разве они все равны?
— Что там пальцы? — Ахмат подул на горячий кусок мамалыги. — Я говорю, что новый закон нас всех уравнял. Теперь неважно, из какой фамилии человек, а важно, каков он сам!
Разговор оборвался. Отец и мать молча продолжали есть, только мать изредка сердито постукивала сандалией, а Зина сидела над остывшей мамалыгой и думала не о прислужниках дворян и не о Кадыре и Мыкыче, а о своем Темыре.
VII
После встречи с Зиной глубокое раздумье овладело Темыром. Больно томилось его сердце по девушке, которую он любил с тех пор, как помнил себя. А теперь Зина стояла перед ним вся в слезах, вызванных его горькими, тревожными словами.
Зачем они встретились, для чего он открыл свое горе? Темыр ни на что не решался, и чем ближе подходил назначенный срок свидания, тем горше становилось у него на сердце.
Больше всего Темыра угнетало то, что он просил Зину подождать только неделю, а ничего определенного не сумеет придумать ни за эту неделю, ни позже. Наконец он решил признаться девушке в том, в чем еще никому не признавался.
Ночь перед тем, как встретиться, Темыр и Зина провели в тревоге, без сна: кажется, им обоим не верилось в то, что ничего не помешает их встрече.
Рассвело. В маленькое оконце в домике Темыра заглянуло пасмурное утро, и когда Темыр вышел, небо с юга на север покрывалось тяжелыми тучами. Темыр боялся, как бы не пошел южный обложной дождь. Но день рассеял его тревогу: брызнув золотистым светом, показалось солнце и точно приказало ветру разогнать клочья туч, вскоре разлилась ясная, глубокая синева, и на ней не было ни облачка.
Наступил теплый, пахнущий травою и солнцем полдень и наполнил трепещущее сердце Темыра необыкновенной легкостью.
Темыр пошел по дороге к спуску, приблизился к помятому перелазу плетня и тут услышал чей-то звонкий голос, Он поглядел по сторонам, но никого не увидел.
— Сюда, Темыр! — снова услышал он окрик из лесной чащи.
Темыр вошел в заросли кружевного папоротника, мягко шумящего под ногой, и увидел Зину. Она, стройная, высокая, была полускрыта разросшимся папоротником. Ее новое платье показалось Темыру прекрасней живых цветов. На девушку падал сквозь деревья бирюзовый свет, но Темыру в ту минуту почудилось, что не этот свет, а Зина освещает собою и землю, и траву, и деревья.
— Ты здесь... — почти благоговейно сказал Темыр, не сводя глаз с этого сияния, с темных глаз Зины.
Девушка, смеясь, подозвала его:
— Подойди ближе.
И с этими словами она протянула к нему свои тонкие белые руки.
Темыр бросился к Зине.
— Видишь, как я далеко углубилась в лес, Темыр!
— Почему ты ушла так далеко? Разве я не должен был идти туда, где мы с тобою хотели встретиться?
— Да, но...
— Что случилось?
Зина ответила не сразу.
— Захотела и пришла сюда, — отрывисто произнесла она, вглядываясь в глаза Темыра. — Разве тебе здесь не приятно?
— Что ты! — воскликнул он. — Где бы мы ни встретились, мне всегда радостно. Но ты ушла так далеко, и притом одна.
Зина доверчиво прошептала:
— Я боялась, как бы нас не увидел Мыкыч.
— Мыкыч? А при чем он здесь и где он?
— Нигде... Там, в лесу, где мы были в прошлый раз, он с арбой собирает хворост, и я решила встретиться с тобою подальше.
Темыру неприятно было слышать о Мыкыче, и он почувствовал, что Зина когда-то уже встречалась с этим парнем.
Зина ласково, с женской наблюдательностью взглянула в глаза Темыра и, вся светясь от солнечных бликов, тихо спросила:
— Я обидела тебя тем, что пришла?
Темыр улыбнулся кокетству Зины и ответил:
— Что ты! Очень и очень хорошо, что пришла. И в конце концов здесь лучше, чем там, у дороги.
Зина поняла, что Темыр, кажется, не до конца поверил ей, и заговорила о самом главном:
— Что ж ты решил, Темыр? Вот и неделя прошла...
Он опустил голову.
— Нехороши мои дела, Зина. Хоть и неделя прошла, боюсь — и две недели пройдут, а лучше не будет. К чему скрывать! Дай мне еще немного времени.
— Немного? — спросила она, покачав головой.
— Нет у меня, Зина, такого, что я хотел бы скрыть от тебя. Я расскажу тебе, так и быть, а ты сама подумай.
Темыр вздохнул.
— Тебе известно, что, когда я был совсем мал, убили моего брата Мыту, и я до сих пор не нашел убийцу. Кровь за мною, и поэтому, Зина, я, как говорится, половина человека, а не человек. И лучше мне не жить, а умереть; я люблю тебя, но, если сказать правду, думаю только о мести и ненавижу себя.
Зина испуганно взглянула на Темыра.
— Мне стыдно показаться людям на глаза, — подавленно продолжал Темыр. — Какое же я счастье могу тебе дать, когда мне так часто кажется, что все люди вокруг подмигивают друг другу, смеются надо мной!
— Темыр!
— Да, да! Все смеются надо мною. А в моей груди словно окровавленный большой гвоздь засел. Я дал клятву отомстить за Мыту и отомщу. Не вини меня за глупость, — торопливо прибавил Темыр. — Не вини за то, что я взял на себя непосильное дело и тем заставил страдать и тебя.
Взгляд Зины медленно и грустно ушел куда-то в сторону. То, что сказал Темыр, заставило ее глубоко задуматься, и тут-то она с горечью вспомнила, что говорил Мыкыч о Темыре. Мысли сменялись мыслями, они утратили связность, и все смешалось в голове Зины.
— Боюсь, не поймешь ты меня, — сказала девушка, подняв голову и грустно глядя в возбужденные глаза Темыра. — Мне кажется, твоему горю можно помочь.
— Чем? — торопливо спросил Темыр.
— Можно помочь!.. — повторила она. — Брось думать об этом. Нельзя, не надо, не следует убивать человека.
— Как же не надо, если это кровная месть?
— Выбрось это из своего сердца. Ты мужчина, и ты, конечно, тоже можешь убить кого-нибудь, как убили твоего брата Мыту. Ну, а дальше, Темыр, что ж дальше? Тебя арестуют, сошлют... Твоя: маленькая хижина позабудет о тебе, и мое сердце опустеет, как твой дом. Умоляю тебя, мой Темыр, если возможно, если только можешь, не думай, пожалуйста, о мести.
Она взяла его за руку. Мать так не умоляет в час опасности единственного непослушного сына, как Зина умоляла любимого.
Сила ее доверчивой любви вызвала смятение в Темыре, и он не знал, на что решиться. Он не смел отказать Зине и не мог не думать о мести. Темыр долго молча смотрел на девушку. Как близко радость, и он должен отвернуться от нее! Сомнения раздирали его и он чувствовал себя так, как будто попал в стремнину, откуда нет пути.
Зина ждала ответа, а Темыр напряженно думал, подбирая слова.
— То, что ты сказала, верно, — с трудом промолвил он наконец. — Чего только я не в состоянии вытерпеть, сделать для тебя. В кипящий поток брошусь! Защищая тебя, я не сойду и с тропинки дикого зверя. Но позора... — голос Темыра дрогнул — ...но позора, Зина, я не смогу вынести...
— Темыр!..
— Не обижайся на меня, Зина, — он тяжело вздохнул, — я разыскиваю врага. Я должен его увидеть, я должен узнать, кто он.
— Хорошо. Но что же тогда будет со мною?
Темыр не знал, что ответить. А затем, внезапно приняв решение, воскликнул:
— А вот что: буду день и ночь добиваться правды! И когда узнаю, не стану ждать ни минуты, приду к тебе, и мы вместе решим. Хорошо?
— Так вот какова твоя «неделя»!
— Если можешь, Зина, подожди. Теперь я сказал все, что хотел сказать, и ты уже знаешь: пока лежит эта тяжесть на моем сердце, я не могу на тебе жениться, — ведь что тогда с тобой будет!..
Слова Темыра потрясли девушку: до последней минуты Зина не думала, что ее любимый весь в плену кровничества и сам себе не хозяин. Зина осторожно, как к пламени, прикоснулась кончиками пальцев к его плечу.
— А если тебя погубят, если убьют, — что тогда с твоим домом и со мною?
Темыр почувствовал — девушка дрожит всем телом. Он любил и жалел Зину, но что он мог сделать с собою! Оба они, освещенные мирным золотым светом солнца, были в эти минуты печальнее, чем те, у кого в омраченном доме лежит покойник. И все-таки сквозь боль и смятение Темыр ощущал просвет: с ним его Зина! Он почувствовал, что если не случится еще какой-нибудь беды, они уже никогда не расстанутся.
Слегка отвернувшись, Зина вынула из рукава письмо, найденное за зеркалом.
— Хоть теперь это совершенно неважно, но все-таки скажи, как попало это письмо в мою комнату?
Сердце у Темыра сжалось при виде письма. Напрасно он тогда поспешил! Где те надежды, которыми было наполнено его сердце...
— В тот день, — сказал он, — я верил в будущее, мною владела только любовь. Правда, и тогда, когда писал эти строки, я мучился своим позором, но сильней была любовь. Весь мир мне казался не больше моей сакли, и в нее я хотел ввести тебя. Я тогда написал это безрассудное письмо, потому что запутался, не продумал того, что еще может случиться. Это было неправильно, но все-таки написал, поддавшись надежде, и пошел с письмом к вам. Я думал только об одном: «Что она скажет после этого?» Тогда эта мысль помогала мне забыть боль. Меня встретил твой отец; мы сидели с ним и разговаривали в большой комнате. А когда Ахмат на минуту вышел, я вбежал в твою комнату и сунул письмо за зеркало. Вот и все!
Зина взглянула на солнце, проникавшее сквозь густую листву:
— Мне надо идти, — сказала она строго. — Видишь, уже вечер, а мы и не заметили, разговаривая.
Она пристально посмотрела на пылающее лицо Темыра и ушла. И только тогда, когда папоротники, а за ними и густые заросли кустарника скрыли девушку, Темыр пошел домой. Да, он дурно, опрометчиво поступил! Напрасно он написал письмо и напрасно сейчас раскрыл свои мысли. В этом горестном положении он должен был страдать только один.
VIII
Оценить Мыкыча по заслугам можно было, лишь вспомнив прошлое, припомнив поступки его отца, Кадыра. Еще недавно, до революции, Кадыр имел большое хозяйство: высокий дом на цементных столбах, на дворе много построек, покрытых оцинкованным железом; баранту его пасло несколько пастухов-ачныров[9]. Часть земли он засевал сам, а остальную отдавал в аренду крестьянам по два-три гектара. Была у него мельница на две пары жерновов, и он получал хорошие деньги за помол. Его табачный сарай с тремя отделениями был полон рабочими. Крестьяне всегда были должниками Кадыра, и он исправно получал с них проценты. Имел он немалую прибыль и от мануфактурной лавки, — она стояла на видном месте, у сельского управления.
Вся деревня считалась с Кадыром, признавала власть его денег. Поссорившись с кем-нибудь, он в минуту гнева ни слова не говорил, но позже заставлял противника пожалеть о своей несговорчивости. Кадыр мастерски умел возводить всякую напраслину на людей и непременно запутывал простодушного соседа в грязное дело.
Двенадцать лет Кадыр был старшиной в деревне. Доходы его росли, и он уже открыто брал с крестьян взятки, больше всего — с самых неимущих. Кадыр ни с кем не считался, даже однофамильцы[10] ссорились с ним из-за его высокомерия, но Кадыр и с ними не считался, презрительно называл их глупцами. А под конец своего владычества он прямо заявил:
— Мы с вами не братья, и мой род с вашим не в родстве.
На одном сельском сходе крестьяне выдвинули сына Кадыра, Мыкыча, в есаулы [11]. Мыкыч был совсем молод, его щеки еле покрывались первым пушком. Услышав свое имя, он сердито крикнул:
— Как можно выбирать меня в есаулы! Если бы князья согласились выполнять обязанности есаулов, то лишь тогда и я бы согласился!
Крестьяне убеждали высокомерного парнишку:
— Нехорошо отказываться от есаульства, дад!
Мыкыч и слушать не стал.
А когда Кадыр узнал, что Мыкыча хотели избрать есаулом, он пришел в бешенство.
— Какое есаульство хотят навязать моему сыну! Пускай тот, кто выполнял эту работу, выполняет ее и впредь.
Крестьяне крепко обиделись на Кадыра.
— Сколько мы Кадыру ни прощали, его наглость переходит пределы терпения.
Однажды Кадыр созвал у себя однофамильцев. Он им всем давно надоел своими хитростями, и они подумали:
«Видно, опять что-то затевает».
Отстегнув пряжки просторного архалука, Кадыр лежал, раскинувшись на тахте, и обдумывал, как доказать гостям необходимость получения грамоты на дворянство. Если они станут дворянами, они будут повелевать другими! Конечно, первым получит почет Кадыр, и он же получит большие земельные наделы у государства...
Кадыр так увлекся мечтами, что и не заметил, когда пришли приглашенные. Сунув ноги в чувяки с подогнутыми задниками, Кадыр поднялся с тахты и, застегнув на ходу архалук, тяжело опустился на скамью.
— Добро пожаловать! — Он смолк, опираясь на край скамьи согнутыми толстыми пальцами.
— По какому делу вызвал нас, Кадыр? — спросил один из гостей.
— Чего волнуешься и торопишься, дад? — ответил с укоризной Кадыр. — Это я, старик, должен волноваться, устраивая за вас, молодых, ваши дела.
Кадыр пересел к столу.
— Да, братья мои, — заговорил он, — обиды бывают и между матерью и сыном, не то что между однофамильцами. У кого есть общие интересы, у тех возникают и недоразумения, — так уж предначертано богом.
Кадыр испытующе взглянул на «братьев».
— Я вот почему заговорил об этом с вами, дад. Люди, недостойные нас, всякая мелкота, хотят навалить на моих однофамильцев все тяжести, они хотят заставить нас делать то, что нам не приличествует, они хотят, чтобы мы им служили! Это им-то, которых, как своих слуг, ваши отцы шлепали в сердитую минуту амхабыстой [12].
«Братья-однофамильцы» угрюмо переглянулись.
— Все, кто живет в нашей деревне, зависели от моей фамилии. Мы должны заставить их подчиняться нам и теперь. — Кадыр щелкнул ногтем о стол и горячо воскликнул: — Вот почему нам надо ускорить получение грамоты на дворянство!
«Братья» опять переглянулись.
— Я уже продвинул это дело. — Кадыр сделал какое-то неуловимое движение рукой и продолжал с расстановкой, выжидая, что скажут гости: — Я уже дал начальнику триста рублей, он неплохо помогает, хлопочет за нас. Ну, конечно, придется еще подбросить ему, иначе получится... неудобно. Кроме того, я заплачу ему еще сотню, если вы не против. А всего дадим шестьсот рублей, в остальных двухстах вы, надеюсь, мне поможете. — Он приосанился. — За грамоту отвечаю. Она будет на всех нас: ведь мы братья!
— Аайт! — воскликнули некоторые.
Один из гостей недовольным голосом произнес:
— Мы уже давали тебе на это дворянство. Довольно с нас. Знай — ни копейки больше! Хватит с тебя и твоего начальства того, что ты уже содрал с нас обманом...
Кадыр привстал было, но снова грузно шлепнулся на скамью.
— Ага, не хотите дворянства! — бешено закричал он, пристукнув ногой, и растегнул архалук. — Не хотите? Да вы и недостойны дворянства! Недаром никто вас не уважает. — Он злорадно сверкал глазами. — Ведь никто из вас и на мужчину не похож.
«Братья» кричали наперебой:
— Оставь нас в покое.
Только двое, искавшие, как и Кадыр, дворянства, молчали: оба они уже потратили на злополучную грамоту половину состояния и в этом деле, похожем на запой, были правою рукою Кадыра.
Кадыр обвел «родичей» взглядом, подтянул пояс на объемистом животе и решил про себя:
«Придется этих дураков обласкать».
Призвав на помощь свою хитрость, он собрал все почтительные слова, которые знал, и принялся разъяснять своим «однофамильцам», что им никак невозможно обойтись без грамоты на дворянство.
Его усилия оказались напрасными: не удалось склонить на свою сторону никого — «братья-однофамильцы» остались равнодушными, они поднимались один за другим и, выходя, говорили:
— Себе доставай грамоту и пользуйся ею, а мы тебе, «дворянину», мешать не будем, но и денег платить не станем.
— Постойте! Да подождите же!
Кадыр вскочил как ужаленный и нагнал у двери гостей. Но как он ни убеждал, ни упрашивал, «братья» не послушались и ушли. Он стоял среди горницы, потрясая пухлыми кулаками и гремя:
— Будьте вы прокляты, жалкое отродье! Пусть перейдут на вас все мои язвы! Разве вы достойны дворянства?
Он схватил с тахты мягкий валик и, ударив о столик, опрокинул его.
...Таков был отец Мыкыча, он передал сыну свои черты, крутой, жестокий характер, бесцеремонность, с которою он творил свои недобрые, грязные дела.
О Мыкыче же можно сказать, что он был увертливее отца и красивее. Он одевался франтом и ходил по селу, лихо покручивая загнутые кверху черные тугие усики. Но его привлекательность испарялась при первом же проявлении им высокомерия. В такие минуты его приветливая улыбка мгновенно исчезала, крепкие губы под хорошенькими усиками смыкались, как волчья пасть, и лицо становилось мрачным, словно по поговорке: «Как будто убили его отца и труп взвалили ему же на шею».
Если Мыкыч в ком-нибудь нуждался, а тот не выполнял просьбы, достойный сын Кадыра старался очернить нелюбезного человека, и злопамятности Мыкыча в таких случаях не было предела. Если же нуждались в нем, то Мыкыч не только не оказывал помощи, но даже не смотрел на просителя.
За спиной своего расчетливого и жестокого отца сынок никогда не знал ни одной беды, не испытывал ни одной трудности: был Мыкыч подростком — отец платил за него учителю, и тот готовил Мыкыча в сухумскую школу; в школу мальчика приняли на казенный счет, но он, испугавшись премудростей науки, сбежал домой. Так и вырос он прощелыгой, не занимаясь решительно ничем; односельчане говорили, что руки Мыкыча не знают труда. Он бездельничал, придумывал пакости, занимался перепродажами. Когда в Абхазии установилась советская власть, Мыкыч чуть присмирел, но все-таки про себя думал, что новое «не надолго», и поэтому не всегда считал необходимым прятать свои мысли — во всяком случае от односельчан.
IX
Однажды — это было недавно — Мыкыч поехал в Сухуми навестить сестру и зятя. В семье сестры ему обрадовались.
— Как я соскучилась по тебе, пусть я умру! — сказала Ханифа и в знак преданности обошла вокруг брата [13] и поцеловала его.
Они болтали о деревенских и городских новостях. К вечеру сестра приготовила обильный, вкусный ужин, — братец был мастер покушать. Чтобы развеселить Мыкыча, Ханифа пригласила двух соседок. Одна играла на гитаре, другая пела, а Мыкыч отпускал любезности. Девушки бились об заклад, кто больше выпьет. Мыкыч объявил себя толумбашем и провозглашал остроумные тосты, осушая стаканы до дна; он захмелел и, когда все захлопали в ладоши, вскочил и пустился в пляс, неуклюже подпрыгивая.
Неожиданно постучали. Ханифа открыла дверь. На пороге стоял Темыр, держа за руку мальчика:
— Можно войти?
Ханифа не очень обрадовалась приходу Темыра и неохотно приоткрыла дверь.
— Войдите.
Темыр увидел сидящих за столом и сказал, обернувшись к Ханифе:
— Простите! Мы, кажется, не вовремя?..
Ханифа косо посмотрела на ноги гостей: она хотела сказать, чтобы они вытерли ноги о лежавший у порога половичок, но Темыр с мальчиком уже вошли в комнату. Темыра неприятно поразило то, что он увидел, а пьяное, разгоряченное лицо Мыкыча показалось таким противным, что Темыр отшатнулся, будто кто-то ударил его.
Махмет, муж Ханифы, недавно присоединившийся к пиршеству, первым поднялся, а вслед за ним слегка привстал и Мыкыч, только что севший в мягкое полукресло.
— Садитесь, пожалуйста. Зачем встаете! — заставил себя сказать Темыр.
Раздраженный его появлением, Мыкыч поплотнее уселся в полукресло и несколько раз вызывающе взглянул на Темыра исподлобья; он был доволен тем, что сестра в замешательстве забыла пригласить гостей к столу.
Темыр прошел мимо стола и сел на мягкий диван: его молодой товарищ уселся рядом. Они понимали, что нарушили хмельное веселье, но не укоряли себя за это. Наконец Махмет спохватился:
— Не присядете ли к столу?
Темыр ответил:
— Спасибо, мы ели.
Не обращая внимания на пришедших, девушки бесцеремонно продолжали петь и смеяться и забрасывали шутками Мыкыча, по Мыкыч уже не отвечал им, как прежде, неуклюжими любезностями и не был так безмятежно весел.
Девушки переглянулись, одна шепнула что-то подруге, они попрощались и вышли.
Некоторое время оставшиеся сидели молча, испытывая неловкость. Темыр взглянул на стены, на стол, уставленный бутылками, и вздохнул:
— Да падет на меня ваша болезнь, Махмет. Мы пришли к вам по одному делу. Этот мальчик — мой родственник. Его старший брат Хиндыг тяжело занемог и лежит в больнице. Об этом знает и уважаемый Мыкыч. В прошлом году ты, Махмет, остался должен Хиндыгу за перевозку табака тридцать рублей, — так говорит мальчик. Мы встретились на базаре, и он просил меня зайти к тебе. Ты видишь, он совсем ребенок и в Сухуми, вероятно, первый раз в жизни. Прошу, уплати ему.
Мальчик старался не оглядываться по сторонам и пристально, горящими глазами разглядывал льва, вытканного на стенном ковре. Когда Темыр умолк, мальчик украдкой взглянул на Махмета и на Мыкыча — сейчас он получит деньги... Мыкыч, хмельной, притворяясь глубоко задумавшимся, облокотился на стол и картинно подпер висок рукою. Рукав его архалука задевал стакан, и ровная поверхность вина дрожала.
Маленький спутник Темыра боялся, что сейчас прольется вино; он робел и никак не мог объяснить себе хмурое молчание Мыкыча.
«Ведь он из наших мест и знает меня, — думал мальчик, — почему же он молчит?»
Ханифа и ее муж не знали, что между Мыкычем и Темыром — ссора. Но сейчас они почувствовали это, а тут еще такой неприятный разговор о деньгах!
— Видишь ли, — неторопливо заговорил Мыкыч — я что-то не могу вспомнить об этом долге. — Отставив стакан с вином, Мыкыч заговорил еще медленнее: — Когда же возили табак? Какой табак?! — Он скосил глаза в сторону мальчика и важно спросил его: — Может быть, ты поможешь мне и напомнишь, о каком табаке идет речь и когда возили?
Темыр взглянул на мальчика. Мальчик, краснея, посмотрел на вышитого льва и нерешительно пробормотал:
— Кажется, весною...
Махмет посмотрел на Мыкыча, а тот в ответ тоже метнул на него быстрый хмурый взгляд, затем вздохнул и отвернулся ото всех.
— Мыкыч, — заговорил Махмет, — я что-то припоминаю: в прошлом году мне привозили из вашего села на арбах табак, — не через тебя ли я послал деньгн за перевозку?
Хмельное лицо Мыкыча стало строже; он не спеша закрутил ус и медленно поднял глаза.
— Деньги я тогда же передал Хиндыгу. — Он с упреком глядел на зятя. — Нашли время вспоминать!..
— Вот видишь, — сказал хозяин дома, облегченно вздыхая, — деньги у вас. Оказывается, уже уплачено: я переслал деньги именно через Мыкыча.
Мальчик вскочил со слезами на глазах и пылко, с искренностью, смутившей, правда,. только одного Темыра, закричал:
— Мыкыч врет! Он не отдавал денег Хиндыгу!
— Это кто врет? — Мыкыч спокойно переставил стакан с вином подальше. — Это я вру?
Он встал и заскрипел зубами, полагая, что этим внушит доверие к себе.
— Значит, я вру, и деньги у меня остались?!
Сестра и зять с удивлением посмотрели на него, а Темыр закричал:
— Мыкыч! Чтобы ты угодил в самый ад! Эти несчастные деньги ты сожрал!
Бешенство душило Темыра.
— Мыкыч не ребенок. А ты, мальчик, наверное, не знаешь, что деньги уплачены, — примирительно сказала Ханифа, притворно ласково глядя на мальчика.
Махмет взглянул на жену и осторожно заметил:
— Как мог Мыкыч растратить деньги этих бедняков? Зачем ему их деньги! Тут, вероятно, произошла какая-то ошибка.
Мыкыч повел было хмельными, наглыми глазами в сторону Темыра, но так и. не взглянул на него.
— Что это ты о чужих делах печешься, когда и своих не можешь уладить?
Ведь вот на что он намекнул!
Темыр помедлил и зло засмеялся.
— Ну что ж, продолжай в том же духе! Это похоже на тебя, и будет неплохо. — Он поднялся, взяв мальчика за руку. — Только смотри, когда-нибудь ты об этом пожалеешь! — И, крепко сжав руку мальчика, повел его к выходу.
Мыкыч поднял стакан, полный вина, и, будто бы учтиво раскланявшись в сторону ушедших, рассмеялся.
X
Это было к вечеру следующего дня.
Солнечный шар багровел и все быстрее клонился к западу, заливая полнеба легким светящимся пурпуром своих лучей. Горожане гуляли по хрусткому гравию бульвара у моря, с наслаждением вдыхая приятный, чуть соленый морской воздух. Мыкыч с балкона глядел на прохожих — он тоже собирался пойти погулять на берег. На балкон выглянул и Махмет.
— В самом деле, пойдем пошатаемся по набережной.
— Иди, Мыкыч, разомнешь ноги, — сказала Ханифа.
Она долго нежилась в постели и теперь вышла на балкон подышать свежим воздухом.
Мыкыч вошел в комнату, снял папаху, положил ее на подзеркальник и стал расчесывать черные жирные волосы; поворачиваясь перед зеркалом, он внимательно оглядел себя и наглухо застегнул высокий ворот архалука. Они сошли с зятем на набережную. Мыкыч сбивал ногтем пылинки со своей великолепной новой одежды.
Махмет сказал:
— Это хорошо, что ты бережешь копейку, я это сразу же понял вчера. Хочу с тобой поговорить, Мыкыч, по делу, да не знаю, как ты к нему отнесешься.
— По какому делу?
— А вот по какому! Начни и ты скупать табак; тогда ты сбережешь денег побольше, чем... в истории с этим мальчиком. Ну, что тебе, в самом деле, сидеть дома! Ты ведь для работы достаточно грамотный человек, знаешь и русский язык — будешь хорошо торговать.
— Торговать? А как быть с новыми законами?
— Они — на время, а жизнь — навсегда. Хочешь, примем тебя в компанию? Торговля табаком — это не перевозка табака, какие-то мелочи, утаенные копейки. Табак приносит очень большую выгоду, и можно сильно разбогатеть. В прошлом году я на одной только партии табаку заработал две тысячи, и столько же заработали мои товарищи.
— Неужто две тысячи?
— Честное слово, две! — Махмет посмотрел на безбрежное море. — Все дело в весах. В одном только вашем селе я закупил в прошлом году четыреста пудов табаку, а крестьянам уплатил за триста тридцать. — Он втянул ноздрями соленый морской воздух. — Остальное удалось утаить при взвешивании, и получились, понимаешь ли, остатки.
— Ага, остатки!
— Ну да, остатки! И я их продал, как собственные.
— Это ловко! — сказал Мыкыч, поглядывая на синеву моря.
— Чудесный воздух, славная погодка... Наши весы очень хитро утаивают табак. К площадке весов припаян снизу свинец.
— Вот в чем дело...
— В прошлом году мои весы, те, что стояли у вас дома, показывали на каждый пуд восемью фунтами меньше, но где же крестьянам это заметить!
— Дурачье!
— А если бы заметили, все равно в торговле требуется ловкость. Правда, кое-кто и замечал, что наши весы немножко врут. — Махмет чуть улыбнулся. — Как-то в одном селе крестьянин увидел припаянный свинец и всполошился. «Ты, что же, никогда весов не видал? — накинулись мы на него и его же высмеяли. — Да ведь все весы такие!» Мужичок смутился и не нашел, что сказать. Правда, он и потом кружился вокруг весов, как потревоженная курица, осматривал их, но боялся показаться совершеннейшим дурачком и молчал... Ну-ка, теперь повернем обратно. Что за славная прогулка!
Они повернули по набережной, и Махмет продолжал, равнодушно глядя на море:
— Да, большие барыши приносит табак! А если ты думаешь, что мы платим, то есть даем настоящую цену, ты ошибаешься. Мы «им» даем половину той цены, по которой сами продаем.
Мыкыч ласково поглядывал на встречных девушек, но Махмета слушал внимательно — ни одно слово не проскользнуло мимо его ушей. А когда Махмет замолк, он ему улыбнулся.
— Оказывается, вы творите чудеса.
— И ты, Мыкыч, будешь творить чудеса. Ты станешь купцом, а я буду помогать тебе, пока хорошенько не освоишься.
Подпись: Мыкыч радостно подумал: «Вернусь домой и скажу отцу: больше я не деревенщина — начинаю скупать табак». Но своих чувств он не обнаружил.
XI
— Сегодня я познакомлю тебя с некоторыми нужными людьми, — сказал Махмет и заглянул в одну из кофеен, во множестве существовавших в Сухуми в годы нэпа. На набережной и вдоль улиц, примыкающих к городскому базару, с утра до поздней ночи были настежь открыты их закопченные двери. — Это наш культурный центр! — самодовольно улыбнулся Махмет, взглянув на Мыкыча.
Они зашли.
Мыкычу кофейня была знакома. Любитель погулять в городе, он заходил в кофейни, но предпочитал им рестораны. В кофейнях мало веселья. Здесь не играла музыка, не пели женщины, а это очень любил Мыкыч. Здесь было скучно Мыкычу без вина и водки. В кофейнях играли в нарды [14], пили черный кофе, иногда чай. Такое времяпрепровождение казалось Мыкычу бессмысленным.
Для Махмета, наоборот, кофейня, избранная им и его друзьями для встреч, была самым удобным и приятным местом. Табачные спекулянты, не имевшие никаких иных дел, садились играть в нарды, не спеша пили густую и сладкую черную жижу и среди своих за игрой совершали сделки. Здесь в тайне от закона творились коммерческие махинации. Зная это, Мыкыч послушно последовал за Махметом, а не предложил пойти туда, куда его тянуло, — в ресторан.
Помещение кофейни было небольшое, с низким потолком. В углу возле задней стены высокий беззубый старик, энергично хлопоча, варил кофе на маленькой плнте, а рядом на длинной деревянной тахте стоял громадный потускневший от времени медный самовар, из которого временами валил густой дым. Вместе с табачным дымом и крепким запахом кофе пар и дым от самовара наполняли полутемное помещение кофейни. Стояла духота.
Два официанта в засаленных белых передниках бойко обслуживали посетителей, занявших все столики. Свободных мест не было. Мыкыч готов был повернуть обратно. Но оказалось, что Махмет знаком со всеми присутствующими. Подойдя к каждому, он здоровался и представлял своего шурина Мыкыча.
— Если у тебя есть желание, дорогой Махмет, сыграть в нарды с моим уважаемым соседом, садись, пожалуйста! — поднялся из-за столика один из спекулянтов, одетый попроще. — У меня есть дело в другом месте...
Махмет присел. Мыкыч поискал свободный стул и поместился рядом с Махметом. Соседом их оказался полный мужчина с толстыми жирными губами, украшенными черными, закрученными спиралью усиками. На нем был табачного цвета костюм из дорогого английского коверкота, купленного тайком у контрабандистов, пробиравшихся из Турции в молодые советские республики Закавказской Федерации.
Мыкыч узнал, что фамилия важного соседа — Кремендопуло, что он является одним из «табачных королей» и компаньоном Махмета. Махмет весело обменивался с ним короткими фразами, смысл которых не всегда был понятен Мыкычу. Кремендопуло внимательно оглядел Мыкыча, затем он погрузился в увлекательную игру в нарды. Махмет вытащил из кармана и положил на стол деньги. Противники расставляли шашки по квадратикам, нарисованным на доске, и бросали кости. Игра становилась азартной. Но Мыкыч оставался равнодушным к ней. Он с любопытством смотрел на коммерсанта. Их деятельность, не совсем еще понятная, стала сразу заманчивой для Мыкыча. Ясно одно: у них много денег и совсем мало работы.
Коммерсанты не были похожи на людей, каких Мыкыч привык видеть в деревне. В лицах и манерах спекулянтов он видел самовлюбленную надменность богатых людей. «Как будто они князья», — насмешливо подумал Мыкыч, хотя сам собирался стать таким же. Было в них что-то неприятное, какой-то неприкрытый эгоизм, откровенная жадность, и в то же время в лихорадочных взглядах таились озабоченность и тревога. Среди них были люди разных наций. Их объединяла жажда наживы. Были среди них и толстые, и тощие, но не было почти ни одного молодого. Заметив это, Мыкыч призадумался. «Все эти люди прошлого, выброшенные из седла революцией и снова ищущие места в жизни», — мелькнула у него мысль, но он счел ее случайной, не имеющей для него никакого значения.
Махмет позвал официанта и заказал ему две чашки черного кофе — для себя и для Мыкыча, но Мыкыч отказался от кофе.
— Какой же ты коммерсант! Не играешь в нарды, не пьешь кофе...
Махмет сказал это громко, шуткой желая привлечь внимание своих друзей к новичку Мыкычу и дать ему повод для разговора. Но Мыкыч не нашел слов для беседы в этой компании и, смутившись, промолчал. В его голове витали уже соблазнительные картины ресторана. Он чувствовал во рту приятный вкус молодой баранины, которую хорошо запивать ачандарским красным вином.
Махмег продолжал с жаром играть, то выигрывая, то проигрывая. Мыкычу надоело сидеть, и он спросил, скоро ли конец игры?
— Тебе не мешает посмотреть и научиться играть, — ответил Махмет.
— В другой раз ты поучишь меня, дорогой Махмет. А сейчас я, пожалуй, пойду, — сказал, поднимаясь, Мыкыч.
— Ночевать придешь к нам, дорогой Мыкыч, — ласково проводил глазами Махмет своего молодого красивого шурина, понимая, что тот хочет повеселиться.
Мыкыч вышел из кофейни и, раздув ноздри, глотнул свежий и влажный воздух. Ветерок доносил запах моря, синевшего в конце улицы. Напротив был рынок. Мыкыч рассеянно прошел вдоль пустеющих рядов вечернего базара, там еще оставались торговцы фруктами и вином, и завернул на бульвар к ресторану.
XII
В ресторане, куда зашел Мыкыч, было еще многолюднее, чем в кофейне. Уже с улицы через раскрытые окна был слышен шум, — крикливые пьяные голоса, женский визгливый смех. Здесь еще резче чувствовалась накипь нэпа. Бывшая буржуазия вела разнузданную жизнь, ей казалось, что снова возвращаются ее золотые деньки... Что бы они сделали с народом, если б вернулась их власть!
Мыкыч обшаривал глазами помещение. За столиками, накрытыми чистыми скатертями, уставленными посудой и бутылками, сидели те же спекулянты в шикарных костюмах, рядом с ними в черных и белых черкесках кутили представители сельской знати. Тут и там виднелись обнаженные плечи и вычурные прически женщин с накрашенными губами.
Мыкыч заметил единственный свободный стул у покрытого ковром помоста эстрады. Он пробрался вперед и сел с какими-то не обратившими на него внимания пьяными мужчинами.
На эстраду перед самым его лицом вышла изящная молоденькая блондинка с черным бантом на платье и в туфлях серебристого цвета, что было совершенно ново для Мыкыча. Старый скрипач взмахнул смычком, и заиграла музыка. Девушка запела цыганский романс. Мыкыч забыл все на свете. Подняв голову, раскрыв рот, он тупо смотрел на хорошенькую певицу. Ей бурно аплодировали.
Затем грянула свадебная абхазская песня. Ее запела большая компания кутил, сидевших за двумя сдвинутыми посредине зала столиками. В их обществе были женщины. Одна из них затянула другую песню. Кто-то ее поддержал. После все смешалось. Певцы старались перекричать друг друга. Трезвому человеку, каким еще был Мыкыч, это пение раздирало уши.
Но Мыкычу нравилось, что компания была веселая, и он охотно присоединился бы к ней. Старый скрипач взмахнул смычком. Музыканты, тоже подвыпившие, гаркнули и заиграли фокстрот.
Шум в ресторане увеличивался. Все более крикливыми становились пьяные голоса, чаще слышался женский смех, а иногда раздавалось «ура», когда кто-либо поднимал бокал, произносил удачный тост.
К Мыкычу официант еще не подошел. Бегая с подносом и бутылками, он обслуживал большую компанию кутил. Мыкыч чувствовал возрастающий аппетит и начинал злиться, собираясь уже стучать по столу. Неожиданно он увидел в дверях ресторана крупную, тучную фигуру Мурзакана.
О, радостная встреча в городе с уважаемым почтенным соседом по деревне! Мыкыч вскочил и вышел вперед, приглашая за свой столик. Видно было, что Мурзакан тоже обрадовался встрече.
— Ты что, Мыкыч, давно здесь? — спросил он, тяжело опустившись на стул.
— Нет, я только что зашел, — ответил Мыкыч, не считая нужным говорить, что сидит уже больше получаса, не выпив даже стакана вина, и вежливо спросил, когда Мурзакан прибыл и как его здоровье и дела.
— Да вот приехал сегодня по одному делу и возвращаюсь сегодня же, если ночь будет лунная.
— На дождь не похоже, — заметил Мыкыч.
Удивительный глаз у официанта, — как у воробья, сразу замечающего среди мусора золотистое зернышко. Не успел Мурзакан сесть, как официант подошел и, наклонившись, сообщил, что освободился кабинет, не угодно ли расположиться там посвободнее.
Мурзакан и Мыкыч вошли в кабинет. Официант услужливо подал меню и, пока они выбирали, что заказать, стол был сервирован.
Мыкыч, по привычке, стараясь угодить князю, взял на себя инициативу угощения и денежных расчетов. Он попросил Мурзакана заказывать все, что он пожелает. Выбрали мясные блюда и любимое абхазское вино «Качич» с ачандарских виноградников.
Приступив к еде, освежив горло вином, Мурзакан и Мыкыч постепенно перешли к откровенному разговору на политические темы. Они обсуждали, главным образом, волновавшее их обоих положение в деревне.
— Все веселятся, а беда приближается, — говорил Мурзакан. — Скоро по всем селам, — понизил голос Мурзакан, — начнут отбирать имущество у порядочных людей.
— Может быть, этого не будет, князь, да падут твои болезни на меня, — почтительно сказал Мыкыч.
— Когда грянет гром — будет поздно. Нам необходимо сплотиться сейчас. Мы нуждаемся теперь в этом больше, чем когда-либо, а то стрясется такая беда, что нам никогда не выпрямить спины.
— Да, уважаемый князь, мы переживаем тревожное время, — поддакнул Мыкыч. — А что говорят нового?
— Видишь, в чем дело, мой дорогой, — сказал Мурзакан, положив вилку и глубоко вздохнув, — большевистская власть переходит в наступление против нас. Хотят отобрать все: последний кусок земли, скот, говорят, даже дома... А нас будут выселять.
— Выселять? Если в первые годы революции оставили, теперь не будет этого, — уверенно сказал Мыкыч.
Мурзакан наклонился к нему и сказал совсем тихо:
— Говорят, будет война, и опять придут вместе с меньшевиками англичане и прочие. Нам надо уцелеть до этого!..
Оба выпили еще литр вина. Мурзакан задумался, а Мыкыч ждал, когда его собеседник снова заговорит.
— Лучше будет, конечно, — сказал Мурзакан, — если мы сумеем избежать столкновения с беднотой.
— Не откажемся от любого способа, — вставил Мыкыч.
— Совершенно верно. Но необходима осторожность. Их много, а нас мало. Кроме того, мы еще не знаем, как будет проходить эта страшная затея в других местах. Пока надо объединить наш круг из самых надежных людей и крепко держаться вместе. А дальше будет видно. Мы тоже не слабенькие и не одни.
Мурзакан и Мыкыч посмотрели друг на друга в упор и молча выпили.
— Я хотел на обратном пути, не заезжая домой, навестить тебя, уважаемый князь. Я нуждаюсь в твоей помощи.
Мурзакан вопросительно посмотрел на Мыкыча, но тот медлил... Большое предисловие предшествовало маленьким темным делам, в которых они были запутаны оба.
— А как быть, — спросил Мыкыч, — если придут отбирать что-нибудь?.. Особенно, не вполне законно приобретенное... Куда спрятать?
Мурзакан усмехнулся. Этот же вопрос волновал и его.
— Нам надо уже сейчас, — сказал Мурзакан, — распродать кое-что. Вот, например, у меня спрятаны... хорошие лошади. Я бы хотел их продать по сходной цене. Но, черт возьми, я не могу открыто объявить о продаже.
— У меня тоже есть одна лошадь, которая имеет... неприятную историю, — сказал Мыкыч, вздохнув.
Мурзакан приблизил свое лицо поближе к Мыкычу и спросил:
— Ворованная, что ли?
— Из Гудаутското уезда, — скромно ответил Мыкыч.
— Ну что ж, продадим их вместе. Ты можешь это сделать?
— Конечно, — ответил Мыкыч, — с удовольствием сделаю это для тебя... Только я хотел бы, чтобы лошади наши были до поры до времени вместе.
— Пожалуйста, — ответил Мурзакан, — приводи твою лошадь ко мне. Спрячем лошадей вместе.
Мыкыч был доволен, что так удачно и легко разрешен вопрос о лошади, ради которой он специально хотел ехать к Мурзакану. Мурзакан был доволен, что встретил Мыкыча. Как говорится — рука руку моет. Мыкыч теперь постарается поскорее продать тайным путем их лошадей. Насчет тайных путей, воровства и сбыта краденого Мыкыч был большой мастер. Правда, теперь это становится все труднее...
Мурзакан наполнил стаканы, чокнулся с Мыкычем. Они выпили за их победу. Сейчас им показалось, что также удачно разрешатся и все важные вопросы их жизни.
В ресторане шло веселье. Гремела музыка. Зал был ярко освещен. Разрушенная меньшевиками электростанция была восстановлена и расширена советскими рабочими.
Расплатившись с официантом, — Мурзакан решительно отстранил руку Мыкыча и сам заплатил за обоих, дав щедро на чай, — два друга вышли из ресторана в самом веселом расположении духа.
На следующую ночь Мыкыч пригнал лошадь к Мурзакану.
XIII
Что ж, пусть и пришли новые времена, — Мыкыч не унывал. Он начнет торговать табаком, он знает, какую пользу приносит свинец, припаянный к весам, у него никогда не будет недостатка в хорошей одежде и он будет франтить, как молодой дворянин. Правда, нынче уже не пристроишься к княжеским и дворянским сынкам, теперь важно прожить самому себе в усладу.
Пришли новые, трудные времена, но Мыкыч, пока нет нужды, не стал водить дружбу с крестьянами. Конечно, приходилось бывать изредка среди крестьянской молодежи. Но Мыкыч держался особняком, корча из себя знатного человека, — он все еще надеялся, что будет жить, как в былые времена, а может быть, и лучше.
Вернувшись из города в деревню, Мыкыч заскучал. Он хотел общаться с веселыми, беспечными людьми, а на эту деревенщину, на ровесников, с которыми прежде дружил, он теперь смотрел свысока: его ждало богатство, рестораны, не простая водка, а коньяк, девушки, играющие на гитаре, женщины, танцующие в ресторанах. Он был молчаливо напыщен, и скоро его друзья отвернулись от него.
Плевать! Очень они нужны! Скоро начнется скупка табака и хорошая жизнь. Зять поможет купить в Сухуми большой дом. Мыкыч завистливо думал:
«Махмет заработал сразу две тысячи, почему и мне столько же не заработать?»
Воображение уже рисовало новенькие сторублевые бумажки, приятную жизнь. Но это — в будущем, надо и теперь позаботиться о развлечениях. Мыкычу еще сильнее, чем раньше, захотелось сойтись с какой-нибудь крестьянской девушкой — это помогло бы ему рассеять скуку. Но он был разборчив: из всех девушек деревни ему нравилась только Зина.
Он бродил в зарослях высоких, сочных трав, сидел, размышляя о девушке, на лужайке, где сотнями оттенков переливаются пестрые цветы, над которыми порхают птицы. Сидя на берегу родника, он опускал в него руки, — вода такая студеная, что руки немеют. Вот пришла бы сюда Зина.
Мыкыч думал о девушке и тогда, когда подолгу отсиживался в холодке, и в часы, когда в воздухе разлит палящий зной. Бездельничая, он мечтал о том, как встретит ее и заключит в свои объятия.
Ничто не остановило бы Мыкыча, если б не опасливая мысль о Темыре. Мыкыч понимал, что Темыр мужественнее его.
...Солнце уже сильно пекло. Темыр скакал по пыльной проселочной дороге. Он ездил в соседнее село, куда по поручению секретаря партийной ячейки Михи отвез срочный пакет. Миха был ровесником и товарищем Мыты — убитого брата Темыра. Сельские парни Мыта и Миха восемнадцатилетними юношами были завербованы в числе «добровольцев» из Абхазии. Это было в годы первой империалистической войны. Русский царь боялся вводить обязательную воинскую повинность для свободолюбивых кавказских народов. Миха долго не возвращался домой. Он пришел солдатом-большевиком после установления советской власти в Абхазии. Миха стремился вовлечь Темыра в работу сельсовета.
Темыр спешил вернуть Михе его коня. У бедняка Темыра не было даже верховой лошади. Въехав в неглубокий горный поток, Темыр опустил уздечку. Лошадь рванула ее и с жадностью прильнула губами к прозрачной струе. Темыр ждал, пока она напьется вволю, чтобы поскакать дальше.
Он смотрел на зеленый холм, отделенный узкой долиной от зеленых гор, дальние вершины которых были покрыты снегом. По его побледневшему лицу было заметно, что какое-то мучительное острое чувство росло в нем с каждой минутой. Сколько б он ни проезжал по этой дороге, его всегда охватывало такое же волнение. Он не любил этот нарядный, в пышной зелени холм, с ненавистью смотрел на старый сад с виноградником на склоне, с инжировыми деревьями, яблонями и орехами на вершине, и больше всего ненавидел двухэтажный дом под красной черепичной крышей, который виднелся отсюда сквозь просветы между деревьями.
Напившись, лошадь подняла голову и навострила уши, будто прислушиваясь, почему стал неподвижен ее седок. Она подождала и побрела по воде, с удовольствием разбрызгивая копытами воду. Темыр подхватил поводья, пришпорил коня и мигом взлетел на пригорок. Дорога делала петлю, поднимаясь на возвышенность. Она шла некоторое время улицей небольшой деревни. С обеих сторон улицы росла живая изгородь из колючек и ежевики, из дикого лимона и граната. За ними поднимались деревья, обвитые, как лианами, вьющимися виноградными лозами, осенью они покрывались черными сочными гроздьями. Из глубины фруктовых садов, виноградников и огородов выглядывали домики крестьян. Природа была полна изобилия, и жизнь среди нее должна была быть счастливой.
Но чем дальше поднимался Темыр, тем сильнее и чаще становились удары его сердца. Он хлестал лошадь, чтоб скорее подняться на вершину холма и скорее миновать ненавистный дом с красной черепичной крышей.
Вот он уже поднялся на вершину, и перед его взором стал большой барский дом с широким зеленым двором, с обширным фруктовым садом, где зрели персики. Отсюда, как на ладони, видна на десятки километров прибрежная равнина с ее селениями, и во всю ширь открывается взору Черное море. Беспредельные просторы моря сверкают на солнце голубым и серебряным переливами, где-то далеко-далеко сливаясь с небом. По другую сторону сквозь темно-зеленые ветки деревьев в самые знойные летние дни белеют своими вечными снегами зазубренные горные пики.
Но для Темыра сейчас не существовало этой красоты. Весь мир для него потемнел, он видел в этот момент только этот белый дом с красной крышей, перед которым разрослось то самое дерево... То самое дерево, к стволу которого по приказу Мурзакана был привязан отец Темыра, старый Пахуала!
Руки Темыра опустили поводья. Он сжал кулаки. Зубы его скрежетали. Закрыв глаза, он вспомнил страшный рассказ отца перед смертью. Ненависть кипела в нем, не находя выхода. По законам кровной мести он не мог убить Мурзакана, так как тот не был убийцей его отца, а только довел его до смерти своим обращением. Так Мурзакан и ему подобные обращались со многими. Новая власть многого лишила Мурзакана, но пока он оставался в своем доме.
Вдруг до Темыра донеслись чьи-то голоса. Он остановил лошадь и весь превратился в слух. Слева из-за дома, из глубины сада, там, где кончались персики и начинались густые заросли мелкого ореха, слышались резкие мужские голоса, брань. Преодолевая свое волнение, Темыр старался понять, что же тут происходит. Разгоряченная лошадь не желала стоять, рвалась вперед, но он твердо сдерживал ее. Став на стремена, он напряженно слушал и безошибочно определил, что у Мурзакана крупные неприятности. «Там наверняка представители сельского Совета», — решил он.
Некоторое время Темыр не двигался. Его это не касается. И мгновенно сознание прорезала новая мысль — нет, касается!
— Чоу! — крикнул он яростно на лошадь и, ударив каблуком ей в бока, хлестнул по крупу плетью. Лошадь поднялась на дыбы. Темыр круто повернул коня, рванул вперед, к поместью Мурзакана. Лошадь понеслась, как пуля. Доскакав на предельной скорости до ворот и чувствуя бешенство всадника, устремлявшего ее вперед, она не решалась преодолеть такое высокое препятствие и со всей силой ударила грудью в старые деревянные ворота, разбила их в щепки и влетела во двор.
Подъехав к штакетнику, ограждавшему сад, Темыр соскочил с лошади, набросил повод на первый попавшийся кол, перескочил через забор и направился по саду туда, откуда слышался крик. Пройдя некоторое расстояние, он увидел неожиданное зрелище. Среди густого орешника была скрытая от глаз посторонних людей довольно широкая полянка, на которой паслись лошади, и, как сразу определил Темыр, очень дорогие лошади. Возле них стояла сейчас группа людей. Среди них он узнал Мурзакана с его большим животом. Он стоял, понуро опустив свою лысую голову.
Перед Мурзаканом, грозя кулаками, отрывисто выкрикивая обидные слова прямо ему в лицо, стоял пожилой небритый, небольшого роста, рыжий крестьянин. Край его маленькой пастушьей шапочки из войлока был разорван. Когда он поднимал кулаки, было видно, как болтается лоскут старого рукава его потрепанной, порыжевшей черкески. В этом грозном бедняке, приведшем в испуг самого Мурзакана, Темыр узнал председателя соседнего сельсовета Алхаса Мушба.
— ...Зверь ты проклятый — вот ты кто! — кричал он Мурзакану. — Тебе на том свете давно пора быть, да и там тебя мертвые не примут к себе, гадюка ты этакая! — бушевал Алхас. — Кто тебе дал право держать лошадей, прятать их, когда советская власть тебе сказала ясно: не должен ты иметь коней, как раньше, кроме одной лошади для личного пользования. И за это скажи спасибо... У тебя отобрали скот, а откуда эти взялись? Ворованные? Или утаил от народа? Молчишь? Боишься за свою подлую шкуру!.. Ты думаешь поступать, как поступал раньше? Нет, брат, теперь не те времена!..
Недавние разговоры Мурзакана о том, чтобы «не ссориться с беднотой», оказались беспочвенными, его надежды — оторванными от жизни иллюзиями. Напрасно старался он оправдаться перед Алхасом.
— Я не вор! Как ты смеешь так называть меня?.. — с видом оскорбленной невинности протестовал Мурзакан.
Алхас усмехнулся:
— Ты — не вор! А лошади откуда? Думал, не узнаем?
— Уважаемые товарищи, клянусь, — они мои, находились в другом месте... Эти лошади давно мои, заработанные честным трудом.
Мурзакан потрясал белыми пухлыми руками, как будто на них были трудовые мозоли. Он жалостливо продолжал:
— Эти лошади — все, что у меня осталось... Разве вы мало уже взяли у меня, чтобы не оставить больному бедному старику нескольких лошадей? — вопил Мурзакан. — Разве я за свою жизнь мало сделал добра людям?
Темыр услышал эти бесстыдные лживые слова. Трясясь от бешенства, но сдерживая себя, он появился из-за кустов орешника и неожиданно стал перед Мурзаканом. Все взоры обратились на пришельца.
— Темыр... Тванба, сын Пахуалы... — зашептались крестьяне.
Темыр помолчал, глаза его, не мигая, пронизывали Мурзакана.
— Это ты, Мурзакан, делал людям добро? — тихо проговорил Темыр и, отведя взор от Мурзакана, обернулся к присутствующим и приветливо сказал: — Здравствуйте, товарищи!
— Ты откуда взялся? Как из-под земли выскочил! — злобно смотря на Темыра, спросил Мурзакан с деланной равнодушной усмешкой.
— Я ехал мимо и завернул сюда, чтобы поздравить тебя с сегодняшним торжественным днем, — ответил ему в тон Темыр.
— Чтоб у тебя самого были такие торжественные дни! — покраснев от злости, проговорил Мурзакан.
Председатель сельсовета, считая разговор законченным, отдал распоряжение своим товарищам:
— Берите лошадей!
Мурзакан знал, что сопротивляться бесполезно. Его душила злоба, но он молча смотрел, как ловили лошадей, как исчезали его последние надежды выручить за них большие деньги. Мыкыч обещал, но, черт его возьми, запоздал. «За это он поплатится и своей лошадью», — подумал Мурзакан.
Гнедая лошадь, она-то и была приведена Мыкычем, оказалась самой пугливой и не давалась в руки. Лошадь брыкалась и кусалась. Это доставило минутное удовольствие Мурзакану... Крестьяне едва сдерживали пойманных лошадей. За гнедой бегал сам председатель, размахивая порванным рукавом и еще более пугая лошадь.
— Иди-ка, товарищ, помоги мне, — позвал он Темыра, который и сам уже хотел принять участие в ловле лошадей.
Темыр был хорошим джигитом. Он ловко схватил коня.
— Дай бог тебе здоровья, дад. Ай, молодец! — ласково сказал Алхас Темыру, быстро передавшему в его руки пойманную лошадь. Алхас подошел к Мурзакану и достал из-под полы черкески коричневую полевую сумку, вынул блокнот и на бланке сельского Совета написал химическим карандашом расписку. Потом запустил руку в карман и извлек печать, завернутую в бумажку. Дохнув на печать, он приложил ее к расписке.
— Вот, получи документ по всей форме, — сказал он Мурзакану. — Тут написано, что кною у тебя отобраны лошади.
Мурзакан взял расписку и, даже не посмотрев на нее, сунул за пазуху.
— На что мне твоя расписка. Даром взяли лучших коней и будете на них сами ездить.
Алхас повернулся к Мурзакану и сказал голосом, в котором звучала торжественность:
— Отобранные у тебя лошади являются всенародной собственностью. Понял?.. И будут отданы для нашей дорогой Красной Армии. Можешь жаловаться, если недоволен!
Лошадей повели, одну за одной, по тропинке через сад. Шествие замыкал Алхас, державший за поводу гнедую. Пойманная, она стала послушной. Рядом с Алхасом шел Темыр. Они только начали разговор, когда сзади раздался истошный крик Мурзакана:
— Спасите!.. Средь бела дня гра-а-бят!..
Увидев, что коней бесповоротно забирают, Мурзакан не смог больше сдержать своей яростной злобы. Этот Мушба, недавний бедняк, сын пастуха, отобрал лучших коней у князя. Он выдал Мурзакану бумажку, которая не стоит и копейки, а себе забрал лошадей. Нет, этого Мурзакан не мог стерпеть. Понимая бессмысленность своего поведения, он все же бежал за ними и Кричал звериным голосом.
— Иа-уу-уу! Иа-уу-уу!.. Караул! Спасите! Воры!
Темыр повернулся и, преградив путь бегущему Мурзакану, заставил его остановиться.
— Замолчи ты, собачий сын! Как смеешь ты говорить о воровстве, кричать на законных представителей советской власти? Они делают правое дело! — Голос Темыра становился все резче. — Ты, ты — вор! У тебя нет совести. Не ты ли воровал, крал, таскал, где мог, последнее добро у крестьян? Не на этом ли дворе паслись быки, уворованные тобою у моего отца? Ты их зарезал средь белого дня, на его глазах! А после привязал моего несчастного отца к дереву за то, что он осмелился прийти по их следам на твой проклятый двор... Стыдись и молчи!
Мурзакан, тяжело дыша, слушал слова Темыра. Но глаза были устремлены туда, где виднелись лошади, уже выведенные из сада. Мурзакан внезапно рванулся в сторону от Темыра и вбежал во двор. С безумными глазами он подскочил к одной из лошадей и стал вырывать поводья у крестьянина. Он кричал так, будто его режут:
— Не пущу!.. Не дам!..
Темыр подошел и наблюдал за происходящим, сначала сдерживаясь, упершись обеими руками в свою тонкую талию, перетянутую кожаным поясом. Потом глаза его стали наливаться кровью, ненависть к Мурзакану душила его.
— Негодяй! — вскричал он. — Я повесил бы тебя, подлеца, на этом дереве, чтобы ты испустил свой грязный дух, но не могу быть таким злодеем, как ты!
Темыр пригрозил кнутом Мурзакану, он и в самом деле готов был его ударить. Мурзакан, вцепившийся в лошадь, как клещ, отскочил в сторону.
Молчавшие до сих пор крестьяне, лишь с ненавистью глядевшие на Мурзакана и готовые в любой момент вступиться за своего председателя, при виде того, как Мурзакан испугался поднятой руки Темыра, пришли в веселое настроение и стали отпускать шутки по адресу Мурзакана.
Мурзакан побледнел а задрожал. У него перехватило дыхание. Руки привычно потянулись к поясу, но кинжала не было. И все равно он уже не мог бы теперь ударить Темыра. Ах, как бы Мурзакан хотел, чтоб у него дома были преданные слуги, чтоб было оружие, чтоб была его власть! С каким наслаждением он перестрелял бы, перерезал бы всех этих людей. Но оружие у Мурзакана было отобрано при обыске. Правда, две винтовки закопаны в саду, но разве их достанешь теперь? А слуг давно уже не было. Они ушли от Мурзакана. Оставалась одна дальняя родственница с племянницей, они вели хозяйство, а жена Мурзакана Назия уехала в Сухуми.
Никто ему не мог помочь. Он был обезоружен и бессилен. Но с какой радостью он совершил бы сейчас самое страшное преступление. Он обрушил бы с неба молнии! Он заставил бы солнце вылить на землю свой жар, чтобы уничтожить ставший ненавистным ему мир, людей, отнявших у него богатство и власть...
Мурзакан опять извергал поток ругательств и проклятий, но вызывал этим только смех у окружавших его бедняков. Вдруг он пристально посмотрел на Темыра с какой-то новой мыслью. Их взгляды скрестились.
— Ты думаешь, тебе большая честь, что ты оскорбил меня? Издевайся надо мной!... Но твоя честь, проклятый Темыр, все равно опозорена. Разве ты мужчина? Ты до сих пор не отомстил убийце твоего единственного брата Мыты, ты даже не хочешь постараться обнаружить своего кровного врага. Ты поступаешь так, как не поступает ни один абхазец, уважающий закон наших предков. Потому что ты трус, а не мужчина!.. Жалкий трус, лишенный чести!
Никто не прервал речь Мурзакана, настолько она была неожиданна. Мурзакан считал себя отомщенным. А Темыр, который только минуту назад чувствовал себя чуть ли не героем, испытывал тяжкий стыд. Мурзакан нанес ему удар в самое сердце, открыл всем его позорную тайну, о которой никогда не забывал Темыр, но ему казалось. иногда, что ее забыли другие, так как никто не напоминал, ему об этом.
Закон кровной мести, владевший умами его предков многие столетия, а может быть, и тысячелетия, был впитан Темыром с молоком матери, он воспитывался в нем с детства и казался непреложным для каждого мужчины. Темыр знал, что так думают все молчавшие возле него крестьяне, отворотившие сейчас от него свои взоры, как казалось Темыру, от стыда за него. Алхас заметил, как изменился в лице Темыр, и дружелюбно сказал ему:
— Не обращай внимания на слова этой гадюки.
— Нет, я не могу не обращать внимания, — ответил Темыр.
— Постой!.. — пытался остановить его председатель.
Но Темыр, подавленный, уничтоженный, ничего уже не слыша и не видя, быстро направился к своей лошади. Он вскочил в седло и уехал, не оглянувшись на трижды проклятый дом Мурзакана.
XIV
Была глубокая ночь. Во всех деревенских домах уже спали. Не спал Мурзакан. Тяжело передвигая ноги, он нервно ходил из угла в угол. В большом зале своего пустынного дома он чувствовал гнетущую тесноту клетки, из которой он не мог вырваться. Уныние сменялось бешенством. Воспоминания прошедшего дня жгли его, не давали покоя его черной душе.
После того, как все уехали, Мурзакан молча вошел в дом, ничего не стал есть и только пил стаканами вино, не переставая ходить из угла в угол. Он не мог забыть своего унижения и не мог примириться с потерей лошадей. Она прибавилась ко всем горестям, которые причинила ему советская власть, давшая силу беднякам. Жгучая ненависть терзала Мурзакана. Одновременно росло чувство страха.
Мурзакан время от времени останавливался и прислушивался. Он боялся, что ночью опять могут прийти к нему, показать бумажку с печатью и арестовать его. Вдруг они уже узнали, откуда у него лошади? Он купил их за бесценок у старого вора — знакомого мингрельского князя, уехавшего в Тбилиси. А вдруг тот попался и выдал его? Теперь никому нельзя верить, все негодяи, все негодяи! — твердил Мурзакан. В его лихорадочно работавшем мозгу появились подозрения даже на Мыкыча. Не хотел ли этот мальчишка выслужиться перед властями?
— Кто это? — вдруг произнес он вслух и в страхе застыл на месте, напряженно прислушиваясь. Кто-то вошел во двор. — Кто это может быть в такой поздний час?
Подойдя к керосиновой лампе, он прикрутил фитиль так, что пламя едва мерцало. В зале стало почти темно. Он поспешно направился к большим окнам и плотнее закрыл ставни. Потом возвратился, лег на тахту и с бьющимся сердцем стал прислушиваться.
Кто-то поднялся на веранду и постучал в дверь. Мурзакан оцепенел. Он был как во сне, и на мгновение ему показалось, что весь сегодняшний день приснился ему.
Снова раздался стук, уже более энергичный, и послышался мужской голос, зовущий его:
— Мурзакан!
«Но чей это голос? Открывать или не открывать?» — гадал Мурзакан, не двигаясь с места.
— Мурзакан! А, Мурзакан... — снова послышался голос, и раздался настойчивый стук.
— Кто это? — недоумевал Мурзакан. В голосе ему послышалось что-то знакомое.
Тяжело передвигая ноги, еле переводя дух, он направился к двери и прохрипел:
— Сейчас открою...
Он повернул дверной ключ, забыв в замешательстве спросить, кто там. Он был готов ко всему.
— Боже мой! — воскликнул Мурзакан. — Откуда ты?.. Я испугался, что опять пришли мои разорители... Входи, входи скорее...
Мурзакан открыл настежь двери, впуская ночного гостя. Неожиданным пришельцем оказался Мыкыч. По выражению его лица можно было догадаться, что он пришел с важной новостью.
Мурзакан поднял фитиль лампы, на ходу рассказывая о своих бедах. Мыкыч вежливо слушал, не прерывая хозяина. Но, заметив напряженный взгляд Мыкыча, которому не терпелось самому что-то сказать, Мурзакан спросил, какие у него новости.
— Утешьтесь в вашем горе, уважаемый друг. Бог нам помог. Я привел отобранных, лошадей, — с гордостью сказал Мыкыч.
— Ох, как ты меня обрадовал! — воскликнул, подпрыгнув от восторга, Мурзакан.
— Если понадобится, я не только лошадей, я любого человека приведу к тебе, Мурзакан, на веревке!.. — хвастливо шутя, самодовольно ответил Мыкыч.
Мурзакан бурно переживал счастливую новость. Он стоял и смотрел на Мыкыча, как на героя, и сказал от всей души:
— Как ты меня обрадовал, ты вынул из моего сердца забитый в него кол... А где лошади?
— Спрятаны так, что теперь никто не увидит их.
Жирное лицо Мурзакана сияло, его глаза ласкали Мыкыча, он протянул руку и погладил спину молодого человека. Потом оба сели рядом.
— Боже мой, какое ты совершил геройство! — продолжал восхищаться Мурзакан. — Расскажи, пожалуйста, как же ты сумел отнять у них лошадей?
— Как я отнял? Хитростью! — весело ответил Мыкыч.
— Рассказывай, милый, рассказывай! Порадуй мое сердце, дай бог тебе здоровья.
— После нашей последней встречи, — стал рассказывать Мыкыч, — я все время кручусь, стараюсь наладить новые дела с табаком, я тебе говорил о них. Поверишь, днем и ночью не знаю покоя. Но о лошадях я тоже очень беспокоился, хотя, честное слово, не было времени приехать. Думал, подождут лошади. А сегодня как раз собрался к тебе. И вот, не доезжая до развалин Чаблахана, я вдруг заметил людей, ведущих лошадей с твоей стороны. По виду этих людей я сразу понял все...
— Настоящие разбойники были у меня, — вздохнул Мурзакан.
— Что было делать? — продолжал Мыкыч. — Я спрятал свою лошадь в развалинах, привязал ее, а сам тайно пошел за ними и проследил до самого сельсовета. До вечера не спускал с них глаз, а сам прятался так, что, я уверен, никто не приметил меня. Нашел скрытное место и стал наблюдать, куда они денут добычу. Вечером два молодых парня вместе с председателем сельсовета повели их и оставили на пастбище у кого-то, недалеко от сельсовета. Как только все успокоились, легли спать, я вывел лошадей следом за своей гнедой... Вот и вся история!
— Теперь их надо спрятать, как говорится, под самую землю, чтоб никто не нашел, — заметил Мурзакан.
— Конечно, — спокойно ответил Мыкыч, — они (он разумел сельсовет) больше никогда не увидят этих коней.
Потом они обсудили, как и куда подороже сбыть злосчастных животных. Мурзакан принес вино и закуски. Исчерпав все деловые вопросы, Мурзакан снова вспомнил о всех перенесенных им унижениях и с ненавистью рассказал о Темыре.
Упоминание о Темыре было неожиданным для Мыкыча и сразу пробудило в нем злобные чувства. У Мыкыча все закипело.
— В каких ты отношениях с Темыром? — спросил Мурзакан, заметив волнение гостя.
Мыкыч по-дружески признался Мурзакану в своем увлечении дочерью Ахмата Шазиной и о том, что на пути его стал Темыр. Мыкыч, конечно, не преминул при этом соврать и похвастать, что Темыр боится его, как огня... Темыр ведь не мужчина, говорил Мыкыч, он до сих пор не нашел убийцы своего брата и не отомстил за него. Темыр просто трус. Хорошо бы его совсем убрать с пути, тем более теперь, когда он посмел нанести такое оскорбление Мурзакану...
Мурзакан кивал головой, поддакивая Мыкычу. Выслушав признание Мыкыча, Мурзакан призадумался, потом лукаво посмотрел на неудачливого соперника Темыра и, дружески хлопнув по плечу, многозначительно сказал:
— В этом деле я могу тебе помочь, дорогой Мыкыч.
Мурзакан приподнялся с места и, опершись на локти, положенные на стол, придвинулся к Мыкычу и поманил его пальцем к себе поближе, хотя они были рядом. И хотя они были одни, Мурзакан стал говорить шепотом, наклоняясь к уху Мыкыча.
— Я тебе открою одну тайну, но предупреждаю тебя, чтоб никто никогда не узнал, кто рассказал тебе...
— Клянусь прахом матери, — ответил Мыкыч, сгоравший от нетерпения скорее узнать тайну и думая, что б это такое могло быть?
— Случилось это, — продолжал Мурзакан, — еще до советской власти. Однажды вечером пришел ко мне Ахмат. Он стал передо мной на колени и начал просить, чтобы я продал ему ружье. Ахмат умолял меня.
— Наш Ахмат? — переспросил Мыкыч.
— Да. Я удивился. Зачем этому несчастному, всегда дрожащему от страха бедняку, ружье? Но тут я сообразил. Только что похоронили младшую сестру Ахмата, красавицу Ансию. Ты ее помнишь?
— Конечно.
— Царство ей небесное! — Мурзакан перекрестился и вздохнул. — Я знал, что она умерла от того, что приняла лекарство, которым хотела избавиться от ребенка — вытравить плод своего греховного бесчестья. Понимаешь?
— Ну, а дальше?
— Говорили, что виновником этого несчастья был вернувшийся с фронта один односельчанин... Мыта!
— Мыта? — воскликнул пораженный Мыкыч. — Теперь я все понимаю!
— Я дал ружье, сжалившись над Ахматом, — продолжал Мурзакан. — Он так любил свою сестру... Это было 12 мая, а 13 мая, на другой день, Мыта был найден застреленным... За ружье мне Ахмат так и не заплатил. А я, ты знаешь, человек благодушный, не стал напоминать ему и никогда не говорил об этом случае... Ты знаешь, что такое кровная месть — поток крови с обеих сторон на столетие вперед, пока два рода не уничтожат друг друга. Никто посторонний не должен брать греха на душу. Но сегодня я едва удержался, чтобы не сказать этому подлецу Темыру того, что я сказал тебе. Пусть Темыр мучится всю жизнь позором мужчины, не сумевшего найти убийцу брата и отомстить за него!.. Однако я решил сказать это тебе в благодарность за то, что ты сделал для меня, чтоб дать тебе в руки власть над их жизнью. Да простит меня бог, я теперь ненавижу их всех, этих бедняков, этих подлых оборванцев, готовых отнять у меня все, что веками принадлежало моим предкам и мне принадлежит по закону, по нашему закону, который они разрушили. Пусть они, проклятые, убивают друг друга!
Мурзакан и Мыкыч некоторое время молчали. Каждый хорошо понимал, чего они оба хотят. Потом хитрый и осторожный Мыкыч сказал:
— Но Темыр может мне не поверить.
— А у меня есть расписка Ахмата, — ответил Мурзакан и подошел к старому комоду. — Она у меня валяется где-то в бумагах. На всякий случай я ее сохраняю... Да вот, она должна быть здесь.
Мурзакан вытащил со дна самого нижнего ящика комода узелочек, принес и положил на стол. Развязав его, вытащил и отдал в нетерпеливо дрожащие руки Мыкыча пожелтевшую расписку.
— Пускай у тебя будет эта расписка, если она нужна тебе. Чего ей напрасно валяться у меня в бумагах, — сказал небрежно Мурзакан, завязал узелочек и положил его на место.
Мыкыч прочел на четвертушке листка почтовой бумаги написанную рукой Мурзакана короткую расписку:
«Мною, Ахматом, куплено у князя Мурзакана ружье № 179013 в долг. Деньги обязуюсь уплатить».
Под этим были криво нацарапаны буквы, из которых складывалось слово «Ахмат». И поставлена дата — 12 мая...
С наслаждением Мыкыч рассматривал ничтожный клочок бумажки, расписку почти десятилетней давности. Без этой бумажки и того, что за ней скрывалось, не пролилась бы кровь Мыты. Но Мыкыч об этом не думал. Он наслаждался мыслью, что теперь в его руках чужая тайна, предрешающая судьбу его счастливого соперника Темыра, отдающая в его власть упрямую Зину.
Ночь была на исходе, когда Мыкыч ушел от Мурзакана. Ущербная луна опускалась в море. Мыкыч спешил вернуться домой до рассвета. Его дела требовали мрака.
XV
Мыкыч подошел к дому Ахмата. Теперь-то он хорошо знал, что думать об Ахмате и как держать его в ежовых рукавицах, и также знал, как ему быть и с Темыром, и с Зиной.
— Желаю удачи, Ахмат! — сказал Мыкыч, с вкрадчивой улыбкой подходя к старику и разглядывая его так пристально, как никогда.
Ахмат косил заросли колючей ежевики, буйно поднявшейся у изгороди.
— И тебе всего доброго, дад, — мягко отозвался старик. — Как живешь? Как поживает Кадыр?
Ахмат прервал работу, глядя то на косу, то на Мыкыча.
С любопытством, все более возраставшим, Мыкыч разглядывал этого смирного старика: кто мог подумать, что Ахмат — убийца! Идя впереди и слегка горбясь, старик гостеприимно сказал:
— Зайдем, дад, в дом.
Мыкыч шел следом, смотрел на понурую фигуру Ахмата и думал с усмешкой: «Так вот кто ты!». Но вслух произнес другое:
— Ты бы продолжал работу, Ахмат. Я тебя оторвал от дела.
— Что ты, дад! Успеется. Я только так, проходил здесь, и сердце не утерпело, когда увидел, сколько наросло колючек. Какая это работа!
«Бывает «работа» покрепче, посерьезнее», — подумал гость.
Они поднялись на балкон. Ахмат повесил косу на гвоздь. Топорик, брошенный им в угол, звякнул. Этот металлический звук напомнил Мыкычу, что Ахмат убил пулей Мыту. А старик, глубоко и спокойно вздыхая, медленно снимал чувяки, выделанные из сплошного куска кожи, пересохшие и больно сжимавшие ступни.
— Присаживайся, дад, — обратился он к гостю.
Немного погодя приоткрылась дверь, из комнаты вышла
на веранду Зина.
— Добрый день! — приветствовал девушку Мыкыч. С городским изяществом вскочил, подошел к ней и почтительно пожал руку. — Как поживаешь?
— Садись, — равнодушно ответила девушка. — Почему стоишь?
Зине неприятно было видеть Мыкыча: слишком памятны были его угрозы, а теперь, как он ни любезен, казалось, прибавилась еще какая-то тяжесть в его взгляде.
Зина стояла у двери, прислонившись спиной к стене, и Мыкыча, точно он увидел впервые Зину, поразила ее красота. Он уверен был в том, что теперь имеет больше прав на нее, чем кто бы то ни был.
Учтиво склонясь перед девушкой, он подумал:
«Она растет, поднимается с каждым днем, как чудесный вьющийся стебель».
Мыкыч был прав. Свежим соком граната переливался румянец щек девушки, Под ее длинными тонкими бровями сияли большие продолговатые глаза; о ней можно было сказать так, как говорят у абхазцев: «Вся она развертывается, как нежный лист шелковицы».
Мыкыч присел и притворился, что увлечен разговором с Ахматом, но неотступно следил за Зиной. Пусть она попытается теперь оттолкнуть его, когда узнает всю правду!
Девушка видела эти жадные, все более откровенные взгляды и думала: «Почему он осмелился свои дерзкие повадки перенести из лесу в их дом? Он видел ее с Темыром в лесу и, может быть, скажет отцу, бессовестный... Но Мыкыч не позволит себе этого, если он не окончательно скотина».
Мыкыч взял мягкую пеструю подушку с тахты, положил на колени, уперся локтями в подушку и, подавшись вперед, вперил бесцеремонный взгляд в Зину. Их глаза встретились.
— Садись, бара бмсит [15]. Чего стоишь?.. — проговорил Мыкыч и, сбросив подушку с колен, привстал.
Зина отошла от стены.
— Простите, у меня дела.
Она быстро вошла в комнату.
Мыкыча оскорбила ссылка на занятость — ведь он пришел только для Зины. Но Мыкыч знает, как сделать ее мягче! После некоторого раздумья он обратился к Ахмату и заговорил о долге:
— Ты должен мне немедленно отдать деньги, Ахмат, — уже просрочено десять дней.
Он поднял подушку и снова положил к себе на колени.
— Ты говоришь — просрочено, дад? — спросил Ахмат и подавил вздох.
— А разве ты не знаешь, что просрочил?
Ахмат с тревогой подумал о процентах.
— Может быть, у меня не хватит уплатить проценты за эти десять дней, — сказал он с покорностью, — но занятые деньги я приготовил — продал телку.
— Так-то так, Ахмат, но тебе придется уплатить все сразу; ты уж потрудись и долг, и проценты отдать вместе. Твой должок растет с каждым днем; если сразу уплатишь — тебе ж лучше.
Мыкыч посмотрел на старика так, что тот съежился.
— Дай мне немного времени, дад, — пробормотал Ахмат почти униженно. — Приготовлю деньги и сам принесу, не заставлю тебе так далеко за ними ходить.
— Нет, Ахмат! Я должен сегодня же получить свои деньги, они мне очень нужны. А если понадобится в другой раз, я опять дам. Тебе не даст твой Миха или кто другой из этих... А мы жили с тобой и будем жить вместе.
Волнуясь, старик вынул из сундука деньги.
— Сколько ж получается, дад, за эти десять дней? — спросил он.
Мыкыч проворно вытащил записную книжку из кармана, в его пальцах уже был зажат карандаш, и он торопливо сказал:
— А вот сейчас тебе скажу.
Через полминуты он заметил:
— Прибавилось двенадцать рублей.
— Но у меня их нет, гром их разрази!
Мыкыч презрительно улыбнулся, стараясь пододвинуться к окну. Незаметно для Ахмата, сидевшего понурив голову, он приоткрыл с балкона окно и заглянул в комнату, чтобы увидеть Зину. Но тут Зина вышла на балкон и подошла к ним.
— Отец, тебе не хватает, кажется, двенадцати рублей? Возьми, вот они! — и она протянула Ахмату деньги.
Ахмат поднял голову и любовно поглядел на дочку.
— Кто тебе дал эти деньги, дад, чтобы твои болезни твой отец взял на себя?
— Они были припрятаны, я хотела себе кое-что купить.
Зина, не глядя на Мыкыча, повернулась и ушла, и Мыкыч, словно с сожалением, заметил:
— Славная у тебя дочка, Ахмат, да не разлучит вас бог! Видишь, а ты говорил, что у тебя нет денег! У тебя нет, а в доме есть. Хороша у тебя дочка, очень хороша!
— Хорошая, — смиренно согласился Ахмат, — пусть бог ее сохранит всегда здоровой.
Ахмат сиял. К своим деньгам он добавил Зинины двенадцать рублей и, шепотом пересчитав, протянул их Мыкычу.
Спрятав деньги, Мыкыч уселся с еще большим удобством. Но Зина больше не появлялась.
Без особых церемоний Мыкыч заглядывал в окно, искал взглядом девушку в комнате.
Когда Мыкыч убедился в том, что Зина не выйдет, он собрался уходить, но все его повадки — это почувствовал старик — были такие, будто в этом доме парень чувствует себя, совсем не так, как раньше. Ахмат подумал: долг с процентами отдан, почему же Мыкыч так нагл?
— Ну, я пойду уж — сказал Мыкыч и неохотно поднялся. Затем он прибавил, досадуя на себя и на хозяев: — Пойду. В этом доме у меня пока все кончено.
Ахмат покачал головой.
— Как же ты так уйдешь, дад, ничего не отведав, пусть поразит меня смерть! — Он развел руками. — И девушка тоже, оказывается, занята.
— Зачем беспокоишься, Ахмат! — холодно ответил Мыкыч. — Я не гость, не считаю себя гостем. Поверь, я здесь, как у себя дома.
Сопровождаемый хозяином, Мыкыч спустился по лестнице и подумал, выходя со двора:
«Ладно, оба вы у меня теперь в руках — и к вам в придачу этот проклятый Темыр!»
XVI
Мимо покосившейся хижины Темыра проехал верхом секретарь партийной ячейки Миха. Но Темыр был так рассеян, что, кажется, даже не ответил на поклон Михи.
Миха заметил странное состояние Темыра еще вчера, когда тот возвращал коня и глухо сказал о выполненном поручении. До Михи уже дошли слухи о том, что произошло у Мурзакана. Но Темыр сам не хотел ничего говорить, и не следовало приставать к нему с вопросами. Это было бы не тактично, — так думал секретарь партийной ячейки. Он не догадывался, как бы он помог одинокому Темыру, если бы смело приблизился к нему и проник в его душу, а не руководствовался обычаями и приличиями!
Темыр вошел в свое убогое жилище, опустился на узкую, твердую тахту и прислонился спиной к стопке сложенных у стены подушек и одеял. Он сидел неподвижно добрых полчаса, а затем пересел на низкую скамью и здесь просидел еще дольше, все такой же неподвижный, только подперев голову ладонями.
Затем Темыр встал, подошел к двери и, опершись плечом о косяк, стоял, глядя немигающими глазами на растрескавшийся земляной пол галерейки.
Любовь к Зине сжигала его, и он не находил себе места и клял себя за то, что поступил так необдуманно, написав девушке это письмо. Нет, еще рано, очень рано было открывать свое сердце... Не одна лишь забота о женитьбе сжигала его существо, туманила мозг. О, если бы только женитьба. С какой радостью он сейчас же бросился к Зине. Но Темыра убивало то, что казалось ему важнее жизни и любви. Он был рабом закона предков.
Солнце ушло за полдень. Ни крошки с утра не съел Темыр и почувствовал голод. Он вернулся в кухню, подошел к угловому столику, приделанному к стене, положил на тарелку немного холодной мамалыги, потом стал доставать сыр из подвешенного к потолку плетеного короба. В это время в дверях показался Мыкыч.
— Добрый вечер, Темыр.
То, что испытывал бы путник, спокойно идущий по дороге без ружья и даже палки и внезапно увидевший пред собою волка, испытал и Темыр при неожиданном появлении ненавистного ему Мыкыча.
Но Темыр медленно опустил короб на стол и, как мог, радушно приветствовал гостя:
— Здравствуй, входи.
Мыкыч, не взглянув на Темыра, прошел мимо и сел на скамью.
— Хочешь — не хочешь, а я вот здесь!
Темыр подавил в себе негодование и на наглый тон Мыкыча ответил спокойно и даже любезно:
— У меня нет подходящего для тебя угощения, но давай вместе закусим, если не думаешь, что объешь меня.
Мыкыч считал ниже своего достоинства есть «в таких местах», в таком бедном доме, и он сказал, скосясь в сторону:
— Я уже ел, кушай ты.
Темыр сел на тахту и, взглянув на Мыкыча, увидел наглую, вызывающую усмешку, которую гость и не думал скрывать.
Чуть поджав губы, Мыкыч полупрезрительно заговорил:
— Итак, ты, Темыр, решил испортить мои отношения с Зиной. — Он пожал плечами. — Вот уже год как она обручена со мной, и мы смотрим друг на друга почти как муж и жена. Мы уже обменялись подарками и любим друг друга. Понимаешь — любим.
Лицо Темыра бледнело.
— А сейчас, — продолжал Мыкыч, надувая губы, — ты решил испортить наше дело. Не думаешь ли, что пора оставить нас в покое? А может, ты полагаешь, что тебе удастся отвоевать Зину у меня? Вспомни только, что по роду и по положению мы с тобой неровня. Так что ты хочешь от меня и от Зины?
Ни на минуту Темыр не поверил в то, что Мыкыч помолвлен с Зиной, но наглость этого человека ожгла его сердце.
Темыр овладел собою и, желая обратить эти слова в шутку, негромко рассмеялся.
— Вот как! — сказал он. — Ты слишком глубоко заглянул мне в сердце. — Сдерживаясь, он прибавил: — Ты, видно, меня и человеком не считаешь!
— А как с тобой прикажешь обходиться? Ты, может быть, думаешь, что мне нужно еще поцеловать полы твоего платья?
Темыр заставил себя насильно рассмеяться, — смеялся он только потому, что был взбешен.
— Ты, наверное, говоришь так потому, что думаешь — я ничего не стою.
Мыкыч высокомерно посмотрел куда-то мимо, не остановив взгляда на лице Темыра:
— Чего стоишь ты и чего стою я, хорошо известно людям.
Темыр стерпел и эти полные презрения слова и не ответил, а Мыкыч гордо произнес:
— Ну, отвечай же: отвяжешься от меня и Зины или нет? Поторопись, потому что я спешу.
Темыр ответил спокойно:
— Здесь никого нет, кто бы испугался тебя. Я не понимаю, зачем ты все это говоришь? Если ты пришел по делу, то говори спокойно, по-человечески.
— Ай, ай, что он сказал! «Говори!» — Мыкыч все так же глядел в сторону. — Нет, ты меня не проведешь, как бы ни увертывался. И не думай, что тебе удастся отбить у самого Мыкыча его будущую жену.
Глаза Темыра расширились и заблестели.
— Ты напоминаешь мне Кадыра, твоего отца, — произнес он с трудом и даже слегка заикаясь. — Точно так же, как ты, Кадыр не давал покоя моему отцу. Теперь, вижу, и ты принимаешься за меня, выискиваешь, в чем обвинить.
— Не о моем отце и не обо мне говори. Ответь по существу дела, о котором я тебе сказал, а потом будешь говорить, если тебе угодно, о том, что тебя беспокоит.
Гнев сдавил горло Темыра:
— Ты серьезно сказал эти слова, Мыкыч?
Мыкыч подбоченился:
— А то вру, что ли?
— Аайт! — воскликнул гортанно Темыр. Он заикался, и лицо его передергивалось. — Посмотрим, кто из нас на что способен. Глумишься ты, что ли, или хочешь обмануть меня, будто помолвлен с Зиной! Не я, а ты, ты отвяжись от Зины! Я не боюсь тебя.
Мыкыч на минуту даже опешил от неожиданной вспышки Темыра и, хотя он считал, что Ахмат и Зина в его руках, он пошел на попятный. Лицо его заиграло не одной, а многими улыбками, и он ласково произнес:
— Что ты, Темыр, с чего взял, будто я пришел пугать тебя! Я ли не знаю, что ты не из пугливых! Зачем же тебе зря сердиться?
Мыкыч поправил папаху и притворился, что слегка призадумался.
— Знаешь, Темыр, — произнес он озабоченно, — тебе все-таки не следует жениться на Зине. — И он почти нежно заглянул в глаза хозяину.
Гнев Темыра улегся, и он спросил:
— Почему?
— А ты послушай! — Мыкыч помолчал. — Тебе, вероятно, известно, что младшая сестра Ахмата, Ансия, умерла. Она забеременела, и когда родственники стали допрашивать, кто отец ребенка, Ансия сначала отпиралась, а потом указала на Мыту, из-за этого его и убили.
Темыр вскочил с тахты и прерывающимся голосом спросил:
— Ты знаешь, кто убил?
— Знаю. Мыту убил отец Зины. Кому же еще было убить, как не Ахмату, брату Ансии?
Темыр мгновенным движением выхватил кинжал из ножен, и Мыкыч испуганно отпрянул к дверям.
— Как докажешь, — Темыр держал кинжал у живота Мыкыча, — чем докажешь то, что ты сейчас сказал? Ты хочешь нас поссорить?.. Это ложь, только ложь! Ты все от начала до конца выдумал. Понимаю: тебе хочется, чтобы мы погубили друг друга без вины.
Не осмеливаясь сдвинуться с места, Мыкыч испуганно поджал живот и жалобно, тихо прошептал:
— Не убивай меня, Темыр. Я только о тебе забочусь и ничего плохого тебе не сделал.
— Как ты узнал, от кого? Я не верю ни одному твоему слову. Но говори же, говори!
И синеватое острие кинжала все ближе подвигалось к Мыкычу. Мыкыч отступил, не спуская глаз с блестящего лезвия, вытащил из нагрудного кармана сложенную записку и прошептал с испугом и злорадством:
— Вот тебе доказательство, посмотри.
Темыр обеими руками взял бумажку, развернул и впился жадным взглядом в короткую записку:
«Мною, Ахматом, куплено у князя Мурзакана ружье № 179013 в долг. Деньги обязуюсь уплатить... Ахмат. 12 мая»...
— Откуда ты достал эту записку? — спросил Темыр.
Не моргнув глазом, Мыкыч соврал:
— Случайно, Ахмат был в лавке моего отца и обронил эту бумажку. Очевидно, Ахмат сумел отдать долг Мурзакану и тот вернул ему записку... Все понятно. Ты обрати внимание на дату, — многозначительно сказал Мыкыч Темыру и еще раз повторил страшные слова:
— Из этого ружья Ахмат убил твоего брата Мыту. Когда ты найдешь у Ахмата ружье, ты узнаешь, правду ли я говорил.
Кинжал выпал из рук Темыра, вонзился в рыхлый земляной пол. Темыр в оцепенении глядел на записку — была она смятой, и строки на ней были полустерты.
Поглядывая на неподвижного Темыра, Мыкыч попятился к дверям и выскользнул. Большой козырь дал Мурзакан Мыкычу — вот эту бумажку! Теперь между Темыром и Зиной, как каменная стена, стоит № 179013. Теперь Мыкыч мог надеяться получить согласие Зины. Темыр убьет Ахмата, еще безропотнее будет осиротевшая Зина.
XVII
Многое из того, что следовало знать об убийстве Мыты, Мурзакан не рассказал Мыкычу.
У Ахмата не было более любимого родственника, чем молочный брат Мурзакан. Они породнились. Ахмат отдал Мурзакану половину своего имущества и устроил большой пир. Теперь он ничего не жалел для Мурзакана. Если бы Мурзакан обвязал канатом дом Ахмата и стал бы тащить — и тогда Ахмат не удивился бы, даже не спросил бы, что он делает. Что же касается Мурзакана, он тоже из всех своих молочных братьев большее предпочтение отдавал Ахмату за его покладистость и доброту.
Как-то Мурзакан прислал к Ахмату человека с сообщением о том, что тяжело заболела его жена Назия, и просил прийти кого-нибудь из родственников Ахмата.
В тот день больная чувствовала себя плохо, и ее немедленно увезли в Сухуми в сопровождении младшей сестры Ахмата Ансии. В больнице Назия пролежала больше месяца, и когда вернулась домой, она еще долго была слаба, едва держалась на ногах. Ансия готовила для нее еду. Госпожа была к ней привязана.
Вскоре Ансия забеременела. Собрались ее родственники, пришел Мурзакан, и когда девушку допекли расспросами, она назвала имя Мыты, — правда, назвала с некоторой нерешительностью.
К тому времени Мыта опять уехал на фронт. Кто мог опровергнуть слова Ансии?
«Очевидно, так оно и есть!» — подумали родственники.
Они утаили то, что случилось с Ансией. Но Мурзакан этим не ограничился и, посоветовавшись с Ахматом, дал девушке выпить зелье, чтобы изгнать плод. Ансия изошла кровью и той же ночью умерла.
Этого только и хотел Мурзакан. Он облегченно вздохнул. Мыта вскоре вернулся, и не прошло месяца, как он был убит неведомо кем.
...Мыкыч шел по дороге от Темыра, поглощенный мыслями о только что происшедшем. Несомненно, он владел судьбой Темыра и понимал, что Темыру невозможно более думать о Зине. Навеки меж ними встала стена из тех шести зловещих цифр. Неплохо он отделался от Темыра, и не о нем теперь надо думать, а только о том, как бы поскорей прибрать к рукам дочь этого жалкого Ахмата.
«Погоди, голубушка, ты еще сама придешь ко мне!»
Жениться на Зине Мыкыч никогда и не собирался, но о чем только не думал в те минуты!
Прошло несколько дней.
Мыкыч решил чаще захаживать в дом Ахмата, пока в Темыре созревает ненависть к старику. Так он и поступал теперь. Если он не заходил на гостеприимную деревенскую веранду, то останавливался поблизости, поглядывал через забор и ловил минуту, ища встречи. Он сумеет воспользоваться неопытностью молодой девушки, он будет ее неотступно преследовать!
Место вокруг жилища Ахмата поросло глухим мелколесьем. Как хорошо бы среди густо разросшихся деревьев встретиться с Зиной и поболтать кое о чем!
Был вечер. Все мирно затихло, и в чистом, прозрачном воздухе не слышно ни звука, будто сама природа прислушивается к чему-то неведомому. Как мягко разлит розовый свет, как сладко пахнут травы!..
Обычно в вечернюю пору сюда из долины доносились песни юношей. Но сегодня тишину время от времени нарушали долетавшие с пустыря редкие звуки «акуаркуар» — деревянной погремушки на буйволиной шее.
Поставив на плечо большой тяжелый кувшин и держа в руке другой, маленький, Зина спускалась за водой к роднику и безмятежно глядела на грушу, склонившуюся над родником, на ее темную зелень, меж которой виднелись плоды.
Зина опустила на землю кувшин, сбросила чусты, вымыла маленькие белые ступни ног и наслаждалась прохладой. Она заплела косы, надела чусты, встала на доску, переброшенную через дрожащие струйки родника, сняла с вбитого в землю кола легкую высохшую тыквенную черпалку и, водя ею по воде, наполнила большой кувшин.
Легкий свист донесся до слуха девушки: «шви-и-и-у!»
Зина вздрогнула и крепче зажала в руке шершавую ручку черпалки. Она никого не увидела вблизи и, склонившись над родником, продолжала черпать воду.
Опять кто-то свистнул. Зина оглянулась, но снова никого не увидела. Тогда она, удивленная и слегка испуганная, оставила на месте кувшины и стала быстро взбираться по склону, направляясь домой.
— Зина!
У перелаза плетня мелькнула фигура, Зина остановила испуганный взгляд на Мыкыче.
— Вот как мы умеем свистеть — «шви-и-и-у...» Испугалась, Зина?
Мыкыч не спеша перешагнул через плетень и подошел к девушке.
Она не знала что делать: бежать ли домой, оставив кувшины у родника, или же вернуться за ними? Не произнеся ни слова, Зина вернулась к воде и снова стала черпать воду, доливая кувшин, стараясь не глядеть на Мыкыча.
А он, пытаясь говорить убедительно, жадно смотрел на ее склоненную фигуру.
— Беда с этими буйволами! С вечера не нахожу их, проклятых. Думал, может быть, они к вам забрели.
— Не видела, — произнесла девушка. — Спроси у отца.
И снова опустила черпалку в воду. Она хорошо понимала, что «буйволы» придуманы Мыкычем. Об этом говорил его лживый взгляд. В первую минуту Зина, правда, испугалась, но сейчас же опомнилась:
«Что же Мыкыч может мне сделать дурного, — я рядом с нашим домом, там отец и мать!»
Мыкыч потихоньку придвигался; он молчал, очутившись рядом с девушкой, но она вежливо попросила его, надеясь, что ее вежливость подействует на Мыкыча:
— Нельзя ли немного отойти?
Мыкыч слегка отодвинулся, Зина наполнила и маленький кувшин, подняла его; тут Мыкыч подскочил, сжал запястье девушки.
— Что ты, с ума сошел, Мыкыч!
Она вскинула голову и гневно посмотрела в его глаза, мутные от возбуждения.
— Прошу тебя, Зина, побудь со мной хоть минутку, не уходи. Мне надо тебе сказать несколько важных слов.
Он бормотал, перебирая ее пальцы и пристально глядя в испуганные глаза:
— Всего несколько слов, но важных... А?
Зина молча пыталась вырваться, но он притиснул ее пальцы к ручке кувшина и крепко держал.
— Пусти, говорю!
Зина рассерженно ударила Мыкыча по руке, но Мыкыч не поддался и еще крепче прижал ее пальцы к ручке кувшина.
— Прошу, не торопись, не уходи.
Он нагло держал ее руку. Зина вышла из себя:
— Ты что же нападаешь, как зверь, или нет у тебя совести? — Она резко отдернула руку, кувшин упал, опрокинулся. — Всегда ты был такой бессовестный!
Зина подняла на плечо большой кувшин и, подхватив опустевший маленький, торопливо пошла, затем побежала к дому.
— Подожди, прошу тебя! — голос Мыкыча смягчился. — Да подожди хоть немного... я что-то хочу сказать тебе. Не обрушится же свет, и я тебя не съем.
Он бросился догонять, но Зина была уже далеко, и он крикнул вслед:
— Что ж ты, бесстыжая, даже разговаривать с людьми не хочешь! Ну, ладно, посмотрим, будешь ли ты такой до конца, а я, уж не беспокойся, знаю такое, что тебе у-ух как не поздоровится!
ХVIII
Одни и те же мысли у Темыра:
«Как же это произошло так? Мыту убил Ахмат, а знает ли об этом Зина? Это невозможно: если бы Зина знала, она боялась бы меня или сказала мне. Она ведь ничего не умеет и не желает скрывать».
Темыр бродил по двору. Помутились его мысли, любовь к Зине боролась с враждой, и эти две силы разрывали его сердце. Он находил отдых — и только на минуту! — в том, что переставал верить словам Мыкыча и даже этой бумажке. Может быть, и нет на всем свете такого ружья, — во что же тогда верить?
Этот негодяй, дворянский лизоблюд Мыкыч, может пойти еще и не на такую подлость. Он сам состряпал эту бумажку.
Но все-таки, — это понимал Темыр, — Мыкыч на что-то надеялся. И снова облегчение сменяется ужасом, и опять Темыр думает о записке.
«Найди ружье с этим номером, и ты узнаешь, правду ли я говорил». Эти слова сводили Темыра с ума. Он не верил в цифру, в подлинность записки, но то и дело, разглядывая, вертел ее в руках.
«Нет! Пусть Мыкыч негодяй, но он расчетлив, и поэтому он сказал правду, — думал Темыр. — Вполне может быть, что Мурзакан помог Ахмату убить Мыту».
Как ни беспокойна была до сих пор жизнь Темыра, отныне она стала просто невыносимой... «Может быть, и Мыкыч принимал участие в этом кровавом деле — он способен и на это».
«Аайт! Собаки вы, людоеды! Это вы помыкали моим покойным отцом, опустошили наш дом... Бедный мой брат, мой отец, кроткая душа!»
Темыр припомнил всех своих близких, и в эти тяжелые минуты воспоминаний и боли ему уже чудилось, что навеки угасла любовь к Зине. Его ум ужасался, а сердце плакало, и им владела мысль — мщение!
«Сегодня же ночью!.. Пусть это ее отец — долго ли его прикончить... Пойду в лес... Там же, у их дома, в мелколесье... Убив Ахмата, я сделаю, что надо с Мыкычем и с собакою Мурзаканом».
Темыр вынул револьвер, подул на него, как на зеркало, положил перед собою на скамью и погладил нежно.
«Ты мой единственный брат, ты мое мщение за Мыту».
Он отогнул ствол, вынул патроны, решил смазать револьвер; для этого надо взять костный мозг, хранившийся в берцовой кости; кость заткнута за балку потолка. И только Темыр встал на тахту, чей-то голос донесся со двора.
Темыр соскочил на пол, сунул в револьвер патроны, спрятал его в кобуру и положил в карман.
— Хай! — отозвался он настороженно и вышел.
Увидев Миху на коне, Темыр с трудом, но и с радостью приветствовал:
— Добро пожаловать!
Он подбежал подержать стремя, Миха сошел на землю, Темыр взял из его рук уздечку, снятую с лошади, накинул ее на гвоздь, вбитый в столб у дома, и обернулся к гостю:
— Заходи.
Миха был мал ростом, носил городскую одежду. На его голове красовалась сванская валяная шапочка; ее тесемки болтались под его до синевы выбритым подбородком. Говорил Миха не спеша, — иногда не сразу и заметишь, куда он клонит речь.
Миха теперь чаще заходил к Темыру. Он любил его и уже давно приглядывался к одинокому образу жизни, к трудолюбию и угрюмости Темыра. Да и пора пришла теперь такая, что Михе надо собирать людей! Все чаще Миха рассказывал Темыру о том, что делается на свете, о том, чего не знал Темыр. Новые, советские люди появились на земле, и сила их большая, и достоинства их другие, и видят в себе эти люди совсем иные качества. Нет, нет, эти абхазцы совсем не похожи на жителей старой Абхазии!
— Где ты был, Миха? — обрадованно и облегченно спросил Темыр, когда они сели.
— Да нигде еще, — ответил гость. — Хотел было съездить по одному делу к Чихия и вот завернул к тебе. — Миха доброй улыбкой приветствовал хозяина. — Просто хотелось тебя повидать. Ведь ты, друг, все в одиночестве, все о чем-то думаешь.
Он запустил пальцы в карман, вытряхнул на ладонь остатки табака и начал скручивать папиросу.
— Поедешь к Чихия вечером, — сказал Темыр с чувством большой легкости, словно переносясь в какой-то иной мир. — Честное слово, я очень обрадовался тебе. Посиди со мною, поговорим, — что тебе стоит развлечь меня, одинокого! Пусть лошадь попасется, я ее сейчас пущу на траву.
— Лошадь сыта, — отозвался Миха, — пускай себе стоит, долго не задержусь.
Как только Миха вошел в эту бедную, чисто прибранную комнату, он сразу же заметил, что у Темыра и сегодня на сердце мрак, да и обрадовался ему Темыр как-то порывисто.
Миха осторожно сказал, все так же улыбаясь и поглаживая колено хозяина:
— Ты что-то сегодня мрачен, друг. Или мне так кажется?
— Нет, ничего особенного. Плохо спал ночь и чувствую себя разбитым.
Темыр сел на тахту, поближе к Михе, и еще придвинулся, чтобы тот не глядел прямо в лицо; с искусственным оживлением он быстро заговорил:
— Что нового? Как дела в сельсовете? Ведь вы там первыми узнаете, что делается на белом свете, и больше знаете, чем мы, вечно сидящие дома, да притом еще — в одиночестве.
Миха сдул пепел с папиросы и пустил клуб дыма.
— Ничего, дела хороши, Темыр. Народ перестает думать о прошлом, его уже не давят так обычаи. Ну, начали люди обзаводиться хозяйством.
Темыр стискивал револьвер в кармане и старался отвечать бодрее:
— Да, народ действительно взялся за хозяйство! — Он старался попасть в тон Михе. — Смотри, как Чихия расправил спину. Совсем не думал я, что ему удастся выкормить ребят, а он, оказывается, еще домик построил.
— И хороший дом! Купил себе пару волов. Вот только плуга нет у него. Ну, да мы ему поможем, дадим еще немного из фонда для бедноты...
Все так же держа руку на револьвере, Темыр воскликнул:
— Вот говорили, что Чихия не работник, лентяй, а гляди, сколько он сделал!
Миха не ответил и некоторое время, чуть отодвинувшись, в раздумье смотрел на Темыра.
— Знаешь, о чем я думаю, Темыр?.. — Он в последний раз затянулся и бросил папиросу. — Все меня занимает мысль об этой дубовой роще, и каждый раз, когда прохожу мимо атуары [16], вспоминаю о том, как наших отцов на этом месте избили казаки.
— Сколько тебе было тогда лет, Миха?
— Я еще был совсем маленьким, но уже мог во время пахоты идти впереди буйволов и управлять ими.
Миха вспомнил печальное прошлое своего отца Куштина, делившего невзгоды с Пахуалой.
— Как в аду жили бедные наши отцы... — с грустью проговорил Темыр. Он снял ладонь с револьвера. — Жаль, не дождались они нашего времени! Хорошо было бы им.
Он произнес эти слова с неожиданной для себя глубокой грустью, и ему показалось, что он уже пользуется всем новым; да он и пользовался бы, если бы не это страшное кровавое марево.
— То, что переживаешь в детстве, никогда, друг, не забудется.
Миха слегка сдвинул свою сванскую шапочку, снова опустил палец в карман, вытряхнул на тахту табак, собрал щепотью и насыпал в бумагу, но не закурил.
— Нам еще очень мешают разные вредные обычаи, — сказал он, вертя в пальцах папиросу. — Ты-то поймешь меня лучше всех. Я хорошо знаю, ты ведь против старого, не правда ли?
— Конечно.
— Вот видишь. И как странно люди поступают! Ты знаешь бедную вдову Сукуна? Она устроила по мужу поминки и такие расходы понесла, совсем разорилась — детей нечем кормить. К чему все это?
— Может быть, и ни к чему, если человек разоряется, — подтвердил рассеянно Темыр. — Но ведь бывают же обычаи, мимо которых не пройдешь.
— Какие?
Темыр опасливо взглянул на Миху и глубоко вздохнул, как человек, которого гнетет тяжелая тайна.
А Миха, не дождавшись ответа, ушел в свои мысли. Он сочувственно думал о Темыре: в хозяйстве этого одинокого человека все еще не произошло добрых перемен, хотя так ловки и неутомимы руки Темыра. Все так же, на той же стене висел маленький самодельный коврик, местами облысевший и выцветший от солнца, помутневший от дождевых капель, — эти капли приносит сюда сквозняк, дувший в пазы плетеных стен обиталища Темыра.
Грустно оглядывал саклю Миха: к домашней утвари не прибавилось даже нового горшка, у горлышка большого старого кувшина отбит край, крыша давно протекает, в дыру виден кусок синего неба. Даже потертую тростниковую петлю, придерживающую калитку, Темыр, всегда чем-то угнетенный, не удосужился заменить новой.
Все это видел Миха, но не верил, что виною этому лень Темыра, — дело тут, несомненно, в другом. Откуда эта тоска Темыра, он догадывался.
Долго смотрел на приятеля Миха, выглянул в раскрытую дверь — там, у плетня, в папоротниковых зарослях его лошадь пощипывала траву.
Темыр взглянул туда же и сказал просительно:
— Видишь, твоя лошадь мирно пасется, и ты можешь посидеть со мною. На сердце у меня, Миха, нехорошо.
Гость положил руку на плечо хозяина.
— Да, — сказал он, — я вовсе не спешу. В конце концов я могу навестить Чихия и завтра.
Он помолчал.
— Народ тебя уважает, Темыр, и тебе пора это знать. Ты молод, а ум у тебя большой.
— Благодарю.
— Скажи откровенно, что с тобою, почему ты замкнулся. Отчего ты так редко бываешь на наших собраниях?
Темыр в замешательстве заерзал на месте. Как ему сказать правду? Он знал одно: он кровник, а по абхазскому обычаю кровник, чтобы никто не мог ему бросить в лицо упрек, не появляется в общественных местах до того, пока не отомстит.
Вот такой трудный вопрос задал Миха! И почему он спросил об этом? Уж не догадывается ли он?
Нет, Темыру нельзя бывать на людях, он хранит честь, и его мысли заняты другим, он другое вынашивает в сердце. Но скрывать тайну надо даже от Михи, и Темыр медленно, неуверенно произнес:
— Что ж, могу бывать и почаще, только ты ведь сам знаешь — я один и не всегда решаюсь оставить дом.
— Это-то верно. Но все-таки, Темыр, прошу тебя, хоть иногда заглядывай на собрания, увидишь, как мы работаем, и, может быть, это тебя самого увлечет. Ведь мы могли бы найти тебе интересную работу.
— Хорошо, — неопределенно ответил Темыр.
Миха поправил на голове сванскую шапочку, взял плеть и вышел.
XIX
Найти работу... Легко сказать! Для этого раньше надо было бы создать новую жизнь, а это не во власти Темыра.
Конечно, вокруг шла уже другая жизнь. Но то, что случилось, не освободило Темыра от мыслей, скорбных и властных. Месть! Об этом он думал непрерывно.
Темыр не сомневался в том, что если Мурзакан пожелал смерти Мыты, Ахмат подчинился и убил; Темыр хорошо знал недавние обычаи.
Что из того, что Ахмат по натуре добр, — в его доброте есть и безволие. По обычаям старины, отношения, возникавшие между воспитанником и воспитателем, заставили бы Ахмата выполнить любое желание Мурзакана. В бумажке с шестью цифрами — эти цифры Темыр запомнил навсегда — написано, что Мурзакан дал Ахмату ружье. Дата, стоявшая па бумажке, тоже соответствовала. Но как узнать Темыру, было ли когда-нибудь у Ахмата ружье под этим номером? Верно ли все, что рассказал ему Мыкыч — этот мастер лжи? Приход Михи заставил Темыра как-то серьезнее задуматься.
Он ломал пальцы — привычка, ему до сих пор не свойственная — и угрюмо думал:
«Что же я все сижу дома? Ведь так никогда ничего не узнаю».
И хотя это было поруганием обычая кровничества, Темыр решил ходить на собрания, сближаться с людьми, разузнать... Ведь было много людей, которые могли — пусть и случайно — подсказать Темыру правду, навести на верный след.
...С того дня, когда Темыр стал бывать в сельсовете, что-то смягчилось в нем, — или, может быть, это только казалось?
Миха приводил его в маленькую читальню, и Темыр привык подолгу просиживать над книгами и газетами, читая или раздумывая, вглядывался в иллюстрации журналов, находя в них всегда интересное, невиданное...
Что же искал он в книгах и газетах? Он не мог сказать, что именно его влекло, он искал и находил в них все новое и новое, что-то великое, чтo порой захватывало его дух. Какая-то подсознательная мысль подсказывала ему:
— А ну, Темыр, продолжай читать побольше, в этом ты найдешь путь к утешению от своего гнетущего горя.
Но он долго не находил ничего такого, что изменило бы ход его мыслей, надолго отвлекло бы его от дурманящей тоски. Темыр никак не мог ухватиться за нить, которая дала бы ему ясную надежду выйти на новые пути жизни. Ее далекие просторы все еще казались ему туманными. Но в то же время Темыр не терял интереса к чтению, наоборот, он пристрастился к нему, находя-в книгах какую-то большую для себя опору.
Темыр уже многое знал. Он прочел о ленинском плане электрификации страны и о строящемся Днепрогэсе, об автомобилях, которые все в большем числе выпускались в Москве, о гусеничных тракторах — их он никогда не видел, — о строительстве новых и новых заводов, о трудовых подвигах рабочих, о новых университетах и школах.
«А ведь это все нужно и для нас», — появлялись у него первые мысли об общности интересов людей, которые учатся и трудятся в советской стране.
— А что у нас сегодня нового? — иной раз слышал он не без удивления свой оживленный голос и с увлечением погружался в чтение нового номера «Правды». Как пригодилось ему знание русского языка!
Особенно стала интересовать Темыра жизнь других народов. Он знал с детства своих родичей абхазцев, встречал грузин, армян, знал русских, но он никогда не мог представить, что в Советском Союзе объединились более шестидесяти народов, и все они теперь равные и свободные.
«Какой же он великий и для всех хороший, наш Советский Союз», — размышлял Темыр.
Однажды Миха застал Темыра у старой карты мира, висевшей в читальне. Темыр сосредоточенно водил пальцем по городам Китая.
— Наши одержали победу в Кантоне, двигаются к Шанхаю, — радостно сообщил он Михе.
Миха, прищурив глаза, ласково и внимательно посмотрел на Темыра: как вырос парень!
Для Темыра «нашими» стали не только жители его деревни, жители Абхазии, народы Советской страны. Он стал глубоко проникаться сознанием, что наши — это все такие же, как и мы, трудовые крестьяне и рабочие во всем мире. А когда он читал об эксплуататорах и угнетателях народа — в Америке ли, в Азии — перед ним вставали лица Мурзакана и Мыкыча.
Темыр брал книги Ленина, он с удовольствием послушал бы кого-нибудь, кто мог бы объяснить ему получше ленинские идеи, растолковать общественные проблемы. У него появилось множество вопросов, с которыми он обращался к Михе. Но Миха сам знал не очень много.
Иногда Темыр брал книги домой, ставил у изголовья свечку и, бормоча под нос, чтобы заглушить мысли, читал вслух. Он читал с усилием, стараясь побороть этим боль сердца, и нередко засыпал с книгой в руках или мучился мыслью: «Какой он читатель?.. Он — кровник!»
Сунув книгу под подушку, Темыр до самой зари ворочался с боку на бок и тщетно пытался заснуть, и не одну ночь он провел без сна. Он вставал, зажигал свет, снова принимался за чтение. Его голос громко раздавался в эти ночные часы, клочок темного неба с одинокой звездой заглядывал в щель потолка. Какое дело ему, кровнику, до Днепрогэса, до сельскохозяйственной машины под названием «трактор»? Зачем ему интересоваться какими-то отвлеченными вопросами, разве к лицу ему это? Он — кровник! И Темыр гнал громким чтением, словно молитвой, кровавый соблазн и в таком мучении проводил ночи.
И все же в сознании Темыра оставались крепкие следы от каждой новой прочитанной книги. А поднимаясь утром, он вспоминал и призывал в мыслях Миху, чья жизнь так легка, так открыта и так недоступна Темыру.
...Темыр быстро шагал по каменистой ложбине вдоль русла реки, перешел реку вброд и выбрался на открытое место. Неподалеку был сельсовет.
Под большим дубом беседовала группа крестьян. В сельсовете за столом сидел Миха, перед ним лежал исписанный лист. Он улыбнулся Темыру и по обычаю встал навстречу.
— Садись, — сказал Миха и сам сел, — что скажешь?
— Почему вы меня назначили? — быстро и взволнованно заговорил Темыр. — Зачем я понадобился вам?
В его голосе зазвучала обида и, еще больше, растерянность: он ходит к людям, чтобы кое-что выведать, а не для того, чтобы занять почетное место, вовсе не полагающееся не отомстившему кровнику. Конечно, Миха не понимает и поэтому так мирно улыбается.
— Уверяю тебя, Темыр, этого хотел не я... Но как быть, если народ тебя уважает и народ захотел? Что я мог поделать?
Лицо Темыра покрылось испариной. В какое положение он попал! Он был подавлен и раздражен.
— Вы просто губите меня...
— Преувеличиваешь!
— Нет, вы просто губите меня. Это ты когда-нибудь поймешь. Ведь для меня это мучение.
— Это доверие, которое тебе оказано, эта почетная работа — мучение? Вот новости!
— А что, если ты когда-нибудь узнаешь, что я не имею права на почет? — сказал жалобно и растерянно Темыр, не глядя на Миху. Он спохватился, что сказал лишнее, и потому прибавил: — Когда не знаешь дела, оно всегда трудно. Но скажи, пожалуйста, что ты придумал? Разве я когда-нибудь работал в кооперативе, думал о таких вещах, разве торговал?
Миха слушал Темыра и не произносил ни слова. Что-то надломилось в Темыре. Он и горяч, и дружелюбен, но все ли открывает, что на душе?
— Что я могу сделать, раз тебя выбрал народ, а теперь время такое, что нельзя не работать! — Миха остро посмотрел прямо в глаза Темыру. — Нас выбрали, меня раньше, тебя позже, — неужто всем вместе не удастся осилить трудностей? Погоди, Темыр, еще как хорошо поработаем!
Он склонился над лежавшим перед ним листом и стал что-то писать.
Темыр, встревоженный тем, что «обманывает» народ, сидел, придавленный горем, неподвижно, и печальные мысли вихрем проносились в его голове.
— У нас составлен список желающих вступить в члены кооператива, — неторопливо сказал Миха, отодвигая чернильницу. — Каждый должен внести пай по своим возможностям. Прочти-ка.
Темыр, словно к языку пламени, протянул руку к бумаге, прочитал ее и все так же молчал.
Миха подмигнул:
— Я уже думал о том, как выполним дело, порученное нам с тобой народом. — Он положил ладонь на плечо Темыра. — Знаешь, если ты мужчина, давай поспорим, кто из нас больше денег соберет.
Темыр, как ни был озабочен своими бедами, не мог не улыбнуться:
— Как же «поспорим»? — спросил он. — Как дети? «Кто больше»?
Он внимательней и спокойней заглянул в список и перевел глаза на Миху.
— Да хоть бы, как дети, — со смехом подхватил тот. — Ей богу, не шучу. Поспорим? идет?
— Ну что ж, давай, — согласился чуть повеселевший Темыр.
Вошел третий товарищ; он тоже не уклонился от «спора».
— По-твоему, сколько ты сможешь собрать рублей сегодня? — спросил Миха Темыра.
Размышлял ли Темыр обо всем этом еще час назад? Он думал о том, что он еще не отомстивший кровник; думал о кости со смазкой для револьвера, думал о том, что навеки погибла любовь к Зине. А тут сбор денег... кооператив... подписные листы...
Нет, жизнь смеется над Темыром. И, словно в тумане, он произнес:
— Я не знаю, ну, рублей около ста мог бы собрать, а то и двести.
Они поговорили о том, как станут собирать, и каждый обязался принести к вечеру не менее трехсот рублей.
— Берите карандаш и бумагу, записывайте фамилии, — сказал Миха. — Отмечайте, кто и сколько заплатит.
Со списком в руке, кровник, который не должен показываться среди людей, пошел по назначенным для него домам поселка. Переступая каждый порог, он, казалось ему, оскорблял этот дом и унижал себя. Он не смел быть среди людей!
Наступал вечер. Секретарь сельсовета закрыл дверь и только что собрался повесить замок, как подошел Миха. Секретарь снова открыл дверь, и они вошли в комнату, залитую оранжевым отблеском заката. Вскоре появился Темыр, за ним третий товарищ.
Миха взглянул на Темыра и чуть улыбнулся:
— Сколько же собрали?
Он радовался посветлевшему лицу Темыра; эта прогулка, разговоры с людьми, легкий азарт оживили юношу.
Третий сборщик пожал плечами.
— Я собрал меньше, чем говорили.
Темыр молчал.
— Ну, а все-таки?
— Я — двести пятьдесят, а Темыр — триста.
— Да что вы! — засмеялся Миха. — Вы просто герои из героев.
— А ты сколько? — живо спросил Темыр.
— Я — триста один рубль.
Темыр почти с досадой подумал, что Миха на рубль «обогнал» его. Но что за праздные мысли для человека в положении Темыра? Что занимает его! Что ему этот рубль Михи!
— Ты вот, Темыр, смеялся, — заметил Миха, — что мы, мол, как дети, решили поспорить, а если бы не наш спор, думаешь, мы собрали бы столько?
Он схватил Темыра за руку, уж очень хотелось растормошить его.
— Может быть, и не собрали бы, — отозвался Темыр, — но, кажется, вышло неплохо.
Глядя на него, просветленно улыбнулся и Миха. Они договорились встретиться утром и вышли из сельсовета.
Темыр медленно приближался к своей сакле. Его голова горела. Ему бы думать о крови, а он лезет в кооператив! Темыр пожал плечами, пораженный противоречиями своей жизни.
Нет, как вы там хотите, а все в жизни Темыра делается совсем не так, как следует. А как же Ахмат? Как быть с Ахматом?
XX
Вскоре после этого в лавке, еще недавно принадлежавшей Кадыру и Мыкычу, на полках появился кооперативный товар, и ни кто иной, как Темыр, открыл кооперативную лавку и приступил к торговле.
Уж в эту-то лавку непременно придут все односельчане, и кто-нибудь проговорится о ружье под номером 179013. В поисках страшной правды можно переступить через порог кооператива.
Действительно, крестьяне охотно шли в кооперативную лавку за покупками, а еще более — для начала — шли приглядеться к товарам.
Темыр до позднего вечера не запирал дверей — пусть ходят люди, где-то меж ними затеряна правда о страшной кончине Мыты.
Как-то раз после полудня в кооператив вошли Зина и Селма. Темыр переставлял на полках мелкие предметы и стоял спиной к двери; обернулся — сердце замерло; и побелел он, и покраснел, и не знал, что сказать, увидев их.
— Как поживаешь, нан Темыр? — спросила Селма, как только Темыр повернулся к ним.
Она подошла к прилавку, а Темыр не спускал с нее глаз.
— Так себе... Неважно... — едва слышно пробормотал он.
Зина остановилась у двери, прислонясь к косяку. Мать обернулась к ней.
— Подойди же, нан Зина. Может быть, тебе здесь что-нибудь понравится. Выбирай.
Темыр не подымал головы и все еще расставлял и укладывал товары на нижней полке.
Селма спросила:
— Сколько стоит мыло, нан Темыр?
— Шестьдесят копеек.
— Покажи-ка нам, я погляжу, — старуха протянула руку.
Темыр послушно выложил перед нею несколько кусков, и ему стало страшно глядеть на ее старушечью руку, взявшую зеленоватый кусок туалетного мыла, а она обернулась к дочери и укоризненно заметила:
— Что с тобой, нан Зина? Подойди же и выбери.
— Ничего не хочу! — отрывисто сказала Зина и потупилась.
Она почувствовала дурное настроение Темыра, что-то было пугающее в нем. Это было так заметно, что Зина сначала не могла даже посмотреть на него, хотя они так давно не виделись. Все же она осмелилась один раз взглянуть исподлобья и увидела, что лицо его потемнело.
Что с ним? Она стояла в раздумье, не понимая, как быть, и решила, что угнетенность Темыра связана с тем, что он однажды сказал о мести. Девушка подумала, что, наверное, он уже узнал, кого должен убить.
А Селма сыпала ругательствами по адресу Мыкыча.
— Чтоб он добра не видел, — говорила она, нюхая с наслаждением кусок туалетного мыла. — Он с нас, оказывается, шкуру драл! Когда лавка принадлежала ему, нан, мы покупали здесь мыло по три рубля. Хорошая, значит, штука кооператив. Золотые вы, наши дети. Дай вам бог всем хорошую жизнь, чтобы нам, старикам, с вами прожить подольше... Вот золотые головы — открыли советскую лавку!
Она отвернулась, подняла верхнюю юбку, достала из-под нее болтавшийся у пояса маленький засаленный сверточек и с трудом развязала его.
— Отсчитай, сколько надо заплатить за мыло, и дай мне! — обратилась она к дочери и протянула сверток.
Зина отсчитала шестьдесят копеек и вернулась на прежнее место к двери. Мать рассерженно бросила деньги на прилавок и взяла мыло.
— Если б знала, что ты будешь дуться, разве я привела бы тебя сюда! Что с тобою? — она говорила громко, так, чтобы услышал Темыр. — Темыра ты, что ли, стесняешься? Так ведь, он же наш парень!
Мать с дочерью ушли. Темыр возбужденно шагал взад и вперед за прилавком. Он задыхался. Ему теперь не хватало воздуха. После Селмы и Зины в лавке побывало много народу, но глаза Темыра никого не видели; у него не было сил занимать посетителей — шутить и смеяться.
Наступила ночь — самая тяжелая из ночей и Темыра, и Зины. Зина так мечтала увидеть Темыра, хоть мельком встретить его взгляд, а домой шла с опущенной головой, словно виноватая. Она почувствовала, что чем-то страшным, неумолимым живет любимый ею человек.
Ахмат и Селма были встревожены: не заболела ли дочка? Всю ночь до утра продумала девушка о том, что же могло превратить в камень любящее сердце Темыра. Пусть не неделя, о которой он говорил, пусть годы пройдут, — Зина будет ждать... но откуда эта враждебность его взгляда? Болела голова, истомленная Зина заснула только под утро.
И Темыр провел ночь без сна, только этой ночью он понял, что мучился не одной жаждой мести, что дороже Зины у него нет никого и не будет никогда. В отчаянии, хватаясь за ворот рубахи, за грудь, он думал о Зине и вспоминал, как не мог наглядеться на нее и вдруг в глазах проискрилось:
...№ 179013...
Еще недавно Темыр надеялся, что Зина поможет ему поднять голову, согреет его сердце, войдет в его дом и светом, никогда не меркнущим, озарит каждый угол. А теперь он знает, что должен убить ее отца.
Все путалось в мыслях и ничего нельзя было решить. Он понял, что не только ищет в посетителях кооператива тех, кто мог бы ему подсказать правду, но что, выполняя дело, порученное ему народом, отвлекается от страшных мыслей.
Разве это похоже на то, что Темыр целиком отдал себя кровной мести! Он должен быть мужчиной, несмотря ни на что. Записка сжигала его сердце.
«Ничего не поделаешь! Надо скорее все разузнать и покончить с Ахматом».
Темыр зажег свечу и при ее колеблющемся свете пристально глядел на цифры, и цифра «0» казалась ему дулом ружья.
Ну, а если это не Ахмат? Надо хорошенько проверить.
Так до самого утра одно решение сменялось другим, цифры на стертом листке пламенели перед усталыми глазами, и Темыр спрятал листок в карман. Вот уже наступило утро с теми же сомнениями и тревогами, и Темыру хотелось забыть Зину, не вспоминать, как она робко стояла на пороге кооператива.
Он опасался встречи с девушкой.
Но что поделаешь с Зиной, если она через три дня опять зашла с матерью в кооператив!
К счастью, в лавке было много народу. Люди всегда приходили сюда к закату солнца, чтобы поговорить о том, о сем. Темыр уже собирался запереть кооператив, и когда последние покупатели покидали лавку, он с облегчением увидел, что нет и старухи с дочкой. Он подсчитал дневную выручку, обрызгал пол водою, принялся подметать и, когда нагнулся, чтобы вымести сор из-под прилавка, заметил маленькую, сложенную треугольником записку; то, что записка была положена, а не брошена, Темыр сразу почувствовал.
Бумажка была склеена по сгибу. На ней чернело только одно слово: «Темыру». Он осторожно распечатал:
«Темыр, я поняла только то, что ты на меня за что-то обижен. Что случилось? Чьим словам ты поверил и что это за слова? Я все та же Зина, какую ты знал. Прошу тебя открыть мне, что тебя беспокоит.
З и н а».
В первую минуту записка ожгла Темыра, горели даже пальцы. Он положил бумажку на прилавок и подумал: что общего может быть теперь между ними? Но тут же бессильная злоба улеглась, уступила место заглохшей любви. Его любовь вспыхнула с новой отчаянной силой, она все в нем затмевала.
Пусть в сердце Темыра глядит тот нолик — дуло ружья, но он любит. И он понимает, что Зине ничего не известно, она ничего не знает об убийстве!
Темыр бросил взгляд на записку, не в силах ее перечитать и страшась к ней прикоснуться. То затихала, то возникала боль сердца.
Стиснув зубы, он хотел разорвать записку, но, когда пальцы прикоснулись к листу, рука не повиновалась; он медленно сложил бумажку и бережно положил в карман, но в другой карман, не туда, где лежала записка с цифрами.
Темыр, находя забвение в работе, вместе с тем увлекался ею; с покупателями он был любезен, помещение держал в чистоте, — нигде ни пылинки. Те из крестьян, у которых были ленивые, неряшливые жены, всегда ставили в пример им Темыра и его лавку.
Однажды в кооператив вошли двое посетителей; их Темыр видел впервые. Они долго пробыли в лавке, ко всему приглядывались, и, когда другие покупатели ушли, Темыр, по обыкновению учтивый, спросил незнакомцев:
— А вам что угодно? Что желаете купить?
— Ничего. Это ты заведуешь кооперативом?
— Нужен я вам зачем-нибудь?
Незнакомцы переглянулись. Темыр понял, что эти люди имеют к нему дело.
— Разыщи секретаря ячейки или председателя сельсовета, — сказал один. — Мы приехали по одному делу, и нам хотелось бы кого-нибудь из них повидать здесь, в лавке.
Темыр попросил посетителей выйти из лавки, запер двери и побежал в сельсовет. Миху он не застал, вернулся к кооперативу с председателем сельсовета. Гости сидели на ступеньках; они оказались знакомыми председателя и вместе с ним вошли в заднюю комнату при лавке и стали расспрашивать о Темыре. Председатель его похвалил. Один из приезжих сказал:
— Как странно, а мы о нем слышали совсем другое!
— А что вы слышали?
— Есть у нас заявление, что у него растрата, и мы приехали из Очамчира — произвести ревизию, но прежде решили поговорить с тобою.
Приезжий вынул из портфеля отпечатанную на машинке бумагу. Председатель прочел:
«Темыр работает в кооперативе небрежно, груб с покупателями, с крестьянами не ладит, осыпает их бранью. Он растратил немало денег, и, если его немедленно не снять с работы, он погубит дело».
Бумага была переслана для расследования в Очамчира из редакции газеты «Советская Абхазия».
— Вранье все это! — сказал председатель, возвращая бумагу.
— Может быть, ложь, а все-таки нам придется сделать ревизию.
Приезжие тщательно обследовали кооператив и составили акт: они не обнаружили ни растраты, ни убытка, дела не были запущены, во всем — образцовый порядок.
Приезжие узнали, что в деревне к кооперативу относятся хорошо. Темыра уважают, лавка стала для крестьян как бы клубом. Они поняли, что записка написана недругом Темыра, и, уезжая, пожали ему руку:
— Ты молодчина, и видно, что лавка тебе дорога!
Темыр с утра не ел ничего, проголодался и не прочь был отдохнуть, но пережитое волнение как-то возбуждало его: кто знает, почему он с особой печалью и нежностью, удивлявшей его, вспомнил сейчас о записке Зины...
Двери скрипнули, и Темыр увидел словно окаменевшее лицо Мыкыча.
— Еще торгуешь? Тебя только здесь не хватало! — сказал Мыкыч. — Эх, бедная моя лавка! — Он шумно вздохнул, сел на скамью, обвел стены диким взглядом.
Стоя за прилавком, Темыр молчал.
— Не тебе бы следовало здесь стоять! — продолжал Мыкыч. — Ведь мы-то с тобой знаем, кто ты. Как же ты смеешь с таким долгом на сердце появляться здесь, в этом шумном месте, перед лицом людей!
Темыр ненавидел Мыкыча, но все же смиренно спросил:
— О чем ты говоришь?
— Все о том же! Ты не сумел отомстить за себя, ты теперь знаешь, кто твой враг. Попробуй мне возразить, что не знаешь, как зовут его.
Волосы зашевелились на голове у Темыра, — он услышал страшные, обязывающие слова и униженно, с трудом, чувствуя, что высохли небо и язык, прошептал:
— Лучше бы ты убил меня!
Мыкыч глядел торжествующе.
— Мне-то что! Вот люди над тобой смеются за спиной, а когда все узнают — тебя камнями закидают, побьют в твоем кооперативе. Советский торговец, святоша! «Отомстить не сумел, — так говорят о тебе. — Трупом слоняется среди живых. Утратил все, что в нем было абхазского. Под юбкой голову прячет».
— Молчи!
— Нет, это ты, «кооператор», замолчишь. Ты еще онемеешь, когда все заговорят о тебе, растоптавшем законы отцов! Ой, ой, с кем это я говорю, на кого слова трачу!
Мыкыч плюнул и, порывисто встав, вышел из лавки.
А Темыр молчал: у него темнело в глазах, и он стоял, дрожа, как измученное животное, не осмеливаясь перевести дыхание, не позволяя себе вдохнуть запах этих стен — стен ставшего ему близким кооператива. Он прикусил себе палец и подумал:
«Что бы я ни делал, все напрасно! Значит, рассудок меня обманывает или вовсе покинул. Если бы знал Миха, какая отравленная жизнь для меня создалась...»
Темыр уже не мог владеть собой, сейчас он рвался к мести, и это было неотвратимо, как последняя судорога умирающего. Слова, которые произнес Мыкыч, скоро бросят в лицо Темыра все жители деревни. «Нет, залей все сердце, затопи весь мой мозг, месть!»
Но тут же, через секунду, в нем шевельнулось недоверие к Мыкычу. Темыр вынул из кармана записку с номером ружья. Долго сидел, перечитывал краткую шестизначную цифру, вздыхал и щурился, как от нестерпимого света.
Свернув записку, Темыр опустил ее в карман, запер дверь лавки и ушел. А в другом кармане другая записка призывала его забыть о номере 179013.
...Время шло, и Темыр, как и прежде, продолжал работать в кооперативе, но уже больше не ходил мимо дома Ахмата. Огибая его, он шел мелколесьем и думал, что вот здесь, среди деревьев, и застынет стариковская кровь.
Уходило время, и Зина горевала. Сильнее всего ее мучило то, что Темыр так и не ответил на записку, — значит, он обижен. Он, может быть, ненавидит ее. За что?
Иногда девушка чувствовала себя такой униженной, точно порабощенной пренебрежением Темыра. Иногда она возмущалась этим, но тут же виновато опускала голову, не находила себе места, и все валилось из ее маленьких рук.
«Нас не разъединят ни моря, ни горы. Что же со мной? Почему я не могу узнать, кто обидел Темыра? Он сказал, что расстанется со мной только на неделю, — спрошу, когда же кончатся эти мучения, пусть он мне ответит».
Но Зина не шла в кооператив и не подходила к бедной хижине Темыра.
Между тем слава о красоте Зины росла. Люди, которых до сих пор никогда не видел Ахмат, приезжали к нему будто по делу; иные говорили, что слышали: Ахмат, мол, продает хорошую лошадь. Но какие лошади у Ахмата? Старик понимал, что парни вовсе не собираются покупать лошадей, но, смекая, в чем дело, и не думал обижаться.
— Слава богу, — говорил он Селме, — и до этого мы с тобой дожили, и это увидели наши стариковские глаза.
Всех, кто приезжал, Ахмат встречал с радостью и приветствовал ласковым словом. Всем нравилась его доброта. Даже важничающие люди, франты, которые могли не особенно считаться с Ахматом, с его бедным домом, из внимания к его дочери почтительно произносили:
— Долгой тебе жизни, Ахмат!
«Что ж, у кого красивая дочь, у того со временем появляется немало новых знакомых».
Наступили дни перевыборов в сельсовет, и неожиданно для Темыра назвали его кандидатуру председателем сельсовета. Его выбрали единогласно, как он ни отказывался, и он подумал: если Мыкыч, у которого, несомненно, также записан номер ружья и который знает очень многое, откроет перед людьми трусость Темыра, все, как от зачумленного, отшатнутся от нового председателя сельсовета.
Темыр страстно отказывался от выпавшей ему чести, отказывался наотрез, отвел в сторону Миху, уговаривал и умолял его; но как быть даже с Михой — разве ему откроешь всю правду?
Над головой Темыра не небо, а мрак, не потолок сельсовета, а, казалось, кость, из которой на самое темя каплет жирная смазка для револьвера.
Миха только дивился нервному состоянию и упорству товарища.
Темыр пытался склонить на свою сторону и самых влиятельных стариков, но с ними тем более не осмеливался быть откровенным. Старики улыбками поощрения отвечали на скромность молодого человека. Нет, кто же, в самом деле, может быть председателем сельсовета, как не Темыр!
Оторопелый, он думал:
«И дело ж на меня взвалили! Я-то понесу его, но снесет ли его моя судьба...»
Да что поделаешь против воли людей!
Как в предгрозье, когда стихает вся природа, когда черноту туч вот-вот прорежет молния, Темыр, чувствуя неотвратимый ужас, еще усердней работал. Он заглушал вину перед своей совестью и перед всеми односельчанами — трудился в полную силу.
За короткое время село обзавелось всяким добром. Темыр помогал крестьянам строить дома. Самое здание сельсовета, маленькое и обветшалое, обновили — его отремонтировали и надстроили второй этаж. В поселках организовали школы ликбеза, исправили дороги.
Деревня увидела, как работает Темыр, и к нему пошли многие молодые ребята. Только Мыкыч не приходил.
За умелый труд Темыра благодарили районные организации. Уже в Очамчира говорили о нем:
— Глядите, как поднялся, вырос этот Темыр Тванба!
Да, конечно, он хорошо работал. Но кто же заглянул в его сердце, кроме этого негодяя Мыкыча!
XXI
Веселое время. Шел сбор урожая. Тучная земля, озаренная и обожженная солнцем, пахла сытостью, сладким, чуть ванильным запахом сохнувшей соломы. Крестьяне от утренней до вечерней звезды собирали урожай. Кто с шумными возгласами снимал чуть звенящую, спелую тяжелую кукурузу, кто связывал кукурузные стебли — чалу, чтобы навесить потом на ветви деревьев.
Поющие песню урожая полные арбы не спеша тянулись мимо сельсовета; мирно покрикивая на буйволов и волов, крестьяне свозили к домам кукурузу.
Темыр и Миха, загоревшие за этот долгий день, усталые и довольные, сошли с коней, накинули поводья на ветку дуба и направились к сельсовету.
Миха шел позади, откинув полу короткой куртки, сунув два пальца за пояс и мизинцем поддерживая ремешок плетки.
Им предстояла большая работа, может быть, на всю ночь.
Задержавшись на лестнице, Темыр обернулся к Михе, — он заметил, что кто-то выехал на хорошем коне из-за угла здания сельсовета, и сказал:
— Посмотри, кто едет!
Миха обернулся:
— Что ему нужно, бездельнику?
Они вошли в сельсовет, а Мыкыч, подъехав к дубу, привязал коня и тоже поднялся по ступенькам.
Внезапно налетел ветер, сорвал с дуба подсохшие, зарумяненные зноем листья, крутя поднял их в воздух и умчал куда-то. Захлопали ставни. Темыр встал со скамьи, чтобы набросить крючок в петельку ставни.
— Не вовремя испортилась погода, набезобразит в поле, — заметил он, возвращаясь на место.
Вошел Мыкыч. Он поднял правую руку в знак приветствия и вежливо раскланялся:
— Добрый день!
Миха и Темыр также из вежливости встали; лицо Темыра побледнело, он почувствовал ужас и как бы вину перед Мыкычем.
— Не думал, что так удачно застану вас в сельсовете, — произнес, глядя прямо в лицо Темыру, Мыкыч. — Что же вы стоите! Садитесь.
Мыкыч взглядом заставил Темыра сесть и уселся сам.
— Как вы поживаете, да падут ваши болезни на меня?
Чуть помолчав, он приступил к делу, не спуская глаз с бледного лица Темыра.
— Мой отец и я, кроме добра, ничего не делали для народа, а теперь бьемся, трудимся, чтобы иметь кусок холодной мамалыги. Не богатеи мы, как некоторые. Не сомневаюсь, что вы все это знаете.
Он помолчал, вымогая у Темыра кивок, но тот сидел, как мертвый.
Мыкыч слегка усмехнулся.
— Не одно мое ничтожное дело, а все народные дела в ваших руках. Вы ведь наши руководители. И ты, Темыр, мой руководитель, — я должен слушать только тебя.
Мыкыч снял папаху, полузакрыл повеселевшие глаза и пригладил волосы.
Миха, молча слушая, взглянул на Темыра и удивился бледности его неподвижного лица.
Только для Темыра, дразня его, Мыкыч притворился смиренным.
— Дело, по которому беспокою вас, — сказал он вкрадчиво, — не очень важное, но для меня оно имеет большое значение. Я надеюсь на тебя, Миха, и на тебя, Темыр — мой руководитель. Очень вас прошу обоих — верните мне лавку, в которой временно помещается кооператив. За этим я и пришел, — произнес он глуше и взглянул на Темыра. — Знаю, что при желании вы это всегда можете сделать. Не правда ли, Темыр?
Миха и Темыр переглянулись.
Теперь или никогда Темыр может принять вызов. Он твердо сказал:
— Как же мы будем распоряжаться? Кооператив — народное достояние, и товар в нем народный.
— Разве ваш кооператив так богат и в нем, — Мыкыч повысил голос, — больше, чем на сто семьдесят девять тысяч тринадцать рублей всякого товара?!
— Это все равно, сколько в нем товара, — сказал Миха, — но Темыр совершенно прав.
— Ну, слава богу, что в нашем кооперативе не так много товара. А я, глупец, подумал, что вы можете мне уступить, стоит вам только захотеть. — Мыкыч будто бы задумался. — По правде говоря, мне не дом нужен: наше время советское — зачем мне дом! Мне очень хотелось бы поработать для пользы народа; я мог бы заготовлять табак, поставил бы в кооперативе хорошие весы. — Он вздохнул, смиренно глядя на Темыра. — Я никогда не забуду добра, если вы сделаете его мне. Я вообще ничего не забываю. Как тебе кажется, Темыр?.. Уж если вы не можете вернуть мне лавку, так хоть, по крайней мере, назначьте меня помощником продавца, прошу вас очень... Я мог бы торговать мануфактурой, принимать товар.
Миха взглянул на неподвижное лицо Темыра: неужели его не удивляют слова Мыкыча? У этого негодяя стыда не больше, чем у собаки!
Так как Темыр молчал, Миха резко произнес:
— Ты ведь знаешь, что ни я, ни Темыр нe дадим тебе места в кооперативе, и все это говоришь совсем понапрасну, так себе; должно быть, думаешь: «Что я потеряю, если наболтаю тут с три короба?» Кооперативом заведует Махаз, — продолжал Миха все так же резко, — там больше одного работника и не нужно. Махаза избрало общее собрание, и дать ему помощника мы не вправе.
— Махаз неграмотный, а вдруг у вас торговля разовьется и оборот будет более, чем... чем сто семьдесят девять тысяч тринадцать рублей.
Мыкыч упорно повторял номер ружья Ахмата, пристально глядя на Темыра. Но Темыр уже научился владеть собой. Мыкыч продолжал:
— Я только так, к примеру это говорю. Что Махаз понимает в торговле, в том же табаке! Я его подучил бы, я с этим делом у-ух как знаком!
— Махаз грамотный! — сказал Миха. — Это он прежде не умел читать и писать, а теперь читает, пишет и считает.
— Да, это верно, — добавил Темыр. — Когда я работал в кооперативе, я обучил его счету, а читать и писать он и до этого умел.
Мыкыч мрачно всматривался в подкладку папахи.
— Осчастливили, значит, его, — сказал он откровенно насмешливо и неторопливо надел папаху. — Сидел Махаз дома, а вы его, оказывается, обучили грамоте.
На его насмешливое замечание Миха нечего не ответил.
Мыкыч занес руку за спину, почесал поясницу и поправил пояс.
— Я еще о другом хотел просить вас. Если дело только в том, чтобы вас уважить как следует, то себя не пожалею. Ведь мы здесь свои люди.
Темыра передернуло, он побагровел.
— То есть как это «уважить»?
Они тяжело, неподвижно смотрели друг на друга.
Мыкыч отвел глаза, спохватившись, что сболтнул лишнее.
— Вот уж и рассердился, Темыр! Ты мой руководитель, и ты должен меня прощать, — ведь я в твоей судьбе и волоска не могу передвинуть, а ты должен понять, что я человек простой. Я ведь сказал совсем о другом, а ты как понял?
«Странно, — подумал Темыр, — пусть моя честь в его руках, но разве моя совесть может бояться этого грязного, преступного человека!»
— Ты нас, очевидно, за глупцов считаешь, — сказал Миха, — чтоб тебе добра не было, Мыкыч. Ты что же, думаешь, нас взятками усластить?
Мыкыч посмотрел на Миху и чуть вздернул плечами.
— Вижу, что ты, Миха, решил поругать меня ни за что ни про что. Это нехорошо, ведь я человек мягкий...
Я не ругаю, а говорю только о том, каков ты есть на деле, и больше мне нечего прибавить.
Мыкыч поднялся, заглядывая в лицо Темыру.
— Это еще хуже. — Он помолчал. — Вы, очевидно, решили уязвить меня, в то время как я пришел к вам чистосердечно поговорить о деле. Вы обидели меня...
Притворившись рассерженным, Мыкыч торопливо вышел, но дверь за собой прикрыл осторожно.
Миха и Темыр даже не привстали, хоть Мыкыч и обернулся, чтобы убедиться, выполнили ли они обряд вежливости, поднялись ли, провожая его.
XXII
Не успел Мыкыч доехать до берега реки, как из темных, низко стоящих над деревней туч, хлынул проливной дождь, забарабанил по крышам, запенился на земле.
Темыр выбежал во двор, отвязал лошадей, завел под навес позади сельсовета. Когда он вернулся, Миха, чуть сдвинув сванскую шапочку, что-то торопливо писал. Он повернул лист и указал глазами Темыру на бумажку, отпечатанную на машинке:
— Об этом я хотел с тобой поговорить, да вот помешал Мыкыч. Прочти!
Он протянул бумажку Темыру, склонил голову так, что концы тесемок его шапочки коснулись стола, и продолжал усердно писать.
— Ты понял, Темыр? В нашем селе мы не должны ни у кого из подозрительных оставить оружие.
Миха выпрямился, откинул шапочку, и она повисла на спине, держась на тесемке.
— Это дело надо закончить не позже завтрашнего вечера. Пришлют товарищей из уезда — хорошо, не пришлют — начнем caми. Думаю, если у кого и есть оружие, то наверняка у Мыкыча и его приспешников. Других подозрительных я не знаю, кроме вот этих...
Он записал имена: Арсана, Манча, — всего набралось около пятнадцати человек.
Темыр встал, глядя на Миху, его мучило искушение — назвать Ахмата и непременно внести его в список.
Но перед ним вырисовывался образ Зины, полный укоризны.
Вот когда легко можно было бы узнать страшную правду. Соблазн был слишком велик, но тогда что будет с Зиной?
Темыр там, за домом старика, мог убить его в мелколесье, но назвать дом Зины он не посмел. У Михи не было подозрения на старика: никто не видел, чтобы Ахмат когда-нибудь носил оружие, и подавно ни один крестьянин в деревне не мог сказать об Ахмате, что он дурной человек.
«Да й можно ли доверится Мыкычу? — подумал Темыр. — Вдруг мы не найдем, а Зина узнает о том, что я назвал имя ее отца.. »
...Стемнело. Ночь была безлунная. Из темноты, слабо освещенной крупными южными звездами, поодиночке выплывали тени, в сельсовете стало людно — собрались активисты, они окружили Темыра, и он прочитал список, составленный Михою; в список входили все, у кого могло быть припрятано оружие, но отец Зины так и не был назван.
Наметили, кто куда пойдет. И тихо, по два человека, выходили из дома и растворялись в темноте.
В ту ночь отобрали ружей двадцать. У Мыкыча нашли ружье, два револьвера, патроны. Ни у кого из бедняков, кроме Арсаны, оружия не нашли — кто ж не знал, что Арсана не может жить без Мыкыча: ведь когда он говорил: «Клянусь Мыкычем!» — это слово было свято для Арсаны. В списке стоял крестик и против имени бывшего дьякона, и некоторых известных всей деревне воров и пьяниц.
Манча раньше был абреком, водился с дворянами, князьями, исполнял их приказы, да и теперь потихоньку занимался темными делами. Его друг Шахан — вор и разбойник, хотя выдавал себя за «самого честного труженика».
Рассвело. У дверей комнаты, в которой сложили разнокалиберное оружие, поставили сторожа и разошлись по домам.
Утром в сельсовете собралось много людей; были и такие, которые выпрашивали свое оружие, изо всех сил доказывая, что они, дескать, честные люди. Когда из уезда в полдень приехал работник, он был удивлен тем, что Миха и Темыр, не дождавшись его, произвели обыски.
— Молодцы!
Жители села собрались на крыльце и вспоминали, не пропустили ли еще кого-нибудь из подозрительных.
Темыра охватила горькая тоска: этой же ночью надо было обыскать и дом Ахмата, пусть была бы напугана Зина, пусть бы на ее крышу пал позор.
Работника из уезда особенно тревожило то, что много оружия нашли в доме Мыкыча. Он тихо говорил об этом с Михой и Темыром. Вдруг они увидели, что кто-то неторопливо идет к сельсовету с ружьем на плече. Человек был еще далеко, и Темыр, сощурясь, старался разгадать: кто это?
Чем ближе он подходил, тем шаги его становились медленнее и нерешительнее, словно кто-то тащил его назад, а он не поддавался и шел на какой-то большой риск.
Человек подошел. То был Ахмат.
Миха с удивлением не сводил с него глаз. «Неужели у смиренного старика было все-таки припрятано ружье? Но что случилось с ним сегодня? Он не похож на себя...»
Ахмат с трудом поднялся на крыльцо. Он был бледен. Не осмелившись даже поздороваться и не взглянув на других, он прямо подошел к Михе и, подняв на него мутные глаза, произнес жалким голосом:
— Дад Миха, смотри-ка, вот это ружье, я уже не помню, с каких пор оно у меня лежит и пылится. Для чего мне ружье! — Он пожал плечами. — Не вояка я и не грабитель. Услышав, что ночью вы делали обыск, я и решил сам принести и отдать эту штуку вам. На, пожалуйста, возьми! — он протянул Михе ружье, покрытое желтовато-серыми пятнами мелкой ржавчины.
Миха с благодарностью принял ружье из рук Ахмата.
— Хорошо, что принес, — одобрительно сказал старику товарищ, приехавший из уезда, — ты поступил как честный человек.
— Да, да, раз вам надо, возьмите, — произнес Ахмат скороговоркой. Приподняв шапку, он повернулся и начал спускаться по лестнице. Но теперь его шаги были не такими вялыми, как тогда, когда шел сюда. Он спешил уйти от внимательных глаз Темыра.
То наблюдая за уходящим Ахматом, то поглядывая на ружье, которое держал Миха, Темыр молчал, но в голове его вихрем пронеслась мысль: «Неужели это то самое ружье, из которого он убил Мыту?»
Сердце Темыра, казалось, громко стучало, но он старался быть спокойным.
— Давай я отнесу на место, — сказал он Михе и, взяв из его рук ружье, направился в заднюю комнату, где лежали на полу отобранные ружья.
Темыр постоял перед дверью, как перед разрытой могилой, и с трудом ее открыл. Закрыв дверь, он взглянул на выбитый штампом номер ружья:
...179013...
Номер тот же.
К горлу подкатился клубок, гортань высохла, и Темыр выронил ружье — оно с грохотом брякнулось на пол, а сам он опустился на край тахты.
«Все, что я делаю, — с отчаянием подумал Темыр, — ровно ничего не стоит. Чиню дороги в сельсовете, надстроил второй этаж над этим домом... Лучше бы над моей головой был не второй этаж, а крышка гроба. Подл Мыкыч, но напрасно я ему не поверил».
Обессиленный, с тяжестью на душе, Темыр поднялся, взял ружье и начал его осматривать.
«Отсюда вырвалась пуля, убившая Мыту. Зина, Зина!.. Ты видишь, Зина, — предо мной лежит мой брат Мыта, кровь бьет струей из раны, кровь напитала бурку моего брата, и черная шерсть стала темно-гранатовой. Ты видишь, Зина, как завернутого в бурку, неподвижного Мыту на носилках вносят во двор, и мой бедный отец — наш бедный Пахуала — бьет себя в грудь, рыдая, падает на землю... Скажи обо всем этом Ахмату — своему отцу».
Все живо и мучительно припомнилось Темыру, будто он только что видел темный блеск крови, еще не свернувшейся на косматой шерсти бурки.
Швырнул ружье, и оно с грохотом свалилось на груду оружия.
Темыр задыхался. Он ходил взад и вперед по комнате, и дула ружей тихо звенели, отзываясь на его упругие шаги. Он вспоминал абхазскую пословицу: «Кровь не гниет, она за себя отомстит».
Может ли Темыр дожидаться?! Ведь это только пословица, а нужно дело. Его враг здесь, чего же медлит Темыр? Надо сейчас же разом покончить со стариком.
Темыр вынул из кобуры револьвер и подошел к двери... И тут же почувствовал, что у него не хватит сил убить. Он вспомнил Зину среди папоротника, залитого пятнами полуденного света.
Неожиданно припомнился Темыру и недавний суд в Очамчира, там разбирали дело Тарсхана. «Знаешь ли ты, — сказал тогда судья, — что человека, который из-за личной вражды убивает другого, ненавидит весь народ?» Тарсхан был бедняк, и он убил другого бедняка только из-за того, что между ними была родовая вражда.
Темыр глядел на револьвер и думал о своей работе. Пусть он вначале шел к людям только для того, чтобы разыскать убийцу. Он знает теперь, кто убил. Но разве сама работа, все то, что он делал в сельсовете, ему не по душе?
Опустился на тахту, и револьвер выпал из ослабевших пальцев. Все в нем пылало, и он не знал, чем утолить муку сердца.
Прошло несколько минут. Темыр медленно встал, его нижняя челюсть дрожала, и ему казалось, что он ничего не видит, но он поднял именно то ружье — ружье Ахмата, рванул слабо державшуюся доску пола, в углубление положил ружье и приладил доску на прежнее место.
Когда Темыр, будто состарившись за эти минуты, с мертвым лицом вышел из комнаты и присоединился к товарищам, Ахмата уже не было.
XXIII
Как только Темыр вернулся домой, он с закрытыми глазами, ощупью расстелил на тахте свой жиденький тюфячок и лег, боясь открыть глаза.
Ружье...
В мыслях Темыра бились, пульсировали цифры — номер ружья. Мучаясь, он переворачивался с боку на бок, лежал, как избитый, без сна, но с закрытыми глазами.
Измученный, усталый, он забылся в полудремоте, словно истомленный долгой, трудной дорогой. Он спал, и ему чудилось — сон и не сон! — кто-то стоит в маленькой передней его дома и тихо рыдает.
Темыр, прислушиваясь к рыданию, вздрогнул и открыл припухшие веки.
Во дворе скулила собака.
Ночь была холодная. Сквозь щели в стенах продувало, в отверстие потолка мирно, как забытая свеча, помигивала звезда, порывы ветра приносили с собой брызги дождя и били в разгоряченное лицо.
Собака изредка, но настойчиво подвывала и ее протяжный вой переходил на высокие, плачущие ноты.
Темыр пробормотал:
— Чтоб ты сдохла! Что ты там, в темноте, увидела?
Темыр хотел встать и выйти за порог, но его тело, казалось, было мертво, а ночь темна, и он снова укрылся с головой. Но заснуть не мог.
Близился рассвет, и бодро вступили в перекличку петухи. Темыр нащупал под подушкой револьвер и вышел.
Еще пронзительнее скулила собака, ее вой сливался с заунывным, протяжным воем ветра. Скверная ночь! И паршивую кошку за дверь не выкинешь!..
Собака выла в дальнем конце, у ограды, и Темыр, взведя курок, направил туда дуло револьвера и дважды выстрелил. Хлынул проливной дождь, и Темыр вернулся домой.
Погруженный в мрачные думы, он незаметно уснул, и ему привиделись во сне отец и Мыта. Они вошли в саклю бесшумно, под сильный плеск дождя. Темыр, обрадованный, хотел подойти к ним, но отец и брат не глядели на него, а Пахуала, не размыкая губ, произнес:
«Стреляет в нас, в дом пускать не хочет. Проклял его бог!»
«Что делать нам? — так же, не размыкая губ, произнес Мыта. — На кого нам надеяться, кто успокоит нас в могилах?»
Пахуала глядел вдаль, и каждое его слово шумело, как дождь, но рот был закрыт:
«Таскается по деревне, знает собачьего сына, а не убил и не убьет его. Ахмат тебя убил, мой сын, а этот несчастный только и думает о дочери Ахмата. Позор нам и поругание!»
Мыта стоял посреди сакли и также шевелил немыми устами:
«Что с тобой, несчастный? Или твое сердце зачерствело и грубо, как сердце буйвола! Погибший ты человек. Сторожишь мосты в сельсовете, а вместо досок настилаешь крышки наших гробов».
Тут раскрылись глаза брата, и что-то раскаленное взглянуло в лицо Темыра, но слезы потушили огонь этих глаз, и донесся мерный, тоскливый плеск ливня.
Темыр внимал равномерному шуму дождя и шепоту отца:
«Дад Мыта, двойная постигла нас смерть».
Как они оба худы, измождены! Почему они так бледны? Ах, да они ведь мертвы и потому одеты в серые длинные халаты, из которых кое-где, прорывая гнилую материю, торчат белые, чистые кости.
«Уйдем, — сказал Пахуала, — здесь нам не место, все равно твой брат, ослепленный славой и любовью, ничего не сделает для нас».
Отец отвернулся, и вот его уже не стало. А за ним шел Мыта, еле волоча ноги и ступая по лужам... Темыр бежал за ними, умоляя вернуться.
«Отвяжись, презренный!»
Отец и брат исчезли из виду.
Темыр вскрикнул и сел на постели, мокрый и продрогший.
Его одеяло было забрызгано дождевыми каплями, сердце отчаянно колотилось. Первые лучи солнца слабо освещали домик, с пустыря доносился голoc поющего мальчика.
Что за странный сон? Он быстро оделся, пугаясь холода своего тела. Во дворе все было залито еще не горячим, но веселым утренним светом. Казалось, эти лучи не касаются ни окоченевшего лица, ни ледяных рук Темыра, — так ему холодно.
Забыв даже закрыть дверь своей хижины, Темыр пошел по размытой ливнем тропинке в сельсовет. Ему предстояло много дел, требующих внимания, а сон леденящей сердце укоризной все еще давил грудь и был так же ощутим, как окружающая Темыра природа.
XXIV
На отобранное оружие был составлен акт, и оно было отправлено в районный центр.
— Знаешь, Миха, я очень, очень устал и весь как во сне, — сказал Темыр, неохотно глядя на Миху.
Он положил в карман отяжелевшие руки.
— Что с тобой?
— Хочу спать, но боюсь сна... И бессонницы тоже боюсь.
— А я чувствую себя бодрее, но все-таки хочу спать. — Миха потянулся и зевнул. — Ляжем пораньше, выспимся.
Он подошел к Темыру.
— Что ты так побледнел? Вставай, пойдем.
Он взял Темыра под руку, и они вышли из сельсовета. Темыр был рассеян: мысли о сновидении не покидали его.
— Чего хотел этот Мыкыч, что он задумал? — произнес Мика. — Вон сколько оружия припрятал! В сущности говоря, совсем зря шатается среди нас этот грязный человек. Что ж ты молчишь, Темыр?
— Ты прав. Он не так прост, как кажется. Ничего не боится, не знает стыда и считает, что добьется того, чего захочет. Зачем ему жить у нас?
Миха оттянул у подбородка завязки шапочки и сердито вздохнул.
— Совсем как в пословице, — сказал Темыр, — «Положи хвост собаки хоть в тиски, он все равно от этого не станет прямым!»
Они спустились к реке, Миха напился воды из пригоршни.
Они медленно шли к дому Темыра. Когда вошли в покосившиеся ворота, то увидели в передней комнатке свиней, валявшихся на земляном полу. Темыр схватил палку.
— Ах, чтоб их мор забрал!
Свиньи, истерически визжа, уже проскочили в ворота.
— Мой бедный, опустевший дом обратился в пристанище свиней и в место моих дурных сновидений. До чего я дожил! — с горечью сказал Темыр, открывая дверь и впуская в горенку Миху.
— Что ж поделаешь? Человек ты одинокий, занятый на работе. Жениться бы тебе — вот и наладилась бы жизнь.
«Нет, нет, никогда!» — подумал Темыр о Зине.
Миха сел на скамью у очага, а Темыр взял бутылку с керосином, сложил в очаге стоймя поленья, плеснул керосин и поджег. Пламя разом вспыхнуло, осветило стены, придав комнате уют.
Огонь разгорелся и осветил его задумчивое лицо.
— Уверяю тебя, Темыр, я правду говорю, женщина должна появиться в твоем доме.
От очага шел сильный, пахучий жар. Миха пододвинулся к тахте, прислонился к ней спиной, не сводя пристального взгляда с Темыра. Он понимал, — товарища гнетет большое горе. Правда, Миха всегда знал, что Темыр горюет по убитому брату. Но Миха, признаться, не мог понять, отчего неизменно угрюм, а сегодня даже печален его друг.
— Мужчины с домашней работой не в ладу, а одиночество так же украшает человека, как пепел очаг.
Темыр не отозвался на эти слова: он сидел неподвижно, глядя на огонь, и Миха заговорил настоятельней.
— Нет, серьезно, тебя пора женить, Темыр.
Темыр сдержанно ответил:
— Да пошлет тебе бог здоровья, — кто же отдаст за меня девушку, Миха? Ты видишь, я сижу на пустом месте, гол как сокол, ничего нет у меня — ни хвоста, ни головы.
— Что значит «ни хвоста, ни головы»? Вероятно, брат, ты слишком разборчив. Девушек немало.
— Не знаю! Только жениться не собираюсь.
Темыр встал и мрачно отошел к столику у стены.
«Что бы сказать ему такое, что развеселило бы его?» — подумал Миха.
Он повернулся к Темыру и негромко засмеялся.
— Не правда ли, дочь Ахмата, Зина, и дочь Сакута, Такуна, — превосходные девушки?
— Что ж, пусть и превосходные, и даже прекрасные, — отозвался Темыр, доставая из деревянного бочонка муку.
— Такуна хороша, но дочь Ахмата — само совершенство, — улыбаясь, говорил Миха. — Не поймешь, что лучше: красота лица или фигуры, а может, характер. Изящна и легка, как тутовый лист.
Темыр водил пальцами по муке и отмалчивался.
— Просто прелесть! Славная девушка! Я от души пожелал бы ее в жены своему близкому.
Темыр подул на муку, он слышал и соглашался, — но ведь все это невозможно для него. Тут он впервые схитрил перед Михой.
— Разве такая девушка, как Зина, пойдет за меня?
Его голос дрогнул. Миха весело рассмеялся:
— Ох, и хитрюга ты, Темыр! Зина отлично знает, что лучше тебя никого не найдет. И ты все это, братец, только так говоришь. Давай спросим ее, хочешь?
Темыр рисовал пальцами узоры на муке.
— Подумай, а я сам за тебя поговорю.
Рука Темыра выпустила совок, и он ударился о край деревянной миски.
— Ты доброжелатель мой, произнес он, обернувшись к Михе, и прибавил: — но если ты хоть немножко меня уважаешь, никогда об этом не говори.
Он произнес эти слова очень серьезно, сильно изменившись в лице.
Миха озадаченно посмотрел на друга, смолчал и подбросил поленце в огонь под котлом. Вода для мамалыги уже закипала и звучно булькала. Несколько раз растерянно он помешал лопаткой пустую незасыпанную воду и с огорчением подумал, что сказал, вероятно, лишнее.
— Впрочем, ты успеешь жениться; ты молод, и впереди немало хорошего.
Темыр молча постукивал ладонью по ситу, и оно издавало глухой звук. Полузакрыв глаза, Миха сидел молчаливо. Темыр всыпал в котел муку и сварил мамалыгу. Доставая тяжелые простые тарелки, он негромко сказал:
— Я уже примирился с одиночеством, буду один жить и дальше.
— Ну, если так, то так, — односложно отозвался Миха.
Темыр приподнял котел повыше на раскаленном крючке, чтобы не подгорела уже посапывающая мамалыга.
— Недавно я наблюдал нечто удивительное, — заговорил Миха. — Как-то, собираясь в Очамчира, я увидел на шоссе: детишки Чихия гонят свинью. Спросил, куда они ее ведут, и услышал, что Чихия хочет отвезти свинью в Сухуми и ждет машину. Я подумал, ребятишки шутят. «Что это вы, плуты, меня обманываете?» Но тут из зарослей папоротника вышел Чихия и сказал: «А ты думаешь, я ее погоню в Сухуми? Вон сколько теперь ходит машин — взвалю на какую-нибудь из них и отвезу в город».
Темыр слушал, понимая, что Миха его отвлекает от тяжелых мыслей.
— Я им было не поверил, — продолжал Миха. — Еще никогда я не видел, чтобы люди возили свиней на машине. Но, оказывается, те, кто живет у шоссе, уже оценили это удобство. Я хохотал, видя, как Чихия встал посредине шоссе и поднял обе руки навстречу приближающемуся грузовику. И что же? Шофер остановил машину, и Чихия погрузил визжащую свинью и сам забрался в кузов грузовика.
Темыр из вежливости улыбнулся и с трудом заметил:
— Не то что в машине, Чихия в собственной арбе никогда не сидел.
— Еще бы! — сказал Миха. — Жизнь другая!.. Ты знаешь, в Сухуми до советской власти мало абхазцев служило в городе, а теперь, подумай, сколько!
— Конечно, правительство ведь заботится о нас, — отозвался Темыр.
— В ту пору, как вспомню, в нашем селе не было ни одного грамотного человека. Никогда в правлении я не видел даже писаря абхазца. А недавно я подсчитал, — из нашего района в высших школах Москвы, Тбилиси, Сухуми учится больше тридцати человек. Разве это не радует?
— Конечно, — нехотя отозвался Темыр.
— Увидишь, скоро человек с умом будет особенно ценим; в Ткварчели, говорят, начали добывать уголь, а это какое богатство, какой доход для народа!
Ловким движением Темыр снял с очага котел с мамалыгой, придвинул столик; лицо его смягчилось.
Миха счел возможным опять начать атаку.
— Я ведь знаю, у тебя, — ты не скроешь от меня, — есть горе. Да, да, горе.
— Какое может быть у меня горе! — осторожно возразил Темыр. — Если и было горе, то оно все в прошлом.
— Послушай тогда, Темыр, что я тебе скажу.
Темыр выпрямился.
— Твоего брата убили, Темыр, это все знают. И ты это убийство принял за обиду и позор, мне кажется, это тоже не секрет.
Темыр отодвинул и опять придвинул тарелку. Он молчал.
— Такой способный, умный парень, как ты... Если в самом деле считаешь это убийство, помимо горя, позором для себя, то... это тебе вовсе не подобает. Ведь ты предсельсовета!
— Миха...
— Я прошу тебя не верить взглядам и советам нечестных или даже только темных людей. Одни хотят твоей гибели, а другие верят в предрассудки.
— Я никогда никого не слушаю.
— Боюсь, что ты не говоришь всей правды. Я ставлю тебя на первое место среди всей молодежи нашей деревни и не хочу, чтобы ты пошел неправильной, плохой дорогой. Чужая душа, конечно, потемки. Но, что бы ты ни думал, ты сам понимаешь, каково значение для всех нас твоей незапятнанной работы.
Темыр пожал плечами.
— Кровная месть... Это, конечно, не вяжется с твоим обликом. Ты сам знаешь, что месть — скверный пережиток старины... Очень скверный! Кто любит свой народ и уважает себя, тот не оглядывается на мрачное прошлое и думает только о будущем. Такой человек должен быть врагом кровной мести.
Темыр отодвинул тарелку.
— Народ, среди которого ты живешь, следит за тобою, уважает тебя. И ни один человек не допустит и мысли, что Темыр способен на такое преступление, как месть. Что молчишь? Возможно, ты уже знаешь своего врага? Ну, что ты там глядишь в тарелку?..
Миха помолчал.
— А если не знаешь, прошу, и не ищи его. Я тебе, Темыр, говорю всю правду. Старики нашей деревни уважают тебя, а твои сверстники радуются твоим успехам.
Темыр в смятении подошел к двери, будто бы поглядеть во двор.
— Подумай, — горячей заговорил Миха, — какое разрушение приносит кровная месть и телу и уму! Один умирает, а для того, кто убивает, наступает омертвение души. Что, кроме печали и слез, кроме разорения и смерти, может дать кровная месть?
— Я, кажется, тебе ничего не сказал, — дрожащим голосом произнес Темыр.
— Успокойся, Темыр, продолжай свои дела, думай о лучшем и ожидай лучшего.
Прошло с полминуты, а Темыр все глядел в полуоткрытую дверь и не отвечал на слова Михи. Когда Темыр повернулся, на его лице дрожала каждая жилка, он сказал:
— Боже мой, сколько ты тут наговорил нравоучительных истин! Какое все это имеет отношение ко мне?
XXV
Слова Михи и смутили, и согрели Темыра. Однако голос рассудка и дружбы имел над ним недолгую власть, вскоре думы Темыра вернулись к тому же; эти думы возникали безостановочно, безжалостные к нему.
И вот уже опять дня не проходило без того, чтобы он не возвращался к мысли о мщении. И все же, — не понять, как это сложилось, — Темыр начал остывать сердцем. Не только слова Михи на него подействовали. Он самому себе изумлялся, начиная сознав-ать, что так, должно быть, и не возьмет со старика Ахмата кровавую плату. Может быть, его суровое сердце смягчилось потому, что он полюбил труд среди людей.
«Оставить работу и заняться своим домом, — неожиданно для себя думал он, — Через год-два, глядишь, я имел бы хорошее хозяйство».
Эти мимолетные мысли уходили, и Темыр снова не жалел трудов своих на общественной работе. Случалось, что любовь к Зине вспыхивала в нем с новой силой, но Темыр решительно гнал это чувство. Он будет только работать! Он знал, что во времена Кадыра никогда бы ему не получить общественной службы. Кто сделал бы его человеком? Темыр убил бы Ахмата, ушел бы в лес — его б поймали и сгноили в тюрьме.
Несколько раз Темыр ходил на собрания в Очамчира и два раза съездил на большие совещания в Сухуми. Там он узнал о многом, что делалось в стране; он и сам выступал уже несколько раз, у него был большой опыт, и к его словам прислушивались.
Темыр с жадностью сам слушал обо всем новом, стараясь наполнить сердце и заглушить свою тревогу. Ведь вот есть же люди, которые радуются тому, что в поселках ткварчельских шахтеров — Квезани и Акармаре — скоро вырастут многоэтажные дома. С какой радостью рассказывает Миха, что в колхозах на участках, где прежде были болота, посажен чай, растут молодые рощи лимонов и апельсинов. Когда же все это воспримет и Темыр? Когда он заставит себя забыть номер ружья, спрятанного под полом в сельсовете?
Он задавал себе эти вопросы и все чаще думал, что нынешнее время уж не то, что несколько лет тому назад, когда совсем по-другому жили абхазцы.
«Убить человека... но как я, друг Михи, председатель сельсовета, могу сделать такое дело!» — говорил он себе все чаще.
Его отвлекало от этих мрачных мыслей еще и то, что к этому времени в их селе заговорили о колхозе. Что-то оживляюще напряженное наполнило воздух деревни.
Как-то проводилось собрание ячейки, и, когда исчерпаны были все вопросы, Миха прочитал заявление:
«Я понял, что коммунистическая партия для нас хороша.
Я крестьянин, человек из трудового народа. Хочу, не щадя себя, служить тому, что поручит мне партия. Прошу меня принять в кандидаты партии.
Т е м ы р Т в а н б а».
Коммунисты обрадовались просьбе Темыра; многие знали, как омрачена жизнь этого человека и как бы ему хотелось жить по-другому. Темыра приняли в кандидаты партии.
...Время было предвечернее.
Хотя уже несколько минут прошло после того, как Темыр закрыл дверь за последним посетителем и никого больше не ждал, он все так же сидел за столом. Все, что надо сделать завтра, было обдумано. Он вышел, запер дверь и остановился на веранде, опершись плечом на некрашеный скрипучий столбик.
На дворе сельсовета ни одного человека. Не слышно смеха шумной молодежи, нет стариков-шутников, произносящих громкие речи, в которых жизненные наблюдения пересыпаны выдумкой. На коновязи сидят галки. Темыру тягостно безлюдье, ему кажется, что кто-то насмешливо нашептывает: «Рабочий день кончился для всех, он кончен и для тебя, — иди и ты в свою хижину».
Темыр махнул рукой, точно в самом деле кто-то шептал, стоя за столбиком веранды. Сойдя во двор, он пошел вдоль забора, отороченного неистоптанной травой.
«Если тебе, человек, дано звание кандидата партии, — ты должен знать, что делать и среди людей, и дома».
Темыр вышел на шоссе и с завистью посмотрел на лихого всадника, промчавшегося мимо. Перед этим человеком путь прям; как хорошо бы и Темыру видеть перед собою только прямую, короткую дорогу к будущему!
По дороге к Чихия Темыр заглядывал во дворы, мягко освещенные розовыми лучами солнца. Но не этот умиротворяющий свет занимал Темыра. Он разглядывал во дворах сельскохозяйственные орудия единоличников: кривые и немощные сошки, мотыги, которые в соседстве с посохами стариков стояли у дверей, словно дожидаясь терпеливых жилистых рук.
Как стары эти вещи! Они напоминали камни, служившие первой ступенькой в дома; казалось, эти мотыги, сошки подарила человеку, неспособному изобрести ничего лучшего, сама природа.
Но ведь это неправда!..
Кровь прилила к лицу Темыра.
«Погодите, люди, погодите! У нас будет общее хозяйство и мы добьемся зажиточности; у нас будут хорошие плуги, а может, и тракторы, наши желания будут более дерзкими, мысли — гордыми».
Чихия был дома. Темыр пожал его руку.
— Вижу, друг, тебя можно поздравить.
— С чем?
— А ты не знаешь — с чем! Разве эти молодцы не твои ребята?
Трое малышей с боязливым любопытством выглядывали из-за очага.
— Да, — ответил смиренно Чихия. — Они одни — мое богатство, моя жизнь.
— Жизнь надо продолжать, дорогой Чихия, и продолжать как можно лучше!
— Ты говоришь о будущем моих детей, Темыр?
— Именно о нем, друг!
Чихия пожал плечами:
— Я буду биться во что бы то ни стало.
— Биться, конечно, нужно, только не одному, а в обществе друзей, которые тебе помогут. А этот? — Темыр с улыбкой посмотрел на колыбель, в которой жена Чихия качала крошку. — Этому человеку тоже нужна хорошая пища! Тот хлеб, который ты добудешь не кривой сошкой, а добрым плугом, не правда ли?
— Этот маленький, — с покорной улыбкой произнес хозяин, — он тоже, конечно, ждет от отца хлеба, только мы не знаем, какой он еще будет молодец, да падут твои болезни на меня!
— Это будет видно, — ответила мать, размышляя, почему гость заговорил о хлебе и о большом плуге, — ведь ребенок пока довольствуется молоком матери.
Темыр пристально взглянул на женщину и улыбнулся Чихия.
— Я говорю о хлебе. Вот что, друзья. Вам, дорогой брат и милая сестра, известно, что мы очень скоро созовем сход. Так жить нашей деревне дальше нельзя. Поколение сменяется поколением, но мы как жили, так и живем, тесно и бедно.
— Ты думаешь, сход даст богатство?
— Не сход, а колхоз, Чихия. На сходе решим эго дело.
— Я ходил на собрание бедноты, там, действительно, был трудный разговор.
— Трудный? Какое же твое решение, Чихия, решение о твоих четырех малышах?
— Трое, как видишь, Темыр, едят мамалыгу, а четвертый, правду сказать, тоже скоро потребует ее, и поэтому я никак не могу быть против колхоза.
— Ага...
— Погоди, Темыр. Советская власть хороша, но что-то тревожное, да падут твои болезни на меня, говорят о колхозах. Плохое говорит!
— Я знаю, кто так говорит. Это те, у которых сколько угодно хлеба.
— Может быть. Я так думаю, Темыр, что советская власть сделала для нас много хорошего. Она отдала нам земли князей и дворян, помогла получить волов. Но я все-таки не осмелился выступить на собрании за колхоз.
— Что же, твои два вола увезли твой язык, что ли?
Чихия замялся и долго смотрел на мерно качавшуюся зыбку.
— Арсана сказал: если вступлю в колхоз, у меня немедленно отнимут волов.
— Значит, новая жизнь дала тебе волов, и она же отнимет их у тебя? Что-то не то мелет черный язык Арсаны! Стоило ли тебе верить другу Мыкыча!
Чихия только вздохнул, не спуская глаз с люльки.
— Верю в тебя, Темыр, и в Миху верю, как в самого себя, но слухи...
— Должно быть, по слухам тебе и волов дали? Ах друг, друг! Не только волов — машины, тракторы, свои автомобили даст тебе и твоим детям новая жизнь.
— Арсана сбивает с толку, все какое-то новое... не пойму. Прости, своей нерешительностью я заставил тебя прийти ко мне, а у тебя много дел. — Голос Чихия потеплел. — Нет, я больше не стану колебаться, пусть жизнь моих детей и мои надежды перейдут в колхоз.
— Очень хорошо, — громко и сердечно подхватил Темыр. — Ты не думай, что и моя жизнь гладка! Меня тоже мучило многое, жгла забота, может быть, посердитее твоей. Пусть же о нас, Чихия, пойдет по всем деревням слух как о новых людях и пусть те слухи будут навеки правильны!
Они помолчали, а затем поговорили о разных небольших делах. Оба были взволнованы и растроганы. Темыр собрался идти, пожал руку хозяину и хозяйке и вышел из хатенки, где снова мерно, как звук маятника, заскрипела люлька младенца.
Вечером он заглянул в дом Дзыкура. Хотел было повернуться и уйти, когда в этом маленьком тесном домишке увидел Ахмата. Но Ахмат — односельчанин, и его ведь можно было встретить в каждом доме...
Что ж, Темыр будет героем! Он, почти торжествуя, почувствовал, что Ахмат глядит на него недоверчиво, — правда, может, это и не недоверие, а страх, привычный страх...
При встрече с Темыром Ахмата обычно охватывала внутренняя тревога. Он всегда старался заглушить ее внешней приветливостью. Но ему не легко удавалось, очутившись лицом к лицу с Темыром, подавить страх и спрятать свою совесть. И вот теперь, как молния, пронеслась в голосе Ахмата страшная мысль: «А вдруг Темыр уже знает, что я — убийца Мыты? Он может прикончить меня хоть сейчас. Чего ему ждать, ведь я же враг ему! Но... — думал Ахмат, — я мстил Мыте за погибшую сестру, над честью которой надругался Мыта. Я смыл свой позор... Если надо, я отвечу за это своей кровью. Но Темыр никогда не узнает правду, которая навсегда зарыта в земле, он даже и не подозревает».
Ахмат взял себя в руки, сделался, как обычно, добрым, мягким...
Темыр подошел к старику и сжал его холодные пальцы. Темыр думал о том, что орудия, обрабатывающие землю, утварь и дома, пища в домах и мысли людей — все изменится. Как же самому Темыру не отказаться от прошлого! Он вошел в этот дом не за кровной местью, а поговорить с Дзыкуром о другой жизни, и если здесь Ахмат, то он будет говорить об этом и с Ахматом.
— Очень рад, — сказал он, не выпуская этих ледяных пальцев, — что встретился с тобой, Ахмат, в доме моего лучшего друга. — Темыр прислушался к своему голосу, голос был вежлив. — Как поживаешь?
Ахмат пытался глядеть прямо в глаза Темыру.
— Неважно, дад, живу. Болею и, кажется, начал сильно стареть.
— Ну, до старости тебе еще далеко... а в наше советское время твой век может и удвоиться.
— Вот мы говорили о колхозе, — Ахмат уже спокойнее взглянул на Темыра. Он решил, что Темыр так и не догадывается о прошлом. — Ты, Дад, важный человек в нашем селе и сумеешь рассказать мне всю правду. Одни говорят плохое о колхозе, а другие твердят, что он гладко, как рубанок, счистит все корявости старой жизни. — Старик закряхтел. — Не думай, дад, что мне нравится только старое. В прошлом у меня столько бед, столько страхов...
Темыр не позволил себе отвернуться, и, когда задрожали губы, он только крепче сжал их.
— Поверь, что в колхозе люди будут жить дружно и ничто их не разделит, у них будет общее хозяйство, — это хорошо, и еще лучше то, что у них будут общие мысли о своем хозяйстве и общем богатстве.
— Может быть... А если человек несчастен и у него свои мысли... — Ахмат замолк. — Мы с Дзыкуром как ни толковали о колхозе, но ни к чему не смогли прийти.
Ахмату хотелось заговорить совсем о другом, но он решил говорить о том же, что и Темыр. Темыр понял это. Как бы хорошо сейчас сказать старику о том, что в колхозе человек не станет убивать человека, — о чем же еще думать старому рабу Мурзакана! Сжав кулаки, Темыр молчал. Ногти впивались в мякоть ладони. Он с трудом заговорил о том, что было простым перечнем условий новой жизни. Земля. Обобществленные орудия труда. Новый инвентарь. Трудодни. Кровь залила лицо Темыра и затемнила его глаза, сумерки наполнили маленькую горницу. Но если брат убитого приглашает в колхоз убийцу, надо глядеть спокойно сквозь полумрак, сквозь прилившую к глазам кровь. Темыр вслушивался в свой ровный голос.
— Ты сказал о том, что человек бывает несчастен. Государство не может проникнуть во все твои мысли, но оно позаботится о лучшей жизни для тебя. В нашей деревне будут мощный трактор и стальные плуги, они вспашут твою землю, и о многом плохом ты забудешь.
— Трактор... — Ахмат долго думал. — А куда денем буйволов?
Темыру казалось, что это не Ахмат говорит, а в самом Темыре звучат два голоса. Он все крепче сжимал пальцы.
— Буйволы тоже еще пригодятся. Но трактор куда сильнее. Он быстро идет и гудит, как автомашина.
— Не знаю, — совершенно спокойно ответил Ахмат.
— Целая махина, — заметил Дзыкур, — я как-то видел его в Сухуми, на улице.
Темыр разжал пальцы и провел ладонями по бокам. Он бесстрастно объяснил:
— Нет, трактор не так уж велик, но работает он быстро. За рулем сидит шофер... Нет, не шофер, а тракторист, шоферы сидят в автомобилях. Ну, что еще?.. — Темыр перевел дыхание. — Машина идет, и прицепные плуги сами пашут... Работает он на бензине...
Глаза Ахмата блестели, как два стеклянных шарика. «Хорошо бы выстрелить прямо в эти глаза...» Но Ахмат, доверившись спокойствию Темыра, даже придвинулся немного и удивленно воскликнул:
— Хоть бы раз увидеть! Где уж тут, боже мой, волы! Кто бы мог подумать, дад, что землю, на которой мы родились, будут обрабатывать по-новому — без волов! Волы не нужны, а что мы сами, люди, будем делать, дад, если машина вспашет землю?
— Работы и для нас хватит.
Вон какой пошел разговор! Темыр и этот человек словно живут на другой земле, где между ними нет крови, а есть только любовь и желание помочь друг другу. Ахмат бормотал:
— Оказывается, все, что болтали, — ложь!
Он продолжал, цокая языком от удивления:
— Бензин... Ну, подумай, дад, у нас в деревне бензин. Значит, жизнь пойдет сытая, а «мое — твое» не будет. Так зачем же эти дураки говорили, что у нас отнимут домашнюю птицу?
Потирая ладони, Темыр усмехнулся:
— Что же, куры сами полетят в колхоз?
— Ты шутишь, Темыр. Ну, а как быть, если правда то, что говорят: все станут жить в одной казарме?
— А ты бы спросил вралей: «Кто будет жить в ваших домах? Черти, что ли?»
— Да, да, говорят так, что мужчины и женщины вместе. Разве это возможно?! И гостей будто нельзя принимать, и самих из колхоза не отпустят в гости.
— Конечно, — насмешливо подхватил Темыр, — а ты помоги им, лгунам, и скажи: между деревнями поставят чугунные стены... — Темыр нахмурился. — А подумал ли ты, что те, кто набивает головы деревенских людей глупостями, — хитрее вас! Подумал ли ты, что те, кто от вас требовал и требует подчинения, боятся самого страшного: вдруг вы перестанете быть бедняками! Что ж станется с Мыкычем и Мурзаканом, если вы не захотите работать на них?
Дзыкур громко рассмеялся.
Ахмат внимательно слушал. Перед ним, как воспоминание о чужой жизни, прошло былое, прошел Мыта. Ахмат вспомнил и Мурзакана. Железный конец посоха ковырял земляной пол, рука старика дрожала. Он крепко на миг сжал веки, а затем, не поднимая глаз, негромко сказал:
— По твоим словам, дад, я понял, — колхоз очень похож на нашу взаимопомощь.
— Похож. Но тут есть и другое, новое — эта взаимопомощь останется навсегда.
Дзыкур приподнялся, его голос был радостен:
— Так бы и объяснил, что колхоз — это взаимопомощь, но только большая. Это хорошо, не правда ли, Ахмат? Скорей соберемся, и пусть сход скажет о колхозе.
Темыр, ободренный своей победой над самим собой, вышел из дома Дзыкура и почувствовал, что в новую жизнь он уже вошел, оставив на пороге тягость неразрешенного. Может быть, он не станет счастливей, но теперь уже знает, как ему быть со своими чувствами. Пусть там, в земле, с костями Мыты покоится и его боль...
В успешном исходе первого собрания крестьян Темыр не сомневался. Через несколько дней он установил предварительные данные по всем хозяйствам, подлежащим обобществлению.
То была новая взаимопомощь!
Пусть крестьяне так для начала понимают новые формы, — настанет время, они лучше поймут новую жизнь.
Темыр созвал общее собрание. На собрании решили организовать колхоз.
Кончена старая жизнь крестьян. Покончил со многим и Темыр.
...Миха сидел под густыми листьями дуба на колодце и задумчиво выписывал ремнем нагайки восьмерки на легкой дорожной пыли. Темыр пошел к нему. Миха сдвинул на затылок куцую сванскую шапочку и встал в знак приветствия.
— Ты никогда не приходил так кстати, — обрадованно сказал он. — Я тебя везде ищу. Завтра на самой заре поедешь в Очамчира: тебя вызывает райком по важному делу. Вот тебе бумага, видишь, она на твое имя.
Вместе с бумагой Миха протянул Темыру нагайку и сказал, что дает ему свою лошадь. Темыру хотелось знать, зачем его вызывают. Миха знал, но не сказал.
Они пошли к сельсовету, и немного спустя Темыр на ладной тонконогой лошади Михи быстро поехал по берегу реки к себе домой, горя любопытством: в самом деле, зачем он понадобился в Очамчира?
На следующий день поутру Темыр подъехал к райкому. Его встретили приветливо, и многие, вставая из-за столов, крепко и многозначительно пожимали руку. Управделами подошел к Темыру и шутливо — обеими руками положил на стол протокол. Темыр прочитал:
«...Райком постановляет: послать в московский Коммунистический университет трудящихся Востока — в числе направляемых в предстоящем учебном году — проверенного на работе кандидата партии товарища Темыра Тванба».
Темыр ошеломленно смотрел на бумагу. Он не ожидал такой удачи, и казалось, удача смеется над ним: ведь он до самых последних дней думал о том, чтобы взять кровь старого Ахмата. А может быть, ему, действительно, лучше уехать из села? Учеба в Москве, жизнь в большом, далеком городе ему подскажет больше, чем его раздумья в деревенском уединении.
В комнату вошел секретарь райкома.
— А, товарищ Тванба, готовься! Молодец, герой! — и он, задержав в руке пальцы Темыра, обернулся к управляющему делами: — Приготовь бумаги Темыра!
XXVI
Этот берег с его жизнью и волнениями, с болью и колебаниями, с дорогими могилами и жизнью Зины — скоро отодвинется синими волнами моря.
Темыр купил билет и с новеньким чемоданом в руке прохаживался по сухумской пристани. Запах моря смешивался с сухим, тонким ароматом кипарисов. Басисто пропел гудок, и Темыр двинулся к пароходу вместе с праздничной толпой, заполнявшей пристань. Пассажиры вереницей подымались по трапу на палубу; когда подошла очередь Темыра, он с радостью, словно подарок, показал свой билет и зашагал по свежевымытым доскам палубы.
На пароходе суета. Каждый из отъезжающих стремился поскорей занять свое место. Темыр впервые попал на пароход, да еще такой большой! После безуспешных розысков своей каюты он поставил чемодан у ног.
Внизу, за кормой, маслянисто поблескивали легкие вершинки морской зыби. Второй гудок, и пароход, прислушавшись к своему крику, заметно дрогнул и отчалил от пристани, затем, спустя несколько минут, лег на курс, рассекая чуть сморщенную, блистающую морскую гладь.
Что это?.. Темыр уходил от своей прошлой жизни! Все его мучения остались там, за пальмами, на берегу. Он долгим взглядом обвел горы вокруг Сухуми, и ему на минуту показалось, что все окутано чем-то тонким и теплым, принадлежащим Зине. Он хотел оторвать глаза от зеленого берега, и не мог, и с болью припоминал свою деревню, свой маленький, опустевший домишко с потертым ковриком на стене, разросшиеся деревья, тихие окрестности, покрытые мелколесьем, и даже дикие деревца, привитые рукою старого Ахмата, — и те припомнил! Он припоминал все, чем жил.
«Кто знает, увидимся ли мы когда-нибудь?» — подумал он.
Темыр опустил голову, стараясь заглушить воспоминания, а затем стал, не отрываясь, смотреть на блеск широкого моря и до тех пор не отводил глаз, пока Сухуми не скрылся из виду.
Теперь исчезнет полоска родного берега, растает последняя черточка тверди — и Зины словно нет во всем мире.
Но вот уже другие берега: Афон, Гудаута, — а сердце куда-то рвалось.
— Прощай, Зина, прощай навсегда, — проговорил он.
Какая-то золотистая черта еще маячила между небом и морем, — это, может быть, тень берегов, только отблеск Сухуми. Темыр долго стоял, глядел в ту сторону, и все ему казалось, что доносится сухой запах буковых зарослей... Но нет, — то глубокий, солоноватый, свежий запах моря; сияет белая корма, а за кормой кувыркаются блестящие, как черное стекло, резвые дельфины.
Подхватив чемодан, Темыр прошел мимо окон роскошно убранных одинаковых кают с белыми занавесками. По палубам бродили группы нарядных женщин и мужчин.
До Гагра Темыр и не присел. Уже стемнело, и сияли огни гавани, освещая, словно металлические кружева, кроны пальм. Темыр отыскал наконец свое место, лег и заснул, как дома... Нет, лучше, чем дома!
...Поезд, вышедший из Сочи, вытянулся железной лентой и мчался с равномерной скоростью. На закруглениях он сбавлял ход и изгибался ужом.
Темыр, высунув голову в окошко, любовался никогда не виданным, суставчатым телом поезда и удивлялся его длине. Там, за Туапсе, начался перевал, потом поезд пошел по необозримой степи.
«Ах, как он мчится!» — с удивлением и радостью думал Темыр.
За окном замелькали табачные плантации. Люди, присев на корточки, ломали табак. Затем потянулась бесконечная полоса кукурузы; за ней, во всю ширь — залитые солнцем степи сплошь огненно-желтые от цветущего подсолнечника.
Казалось, это совсем другая земля. Где же ты, Зина?..
Начались пшеничные поля, непрерывно тянулась плодоносная земля рядом с поездом, и уходила, как в море, бесконечная равнина; ее Темыр видел перед собою впервые в жизни. Вероятно, он еще многое увидит впервые, а увидит ли он ту, которая ему дороже всего, дороже дыхания?..
...После полудня на третий день поезд подошел к Москве. Муравьями из всех вагонов, разминая ноги, высыпали люди.
С бьющимся сердцем, крепко сжимая в руке кожаную ручку чемодана, Темыр, ошеломленный, протиснулся через толпу, спускавшуюся по лестнице в прохладные коридоры тоннеля.
Он вместе со всеми пассажирами вышел на большую площадь. У вокзала стояли ряды машин. Темыр присмотрелся к другим и тоже договорился с шофером. Еле сдерживая радость, он помчался по Москве, городу, безбрежному, как южные степи. Через двадцать минут Темыр с чемоданом в руке стоял у тяжелых полированных дверей с табличкой КУТВ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В тот светлый и холодный осенний день, когда в Москве Темыр впервые вступил в широкие аудитории Коммунистического университета трудящихся Востока, в его родном селе все шло своим чередом. Жизнь менялась незаметно, но шла она вперед по новому пути. Изучать законы новой жизни, чтобы строить ее вместе со всеми народами Советского Союза, строить сознательно и уверенно, лучше и быстрее, — для этого поехал Темыр в Москву. На его родной абхазской земле старое еще упорно цеплялось за новое и не хотело добровольно уходить.
В своем двухэтажном, под красной черепицей, доме как будто по-прежнему жил толстый и спесивый Кадыр. Но, боже ты мой, что осталось от прежнего Кадыра? Если подойти к распахнутому окну его душной комнаты, — на дворе еще стояла летняя жара — можно было услышать многое, чего раньше и подумать было нельзя про семью такого уверенного в себе человека.
Мыкыч кричал, сжав в бешенстве кулаки.
— Я его, собаку, уничтожу! Этот Миха пытается сесть нам на шею, да еще перекинуть через нее ноги. Погоди-ка, узнаешь, кто такой Мыкыч, когда угодит тебе в сердце горячая пуля.
Отец Мыкыча как рухнул на тахту, так и лежал, точно подкошенный.
— Что с нами делают! — стонал Кадыр. — Хоть бы мы имели дело с теми, которые мало-мальски похожи на порядочных людей! Как разорила нас эта мелюзга, эти люди, раньше вовсе неприметные! Ох, сын мой, где моя лавка, где мельница, табачный сарай...
Застегивая на ходу архалук, Мыкыч подошел к тахте.
При виде сына неистовство и отчаяние еще сильнее охватили Кадыра. Он повернулся лицом к стене и ногтями стал ее царапать.
— Не надо, отец, — угрюмо заметил Мыкыч. — Зачем себя терзаешь! Это нам не поможет. А вот я заставлю пролезть этого Миху сквозь игольное ушко и кишки свои намотать на эту иглу.
Мыкыч вернулся в свою комнату, а Кадыр лежал на тахте, словно в забытьи, и только шептал:
— Попали в лапы Михи. Боже мой, Миха, над которым все издевались! Это я-то, Кадыр, во власти сына раба, служившего посмешищем всему народу! Господи, зачем я дожил до этого!
Мыкыч, закручивая усы перед зеркалом, крикнул из своей комнаты:
— Успокойся, отец! Ну, что значит Миха по сравнению с нами! Погоди, я одолею его и сяду на его мертвое тело, как на бревно.
Кадыр с трудом приподнялся на тахте, сжал мясистыми ладонями голову и долго глядел на пол.
Из своей комнаты вышел разодетый, как на праздник, Мыкыч и некоторое время молча, скорбно стоял перед отцом.
— Я еду по делу к Махмету. Если кто-нибудь спросит меня, скажите, что я поехал в Очамчира.
Он взял плеть и вышел, горделиво развернув плечи. Во дворе его ждала гнедая лошадь. Ее бока лоснились под разукрашенным серебряными позументами седлом. Мыкыч проворно вскочил в седло, и лошадь, кося глазом, рванулась к высоким воротам.
Когда Мыкыч подъезжал к селению, стемнело. Было тихо кругом, из ближайших деревень слабо доносился лай собак. Мыкыч в дороге был сосредоточен, строил разные планы, как бы верней и безопасней для себя прикончить Миху. Мыкычу чудилось — слепая ночь ему шепчет: «Герой ты из героев, Мыкыч!» Миху он считал личным врагом и ненавидел еще больше, чем Кана, сменившего Темыра на месте председателя сельсовета.
Словно это случилось вчера! Мыкыч вспомнил о том, как когда-то, еще подростком, Миха целовал подол архалука Кадыра и молил: «Разрешите засеять землю исполу. Если бы не вы, куда бы я пошел, кого бы просил?..» Эх, знал бы Мыкыч тогда, что так станется, он уже давно прикончил бы Миху! В прошлые времена кто бы обвинил Мыкыча за убийство какого-то жалкого, Михи! Теперь же даже рабы рабов стали людьми.
Ну вот и селенье, где было отцовское поместье Махмета, имевшего свой дом и в городе. Мыкыч спешился у дома зятя, привязал коня, расправил позументы на седле, погладил скакуна по крупу и вошел в дом. Из кухни выплыла Ханифа, держа перед собою ярко горящую свечу.
— Унан! [17] Это ты, мой Мыкыч?! — воскликнула она. — Дай обойду вокруг тебя.
— Вы еще не ложились? — спросил брат и, пройдя мимо сестры на кухню, сел угрюмый на скамью и затем, вздохнув, поглядел на приветливые языки пламени в очаге.
— Ты что, услышал и приехал? — не отвечая на вопрос, так же невесело спросила Ханифа.
Мыкыч повернул голову.
— Что услышал?.. Что у вас случилось?
Ханифа тяжко вздохнула.
— Думала, ты услышал и потому приехал. — Она медленно опустилась около брата на скамью. — Как видишь, время против нас и нам приходится склонять голову, а может быть, и погибнуть раньше других людей нашего круга. Мало того, что лишили нас права голоса, а тут еще новая беда стряслась.
— Да говори же, что случилось?
— Вчера утром к нам явилась какая-то комиссия; ей, видишь ли, нужно передать нашу землю колхозу. И когда эти люди сказали, что пришли отбирать землю, Махмет хотел прогнать их. Они поспорили с ним, и твой зять вышел из себя, — сам знаешь, какой он горячий. Он слова не дал вымолвить, выхватил кинжал и ранил одного из них... из этой самой комиссии.
Мыкыч помрачнел, когда услышал это. Он прикусил ус, помолчал и злорадно произнес:
— А все-таки молодчина Махмет! Мне бы такой случай! — И Мыкыч даже погладил себя по груди.
— Матушки! — воскликнула сестра. — И это тебя радует! Ты же видишь: нас совсем разорили!
— Кого ранил Махмет? — отрывисто спросил брат.
— Да хоть бы кого-нибудь порядочного, тогда бы еще ничего, а то пропадать ему за такую падаль, за дурака Чина!
Мыкыч пренебрежительно сморщился.
— Лучшего не нашел! Неужто в комиссии порядочней никого не было, чтобы проткнуть его кинжалом? Как же промахнулся наш Махмет!
— Уж, видно, так написано ему на роду. Откуда ты знаешь Чину? Мы его соседи — и то хорошенько его не знали.
Мыкыч махнул рукою.
— Этот ничтожный человек пас в горах скот, и я бывал у него в шалаше. Сколько раз он поил меня горячим молоком и униженно кланялся! Как же Махмету подвернулся именно этот осел? Надо знать, в чьей крови можно испачкать кинжал. Чина!.. Вот обида!
— «Осел», говоришь? В наше время пастухи стали старшими над нами.
— Ну, это не надолго. Из этого ничего не выйдет хорошего для них же самих, — произнес сквозь зубы Мыкыч. — Кое-кого из этих людишек мы уничтожим — это для начала. Они сами напрашиваются на беду.
— Ох, тяжело...
— А это уж как в пословице, сестра: «Кому суждено иметь, тому еще раз отдай...» Нет, то, что сделал Махмет, очень неплохо. Это кое-кого предостережет. Мы должны заставить их всех понять нас, а если будем поддаваться, они и вовсе сядут на шею...
— Мой Махмет...
— Ничего дурного не случится с Махметом. Если дело из-за этой мелкой игры с кинжалом обернется против него, — подбросим несколько грошей очамчирскому начальству, и эти господа живо отпустят твоего мужа. Не бойся, не пропадет...
Слова брата подбодрили Ханифу.
Откинув полу архалука, Мыкыч протянул ногу в щегольском сапоге к очагу, сунул руку в карман и вытащил плоский серебряный портсигар.
— Чего хотят от нас эти люди? — сказал он, затянувшись ароматным дымом папиросы. — Неужели они думают, что смогут нас одолеть! Ведь за нами весь народ. — Пустив сизый дым через нос, Мыкыч продолжал: — И мне тоже предстоит нелегкое дело: Миха, собачье отродье, совсем распоясался и вредит нам на каждом шагу. Убить его, больше ничего не остается.
— Ох!
— Ну да, убить. И я об этом хотел посоветоваться с Махметом.
Ханифа повторила:
— Убить?!
— А что же? Смазать его коровьим маслом, что ли? Что нам еще остается делать?
Ханифа, изумленная и подавленная, встала, поправила поленья в очаге и произнесла:
— И глупы же вы оба: и твой зять, и ты.
— А что тут глупого?
— Беречь себя следует в такое время, вот что! Не в том храбрость, чтобы броситься в поток. И не так нужно, брат... Надо действовать с головой, себя не выдавая.
— Ого, да ты, вижу, понимаешь дело!
— Это всегда повторял Махмет.
Ханифа долго говорила. Мыкыч выкурил за это время три папироски и не пропустил мимо ушей ни одного слова сестры.
Когда Ханифа замолкла, брат разгладил усы:
— Неплохо ты говоришь, умные твои слова. Вижу, знаешь больше меня, недаром жила в Сухуми. — Он встал, расправляя складки архалука. — Но Миху все-таки надо пришибить, — он у нас в селе заправляет всем, он главный из партийных.
Ханифа пожала плечами.
— Думаешь, если убьешь Миху, партия в вашей деревне прекратит работу?
— Надо, чтобы прекратила. Для этого я имею на примете еще и другого.
— Господи! Кого же!
— Того, кто должен вернуться, — Темыра.
Сестра задумалась.
— Не этим Темыром закончатся все твои заботы? Кто теперь работает на его месте?
— Назначили Кана.
— А его не боишься?
— Нет. Он молод, и, возможно, я приберу его к рукам. Я, сестра, больше никого в нашем селе не боюсь.
Ханифа поправила дрова в очаге и, задумавшись, выпятила нижнюю губу.
— Боюсь, ты, Мыкыч, не знаешь, что нужно делать. Не думай, что после убийства Михи и Темыра не будет колхоза. Они ведь такие упорные, эти люди. Зачем лить кровь без пользы для себя? Ты лучше подумай над тем, что я тебе сказала. А кинжал — что! Им мира не перевернешь.
Еще долго разговаривали брат и сестра, дважды пропели петухи на тесном дворике, а они все рассуждали о непонятном устройстве нового мира. Борясь со сном, Мыкыч широко раскрыл глаза и громко зевнул. Ханифа поднялась.
— Засиделись мы, брат. Вот опять поют петухи. Ложись спать.
Она прикрыла теплою золой огонь и, держа только что зажженную свечу в руке, откинула одеяло на постели Мыкыча.
II
Стоял уже сентябрь. Год был засушливый. Раскаленное солнце пекло окаменевшую землю, клубы мутной пыли тучами вставали над дорогами, сухими, как кремень. Буйволы не выходили из обмелевших болот, переворачиваясь с боку на бок, сталкиваясь рогами, и лежали в грязи до самых сумерек.
Ахмат с другими колхозниками сидел в сарае, где было прохладно, и нанизывал табачные листья; ломаясь, они издавали легкий однообразный треск.
— Кто больше нанижет? Вызываю вас сегодня! — сказал Ахмат и сгреб себе на колени много широких листьев. — Прими-ка ногу, молодой человек! — притворно сердито воскликнул он и оттолкнул ногу Чихия.
Чихия взглянул, как быстро и ловко работает старик, и улыбнулся:
— Погляди-ка, он, кажется, всерьез решил с нами поспорить.
Соседи, низавшие табак, взглянули на Ахмата. Ахмат подмигнул:
— Кто соревнуется со мной, говорите-ка.
Его пальцы задвигались быстрее.
— Что ж, давай... — Чихия забрал себе еще больше листьев и начал их быстро насаживать на иглу с ниткой.
Люди работали торопливо, очищая от листьев гладкий земляной пол перед собой' быстрая и аккуратная работа изумляла их самих. У сарая медленно прогуливался Мыкыч. Он вошел и остановился, разглядывая тех, кто с веселым шумом низал табак. Первым Мыкыча заметил Чихия и подтолкнул локтем Ахмата.
— Чего толкаешься? Я себе руку чуть не проколол! — вскрикнул Ахмат, но Чихия глазами указал ему на Мыкыча, стоявшего у канавы, вырытой вдоль сарая.
Ахмат опустил голову и -еще торопливее продолжал низать табак.
Заложив за спину руки, тихо посвистывая, Мыкыч приблизился и сказал, усмехаясь, обычное приветствие:
— Да сделаете вы доброе!
Старики привстали, приветствуя его.
— Садитесь, садитесь, — продолжал он сладким голосом, и лицо его так сияло, словно его ничто не беспокоило. Он оперся локтем на устой табачной рамы и тихо, улыбаясь, заметил: — Сидите вы под крышей моего сарая, будто вместе со мной строили его. Жизнь, что называется, продолжается... А как ты думаешь, Ахмат, мою землю и мой сарай вам так и удастся навсегда прикарманить?
Не зная, что ответить, Ахмат покраснел и с трудом произнес:
— Почем знаю, дад Мыкыч. Ведь это не мы у тебя отняли, это закон отнял, дад.
Мыкыч задрожал от злости, но продолжал еще вкрадчивей и тише:
— Ну, нет, Ахмат. Закон в городе. Этот сарай отнял у меня не закон, а вы — мои братья. Что ж, — заговорил он еще тише, — за это на вас не сержусь. Разве вы чужие? Как могу отказать вам в сарае!
Он говорил мирно и даже почти весело, как будто довольный тем, что эти люди работают в его сарае и что этот табак — не его табак.
У Чихия кончились листья, и он перешел к товарищам.
Ахмат сидел с краю, и Мыкыч присел на корточки рядом с ним.
— Ты, Ахмат, человек честный! Чужого не желаешь, сам приветливый хлебосол и живешь сытно, не зная нужды, да пошлет тебе бог еще лучшего!
— Где уж мне такое счастье! — произнес Ахмат.
— Говорю к тому, что прежде мы, хвала господу, не видали горя, были свободными, и в плохом, и в хорошем были вместе, помогали друг другу, жили в свое удовольствие, дышали воздухом этих гор.
Ахмат молчал, глядя в землю. Мыкыч подсел еще ближе.
— Разве мы не любили друг друга? Мы не могли жить без того, чтобы не встречаться каждый день. Твоим имуществом владел ты, моим — я, и никогда у нас из-за этого не было споров.
Мыкыч быстро взглянул на сидевших в сарае — опустив головы, они проворно низали табак, не прислушиваясь к его шепоту, — и продолжал:
— Я ведь не только о себе говорю, говорю и о других! Если у меня что и отняли, то оно никуда не делось, стоит где стояло, и сам я, и вы — все одно целое. Но, что делать, Ахмат, наше время мне как-то не нравится и думаю, что ты сам видишь — очень много опасного впереди, оч-чень...
Он украдкой огляделся, скорбно покачал головой.
— Мало что-то нанизали табаку!
Он сказал это громко, чтобы все услышали.
— Сколько ж могли нанизать, дад? — ответил Ахмат. — Мы только недавно начали и взяли табак только с удобренной земли, там он поспел раньше.
Ахмат поднял лист и, перед тем как насадить его на кончик иглы, зажал верхушку между пальцами.
— Не правда ли, рано поспел, дад? Я и не видывал, чтоб в эту пору ломали табак.
Мыкыч свернул трубкой небольшой листик табака, сплюнул в него и вздохнул.
— Да, засуха... — И тихо прибавил: — Ох, боюсь, Ахмат, погубят эти люди все наше, абхазское, прекрасное! Вы, старики, — свидетели старого, разве вы не помните, как сытно и вольготно жилось? Люди жили по сто лет, но их никто не заставлял так, как вас, наших отцов, сидеть под крышей сарая среди табачного мусора. Ну что тут хорошего? Мы, молодые, должны вас лелеять, а вы, старики, должны спасти нас. Вы многое знаете, вы и должны указать нам правильный путь. И если все мы соединимся и поднимем крик, мы своего добьемся.
Ахмат перестал низать табак, опустил иглу и посмотрел прямо в лицо Мыкычу.
— Возможно, оно и так, Мыкыч, но неужели нас обманывают коммунисты, члены сельсовета?
— Мы и коммунистам не можем доверять. Думаешь, они чисты, между нами говоря?
Ахмат хотел надеть на иглу широкий табачный лист, но воткнул острие неудачно и надломил стебель листа, — руки дрожали. Мыкыч заметил, что его слова действовали на Ахмата, и положил руку на колено старика.
— Ты слыхал в своей жизни или видал своими глазами такое плохое, тревожное время?
— Да, нам нелегко приходится, — согласился Ахмат.
— Ну, я словами уморил тебя, наскучил и все еще не сказал того, зачем пришел. Сегодня вечером мы устраиваем моление, и, хоть ты устал, я был бы очень рад, если бы ты пришел. Кадыр сказал, как можем мы без тебя молиться.
— Хорошо, дад! Если у вас моление, да пошлет вам бог здоровья.
Он приветливо кивнул Мыкычу.
— Придешь?
— Непременно приду.
Мыкыч поднялся и, оглядев работающих, громко и приветливо произнес:
— Желаю удачи в работе!
Люди повеселели, когда ушел Мыкыч.
III
Чихия поднял голову и громко сказал:
— Фу ты, дышать легче... Заметили, каков сегодня Мыкыч? Клянусь богом, у него на сердце что-то грязное. Он никогда понапрасну не виляет хвостом.
— Дрянь, — сказал сосед Чихия.
Чихия рассмеялся.
— Я сам прислушивался, признаться. О чем только он не говорил: и об «абхазском», и о «прекрасном», и о «хлебосольстве», а сам за копейку готов задушить человека, горло ему завязать узлом. Где уж у него «абхазское», у этого гнусного человека! — Чихия покачал головой. — Как-то в кооперативе у меня не хватило совершеннейшей мелочи, я имел глупость попросить у него полтора рубля; поглядели бы вы, с какой неохотой он сунул мне эти деньги, а потом покоя не давал, пока я не вернул, — где ни встретит, все пристает: «Когда же ты отдашь деньги?» — «День-ги!» Я испугался, — со смехом прибавил Чихия, — что этот человек, чего доброго, еще проценты потребует, и поспешил, заняв у соседа, вернуть Мыкычу его полтора рубля.
Ахмат засмеялся.
— Кто видел проценты с полутора рублей?
— Этот господин тебе объяснит, что такое проценты с гривенника. Такие люди на все способны. Когда они увидят деньги, то о человеке уже не думают. И, поверь, если Мыкыч с кем-нибудь ласково заговорил, пригласил с ним поесть мамалыги, значит, он чего-то добивается. Но вот теперь он лопается со злости, что у него отобрали сарай, мельницу и лавку. Это уже не полтора рубля!
Сосед, низавший табак, сказал:
— Должно быть, он задумал что-нибудь дурное.
— Это верно, — подхватил Чихия. — И тебя в этом грязном деле решил использовать, Ахмат. То-то он подсел к тебе, ластился и облизывался, как кошка, будто жить без тебя не может.
Ахмат настороженно взглянул на Чихия, — эти слова были неприятны ему, и он вздохнул.
— Знаешь, бывает такое в жизни, в чем я даже с тобою не соглашусь.
— Скажи...
— Если правду сказать, нехорошо мы поступили с Мыкычем. Отняли землю, а она принадлежит ему и отцу.
— Ого-го!
— Этот сарай мог бы прокормить целую семью, а мы сидим себе здесь, как будто бы этот сарай наш.
— Та-ак!..
— Мы ведь не оплатили Мыкычу стоимости сарая, ни гроша ему не дали, или, как это говорится, — чужой петух пришел, домашнего петуха прогнал. Мы давным-давно живем с Кадыром в одной деревце, были соседями, делили все — и жизнь, и смерть; нас связывали радость и слезы, а теперь вот пришли, отняли сарай; и землю, и лавку отняли, не говоря уже о праве голоса. От всего этого, надо тебе сказать, давно уже саднит мое сердце.
— Вот что!
— А ты скажешь, мы с ними поступили не бесчеловечно? И как это можно жить без «мое-твое», без собственности. Ведь собственность нужна для доброго дела; ну, скажем, гость придет, чем ему воздать почет? Может быть, колхоз и хорош, но...
Чихия стряхнул листья табака с колен и негодующе сказал:
— Вижу, язык Мыкыча — ядовитое снадобье, чтоб он сгорел, этот мерзкий язык! Только шептал тебе на ухо, и смотри, как быстро смутил.
Ахмат воткнул иглу в землю и сердито отозвался:
— Ну и заносчива же теперешняя молодежь! Разговариваете так, точно знаете все на свете. А сами не разбираетесь, кто старше, кто моложе. Когда я был в твоих годах, я не только не посмел бы спорить со старшими, а вообще бегал еще без штанов по бережку и в дудку играл.
Чихия рассмеялся.
— Что ты, Ахмат, разве я дитя? Мне за тридцать.
— А хоть и за тридцать, нечего спорить со старшими.
Чихия вздохнул.
— Чтоб он подох, этот Мыкыч.
— С тех пор, как я стал себя помнить, мы никогда не занимались всем этим: ни табака не низали и ничего этого не делали, — строптиво продолжал Ахмат. Старик выдернул иглу из земли и воткнул в лист. — Сейчас я уже седой старик, а должен сидеть под крышей сарая, приготовлять эту чертову пищу [18]. Вы, молодежь, совсем утратили все хорошее, абхазское, и нас, стариков, губите.
Чихия улыбнулся.
— Мы тебя считали старшим, но, когда ты говоришь неправильное, и слушать тебя неохота.
— А что я сказал?
— Как мы можем защищать Мыкыча, который всегда драл с нас шкуру, съедал живьем! Мы должны благодарить время, которое принесло новый закон. И стыдно слушать все, что ты говоришь.
Старик растерялся, помолчал.
— Я не говорю тебе, — сказал он неуверенно, — что Мыкыч нас сделал богатыми... Он проел много нашего добра. Это я тоже знаю. Но мы отняли у него наследованную от отца землю — вот чего не хочу...
— То, что он проел у нас, и лежит в этой земле.
— Все может быть. Но как сейчас помню, что здесь жил Кадыр, отец Кадыра, отец его отца. Если мы уважаем «твое-мое», собственность, почему мы забрали эту землю?
— Нет, Ахмат, — возразил Чихия, — земля и не твоя, и не моя, и не деда Мыкыча. Земля — наша, для всех нас общая и родная!.. Возьми меня. Я тоже отдал в колхоз землю, доставшуюся от дедов и прадедов. Но мне ее совсем не жалко.
— То ты, а то...
— А то Мыкыч! Так и скажи. Думаешь, если бы я один вот этими двумя руками владел землею, смог бы я из нее извлекать что-то большее, кроме горсти зерен? «Отцовскую», как ты говоришь, землю Мыкыча, думаешь, он сам обрабатывал, и эта земля родила ему лавку и мельницу? Или ты не помнишь, сколько раз я арендовал у Мыкыча землю?!
— Ну и что же?
— А то! — запальчиво воскликнул Чихия. — Пусть владеет землею тот, кто ее своими руками обрабатывает! И напрасно, Ахмат, ты горюешь по земле Мыкыча.
Ахмат что-то пробормотал и умолк. Сосед крикнул:
— Ну, будет вам там, будет! Пока вы спорили о земле Мыкыча, мы вон сколько табаку нанизали!
Колхозники развесили на сушильные рамы нанизанный табак, вкатили в сарай сушившиеся на дворе рамы и разошлись по домам.
IV
Когда Ахмат вернулся домой, Селма и Зина готовились с рассветом поехать к зятю, которого, как дошел слух, собирались выслать из Абхазии.
Ахмат снял горячие пыльные чувяки с ног и, сидя на пороге, спросил:
— Вы как будто готовитесь к отъезду?
Селма, ворча, сушила свой платок у огня, и в комнате пахло согретой старой шерстью.
— Поедем навестить несчастного, куда ж еще? Пусть, как в доме моей сестры, будет горе в доме того, кто против невинного возбудил дело. Этот Миха и этот Темыр — черные дьяволы!..
Тонкие губы Селмы дрожали, по подергивающемуся лицу текли слезы. Она сложила высохший платок треугольником и положила на колени. Затем, поправив сухие волосы, повязалась платком и встала.
Ахмат только покрякивал.
Селма взяла со стула ощипанную, вздетую на железный вертел курицу и, присев на корточки у очага, принялась быстро вертеть ее над огнем; кругом распространился синеватый чад от жира.
— Погляди, не подгорел ли пирог, — скорбным, дребезжащим голосом сказала она дочери.
Зина подошла к каменной сковородке, на которой пекся пирог.
Огорченный Ахмат спросил:
— Кто вам сказал, что Хакуцва высылают?
— Племянник приходил.
Ахмат покачал головой:
— Да, стыдно в наше время заниматься воровством, когда народ так осуждает это дело. Только врагу можно пожелать этих ночных «удач».
Селма, громко откашлявшись и сплюнув в очаг, мрачно взглянула на мужа.
— Кто тебе сказал, что Хакуцв ворует? — Она быстро и сердито повертывала курицу, с которой капли жира падали в пламя. — Приснилось, что ли?
— Какой это сон, если наяву я видел! И раньше, сколько помню, Хакуцв жил только воровством и теперь этим занимается.
Селма потрясла вертелом.
— Чтобы ты самого себя не узнал, старик ты несчастный! По тебе давно соскучились на том свете. Ну, что ты знаешь, что ты понимаешь?
Ахмат осторожно улыбнулся.
— А кто же тогда дал ему буйволов, принадлежавших соседям?
— Кто дал? — Старуха порывисто вертела курицу над огнем. — Кто дал? — Она смотрела в огонь, в котором синими пятнами вспыхивал куриный жир. — Кто может дать? Пристали к нему буйволы, заблудились.
— Хе-хе, «приставшие буйволы»! Если меня мой рассудок не подводит, то мне кажется, что скорее сам Хакуцв пристал к этим буйволам. Эх ты, глупая! — вспылив, закричал он. — Нестоящий он человек. Да он и не человек, Хакуцв, — слышишь?
Селма повернулась и грозно взмахнула курицей, повитой голубым чадом:
— Ну, конечно, раз человека посадили, то он уже для тебя и не человек.
Селме не нравилось, когда о ее родиче говорили, что он ворует, — старуха стыдилась этого.
Ахмат сердито сказал:
— Сунь свою курицу в огонь и объясни мне, пожалуйста, почему буйволы ко мне не пристают?
— Ко всем, что ли, должен приставать приблудный скот?
— Про то и говорю, — торжествующе заключил Ахмат. — К вору чужой скот пристает!
— Ты еще издеваешься, зловредный ты человек!
Селма презрительно поджала губы и принялась яростно вертеть курицу.
Зина принесла на каменной сковороде зарумянившийся пирог, переложила его на большое блюдо и поставила на стол. Затем девушка замесила в деревянной миске тесто, наполнила тарелку мятым желтоватым творогом и принялась готовить новый пирог. А мысли ее привычно перенеслись в далекую Москву. Там был Темыр.
Шевеля босыми ногами, лениво подперев небритый подбородок рукой, Ахмат пристально глядел на быстрые руки дочери, переводил взгляд на жену, которая дожаривала курицу, отодвинув вертел подальше от огня.
— Кажется, все, — сама себе сказала старуха.
Ахмат неожиданно громко засмеялся, и Зина с любопытством взглянула на отца.
Селма оскорбительно заметила:
— Этого старика, наверное, ночью попортил домовой.
Ахмат показал глазами на дочь.
— Посмотри на Зину, что она делает: не подогрела сковороды и положила пирог.
Старуха, обомлев, взвизгнула:
— Да что с тобой, Зина, ты в уме ли? Старалась, воспитывала тебя, а ты даже пирога не можешь испечь как надо!
Зина растерянно взглянула на мать и грустно сказала отцу:
— Сделаешь плохо — ругается; хорошо сделаешь — все равно бранится... Такой уж характер...
Девушка подняла сковороду и понесла к огню.
— Я тебе — мать, — вдогонку крикнула Селма, — и чем меня учить уму-разуму, ты бы лучше сама прежде научилась, как нужно класть пирог на сковороду!
Зина повернулась к отцу:
— Мама расстроена. С тех пор как услышала о Хакуцве, она только и знает, что проклинает Миху с Темыром, будто это они свели у соседей буйволов.
Отец насмешливо поддакнул:
— Это, конечно, вполне возможно. Темыр, который живет в Москве, украл у нас по соседству буйволов, а Хакуцв, разумеется, здесь ни при чем.
— Когда у нашего бедняжки Хакуцва находили что-нибудь... приставшее, — сказала слезливо Селма, — разве не Темыр упрекал его, что он вор! Чтоб он света не взвидел, Темыр, а не то что молиться на него!
— Получается: украл Хакуцв, потому что упрекал Темыр, — заметила Зина.
Селма яростно закричала:
— Что за дерзкая девчонка растет! Слова о Темыре не даст сказать! Взгляните-ка на нее: «где нет ее деревянной миски, — она и туда со своей ложкой лезет».
Ахмат встал, сунул ноги в чувяки и взял посох.
— Не ждите меня, ешьте одни, — произнес он сердито и вышел из дому.
V
Ахмат взглянул на небо, тучи уже поднялись высоко, и он подумал, что было бы лучше, если бы испортилась погода: дожди умерили бы засуху. Опираясь на посох, старик пересек пустырь и заметил — кто-то идет в том же направлении, что и он.
Войдя в лощину, Ахмат догнал человека, — то был Степан, пожилой человек, вступивший вместе с Ахматом в колхоз.
— А я думаю, кто это идет? Куда собрался?
— Никуда, — отозвался Степан. — Так, неподалеку... В одно место. А ты куда?
— Иду к Мыкычу.
Степан пристально взглянул на Ахмата и признался:
— Тогда у нас один путь.
Ахмат помолчал и осторожно спросил Степана:
— Как понять, для чего сегодня собираются на моление у Мыкыча?
— Не знаю. Вот я уже стар, никогда не слыхал, чтобы у Мыкыча происходило моление. Он давно забросил это дело, даже в церковь не ходит.
— Это и удивительно, — подтвердил Ахмат.
— Когда он тебя позвал? — спросил Степан. — Мне он сказал еще третьего дня!
— А мне — сегодня. Придем — увидим.
Степан, словно нехотя, спросил:
— А помнишь, что делал Мыкыч при меньшевиках? Не помнишь! Как он заставлял приклеивать к стенам рублевые бумажки, — это было тогда, когда Есыф предсказал потоп.
— Ах, да! Об этом долго говорили, — вспомнил Ахмат.
Степан продолжал:
— Тогда я еще больным лежал... Помню, все вокруг пали духом, говорили, что наступает конец мира. Как-то я пошел к Есыфу, чтобы он погадал мне на куриной лопатке. Захожу во двор — двери дома заперты. Мне показалось, кто-то вышел из пацхи [19], я услышал скрип дверей и чей-то шепот. Вошел в дом. Меня встретил Есыф, чем-то встревоженный, я без лишних слов решил приступить к делу и вытащил из кармана куриную лопатку... В это время к воротам подъехал всадник. Я вгляделся пристальней, — эго был Мыкыч. Мое любопытство встревожило Есыфа. А я притворился, что никого не вижу, и протягиваю ему куриную лопатку. Есыф поднес лопатку к глазам, нахмурился, точно прочитал на ней много-много неприятного, и зашептал: «Сотворивший нас, сжалься над нами. Мы все, бедные, в твоей власти». Потом сказал: «Поторопись домой и, когда придешь, дай господу зарок, что сыщешь для него барана без единого черного волоса. Приготовь красивые большие свечи, по одной свече на душу, и прикрепи к косяку, а пониже приклей рублевые бумажки. Завтра приходи со всей семьей в дубовую рощу, захвати эти деньги и свечи. Да смотри, никого из детей дома не оставляй! Сегодня об этом известят всех, кто живет в Акуарче и в Накоу, и растолкуют, что вы должны делать». С этими словами Есыф вернул мне куриную лопатку и сказал: «Ты должен оставить мне несколько грошей, иначе плохо будет перед богом, и как бы это не было нарушением запрета». Я отдал три рубля, погнал коня домой, приехал и сделал все, как мне приказал Есыф. Утром валил снег, я взял с собой детей, жену и пустился в путь.
— Что же дальше? — с интересом спросил Ахмат.
— Я едва не утопил малыша при переходе через реку. Укутали мы ребенка в мешок, пришли в рощу. Там уже было много народу. Матери прижимали окоченевших детей к груди. Все с нетерпением ждали прихода Есыфа. На стволе большого дуба, вижу, приклеено множество свечей, а на земле под ним лежат пачками рублевые бумажки.
— Скажи на милость! — воскликнул Ахмат.
— Вскоре на нижней дороге показался Есыф. Он ехал с Мыкычем. Когда он слез с коня, к нему бросились парни и поддержали стремя. Есыф начал проповедь: «Великий бог пожалеет вас, не бойтесь! — сказал он. — Наш создатель не таков, чтобы не смилостивиться над вашими младенцами. Видите, какой холод, но ни одно дитя не плачет, — хорошее предзнаменование! Скоро должен наступить «срок» — конец мира, а мы все-таки не лишимся теплоты очей господа, и сегодняшний труд спасет вас. Молитесь, молитесь всей душой, и да не ведают зла сердца ваши!»
Есыф поднял голову к небу, возвел руки, и все — большие и малые — повалились в снег. Есыф то и дело прерывал молитву громовыми возгласами: «Не допусти до нас, великий боже, черной тьмы большевиков, не губи нас». Люди, слушая слова Есыфа, мерзли, кряхтели и кашляли. А Мыкыч повторял за Есыфом все, что делал тот. Потом Мыкыч вышел из толпы, подошел к дубу, крестясь и кладя земные поклоны, и зажег приклеенные к стволу свечи. «А это отдадим в церковь, на благолепие божьего храма», — пробормотал он и стал совать пачки денег в карманы. Есыф закончил проповедь, и оба сели на коней. Таков был этот покойничек Есыф... А впрочем, кто знает, может быть, его молитва чего-нибудь да стоила. Правда, много детей после той ночи болело и умерло... На все воля божья.
— Будет Есыф разрублен на части на том свете, — проворчал Ахмат. — А что с деньгами? Действительно, они были отданы в церковь?
— Какое там церковь! Говорят, Мыкыч на эти деньги начал торговать, хотя и у старого Кадыра была гора денег.
Ахмат вздохнул:
— Теперь диву даешься, как народ верил всему этому. Тогда, правду сказать, я больше всего боялся россказней о большевиках. А теперь вот пришли большевики, которыми нас пугали, а с нами, слава богу, кроме хорошего, ничего не случилось. И сейчас, если послушать, болтают лишнее... — Ахмат потянул скобу и, открывая ворота, сказал: — Вот мы и к Мыкычу пришли.
Но он еще с минуту постоял у ворот, словно раздумывая, войти или не входить.
VI
Пришедших встретили лаем собаки. Мыкыч выбежал из дому и, прикрикнув на собак, любезно приветствовал Ахмата и Степана.
Ахмат взошел на веранду и заметил сидевших в стороне двух колхозников, они играли в карты. Мыкыч хлопотал вокруг вновь пришедших.
— Садитесь, да не коснется вас смерть. Вы весь день работали и устали. Я и говорю, какая польза для нас, абхазцев, возделывание табака! Кому-то, конечно, приносит доход эта чертова пища, а вы за других работаете; я бы никогда не занимался этим делом. Бог с ней, с этой чертовой едою. Что скажешь, Ахмат, по этому поводу?
— Да, для обработки табака нужны выносливые руки, — уклончиво ответил Ахмат.
Сказав торопливо еще несколько приветливых слов и усадив Степана и Ахмата, Мыкыч поспешно вышел.
Во дворе снова залаяли собаки, пришли Арсана и Дзыкур.
На порог выбежал Мыкыч и обрадованно воскликнул:
— Да благословит вас бог! И вы явились!
Когда все уселись, Мыкыч потер руки и сказал:
— Мясо уже скоро сварится. Ой, ой, что это я морю вас сегодня голодом!
И Мыкыч снова юркнул в кухню.
— Кто же из вас выиграл? — спросил Дзыкур.
— Кто всегда выигрывает, тот и сегодня выиграл! — хвастливо заявил Леварса и не взглянул на Дзыкура.
Он придвинул к себе стопку карт и покрыл их козырным королем.
— На деньги играете?
— А как же, я уже выиграл десять рублей.
Вошла сестра Мыкыча Хаптина, женщина придурковатая и тихая. Опустив глаза, она поставила на стол тяжелое блюдо с мясом, и гости, весело переглянувшись, приступили к мытью рук. Хаптина уходила и приходила и вскоре уставила стол всякими яствами; тут были пирог с творогом, курятина, мясо, вино, виноградная водка, всевозможная деревенская снедь.
Гости молча окружили стол и потирали чуть влажные руки. Мыкыч сел на обычное место аталбаша [20], чтобы всех видеть, и перекрестился.
— Да пошлет нам тепло своих глаз тот, кому предназначено это жертвоприношение! — провозгласили гости, крестясь, и все в благоговейном молчании приступили к еде, косясь на стаканы.
Жирные куски мяса то и дело мелькали над столом. Мыкыч поглядывал на жующих гостей и торопливо говорил:
— Ничего особого, каких-либо дорогих яств перед вами нет. Ешьте, прошу вас, немного закусим, чем бог послал. — Разливая пахучую виноградную водку, он вздохнул: — Мы решили устроить этой ночью моление, но чтобы вас, истомленных работой, скорее попотчевать, я решил пригласить дорогих гостей сразу же за стол.
Гости подняли полные стаканы.
— Да будет благословенно это моление!
Произнося тост за тостом, Мыкыч заставил всех выпить много водки и затем вина. И так как духовная жизнь человека всегда связана с его земными заботами, Мыкыч незаметно перевел разговор на политику.
— Духом упал я, Ахмат, — вздохнул Мыкыч. — Как ни верти, а время нынче не то, и если господь бог над нами не смилуется, в большой опасности все мы. Правда, Арсана?
Единоличник Арсана взял себе большой кусок мамалыги, хотя рот у него был набит; он глухо, словно лая, выкрикнул:
— Очень... Такое время!
— А что ж, он прав! И раз Арсана и все мы захотели поговорить о жизни — послушаем друг друга, заклинаю вас верой. — Мыкыч поставил на стол чайный стакан, наполненный красным вином, и вздохнул. — Да не допустит господь бог, чтобы мы лишились вас, Ахмат, — наших отцов. Один ваш взгляд для нас дороже миллионов рублей...
Ахмат, уже покрасневший от выпитого, вздохнул.
— Я-то мало чего стою, дад, а вот сожалею, что Кадыр так постарел. Будьте вы все невредимы.
— И ты будь невредим, — продолжал Мыкыч. — Кто знает, что нас ждет впереди? Сегодня одно, завтра, может статься, — другое. Время — что колесо: каждый день по господней воле совершает свой круг... — Он выпил вино и тут же налил еще, — В старое время сытно жилось. А пришли большевики, сказали: «кулак», «середняк», «бедняк», «коммунист» — и разъединяют крестьян, разжигают ненависть между нами... Если не скажу вам все, что слышал, получится, будто я вам не доверяю.
Сидевшие за столом насторожились.
— Говорят, большевики думали вовсе уничтожить Абхазию, но когда мы их встретили с хлебом-солью, они передумали.
Дзыкур, пережевывая мясо, поминутно кивал головой, бормоча:
— Что правда, то правда!..
Мыкыч стремительно указал пальцем на Дзыкура, точно именно он был свидетель:
— Ты знаешь, для них, большевиков, выгодно, если мы перессоримся. Они нам скажут: «Отцы наши, вы, мол, неисправимы. И в старое время вы были такими, и сейчас вы такие». Они придумают повод и заставят весь наш народ поплыть по Черному морю, как во времена махаджирства [21].
Дзыкур переложил к себе на тарелку жирный кусок мяса и вскрикнул:
— Хай, не дай боже!
Гости, услышав о махаджирах, со страхом переглянулись; и только Дзыкур продолжал жадно пережевывать мясо, разглядывая наполненные яствами тарелки.
— Когда сказали, что будет каамет [22], — продолжал Мыкыч, — «червяк первым выколол себе глаза» [23], надо, чтобы это и с нами не приключилось. И поэтому нам не следовало, еще не зная, что получится у других, вступать в колхоз.
Арсана задумчиво произнес:
— Если б колхоз был хорош, разве бы его нам, беднякам, дали!
— Что колхозы! Каких еще ужасов нам не покажут эти большевики, если только живы будем, отцы наши! — проговорил Мыкыч. — Что ж вы не едите и ваши стаканы еще полны?
Дзыкур доел курятину и усом, как салфеткой, вытер сальные губы.
— Неученый я! — зычно возгласил он. — Читать и писать не умею. Брожу по земле, как слепой! Был я пастухом. Жил в лесу... И просто не знаю, зачем нам эти колхозы?
Ахмат махнул рукой на Дзыкура.
— Что ты, дад! Да ты в десятки раз больше моего знаешь. Да помилует тебя господь!
— Мне кажется, правильно все, что говорит Мыкыч, — продолжал рассуждать Дзыкур. — Когда не остается привычного, люди теряют уважение друг к другу. — Дзыкур облизал губы. — Боже мой, разорять человека за то, что он живет прилично, — мыслимо ли это, посудите сами!
— Молодец! Правду сказал Дзыкур.
Дзыкур покраснел от выпитого вина.
— Если бога нет, где же тогда почтение к старшим? — сказал он. — Если исчезнет хлеб-соль, что же тогда есть? «Вы, мол, богачи», — говорят лучшим из нас и лишают права голоса. А правление вручили таким, как, например, я. — Сжав сальные губы, он глухо захохотал. — А что я в этом смыслю? Разве это порядок, чтобы Дзыкур управлял? Скажите, ради создателя!
— Правильно, дад.
Мыкыч подхватил:
— Слышите, что говорит Дзыкур? У него простой язык и честная душа. Так решим же, что нам делать.
Дзыкур придвинул к себе стакан.
Взглянув на него, Мыкыч спохватился:
— Ах, дорогие мои, совершенно замучил я людей разговорами, да поразит меня смерть! Вас, бедных моих, должно быть, одолевает жажда. — Он поднялся, держа в руке полный стакан вина. — Да благословит нас бог! Да не лишит нас бог, отцы наши, хлеба-соли, почтения к старшим, да убережет от нынешнего безвременья и да избавит нас от позора!
Он осушил стакан, налил в него вина и поднес Дзыкуру.
Когда стакан обошел всех, поднялся, пошатываясь, Арсана. Он сказал, многозначительно оглядывая всех:
— То, о чем мы говорили в эту ночь жертвоприношения, — великое дело! Пусть это моление пошлет Мыкычу милость божию; за то, что он первый начал большое дело, от себя приношу ему благодарность. — Арсана приложил ладонь к горлу. — Некоторые из нас, действительно, не хотят колхоза. К чему скрывать! Мы обижены на вас, на тех, кто вступил в колхоз... Язву вы внесли в наше общество!
Арсана поморщился, точно проглотил сейчас не кусок мяса, а ломтик лимона:
— Мыкыч и Дзыкур старались как-то покрасивей сказать, а я вам заявляю короче: неужели же вы не понимаете, что колхоз нам ни к чему? Недаром ходят слухи, что в Гагра и в Сухуми уже тайно ловят детей и потихоньку отправляют куда-то на пароходах...
— Ой, ой!
— Вы и этого не слышите, будто уши ваши заткнуты? Что с вами? Неужто вы в своей жизни лучшего, чем колхоз, ничего не видели? — Он стукнул кулаком о стол. — Надо сговориться, и, если не хотите предать братьев, выходите из колхоза! Не так ли, друзья?
Послышались одобрительные возгласы.
— Если так, то скажите ясней, о чем вы думаете. — Мыкыч посмотрел на Ахмата.
Ахмат воткнул в мамалыгу косточку и почесал лоб, вздыхая.
— Что вам сказать, дад Мыкыч?.. Слышали мы, что вы тут говорили, и не думайте, что подведем вас, сородичей. Мы стали колхозниками только по нашему незнанию... А теперь выйдем из колхоза! А вы как думаете? — взглянул Ахмат на соседей слева и справа.
Соседи ответили:
— Что думаем? Куда ты, Ахмат, туда и мы...
Была глубокая ночь, когда все разошлись, досыта вкусив от «моления» Мыкыча.
VII
Рассвело. По небу медленно двигались пухлые рассеянные облака и таяли, Солнце приятно пригревало, поднявшись уже над горизонтом.
Селма и Зина с узелками вышли за ворота и подошли к роще. Здесь было свежо, пахло зеленью. Селма, хмурая, озабоченно вздыхала: арест родича ее сильно огорчил, и ей не верилось — не хотелось верить! — что Хакуцв все так же ворует, как и раньше. Правда, Хакуцва несколько раз высылали за воровство! Еще при царе он пять лет провел в том месте, которое называется «Астрахань». Тогда это было ремеслом Хакуцва, ну, а раз так, мог ли он жалеть даже родственников? Он исправно выводил скот с дворов соседей и только один знал, куда девал всех этих буйволов, лошадей, телят.
Но, боже мой, когда все это было! Давным-давно... Тогда, когда Хакуцв и не был еще свойственником Селмы. «А теперь, — думала она, — он родной, у него семья. Семейный человек — это прежде всего честный человек. Стыд и срам клеветать на семейного».
Пробираясь между кустами, она внезапно горько запричитала:
— Теперь Хакуцв не вернется живым, чтоб с вами стряслось то, что вы с ним сделали!
Зина смолчала.
— За всех вас он мучился, за всех трудился, силушку свою клал! — стонала Селма, выходя из мелколесья на дорогу.
Зина обернулась.
— Да перестань ты, мама, прошу тебя. Еще кто-нибудь услышит и скажет: «Что за сумасшедшая!» Мы же на дороге.
Они поднялись на холм, и здесь им перебежал дорогу заяц. Косоглазый не ускользнул от внимания Селмы, и она жалобно вскричала:
— Ах, чтоб ему добра не было!
Зина испуганно оглянулась.
— Если нечистое животное перебежало нам дорогу, разве доберемся благополучно до Сухуми? Ах ты, проклятый... Или это с Хакуцвом что-нибудь приключилось? И откуда взялся косоглазый?
— Из лесу, мама.
— Молчи, чертовка! Уж я чую, нам не будет удачи. Лучше всего вернуться.
Селма остановилась. Зина решительно двинулась вперед.
— Идем, мама. С нами ничего не случится, и Хакуцва увидим.
Селма, возбужденно бормоча, неохотно последовала за дочерью. Так они вышли на шоссе и удачно с первой попутной машиной поехали в Сухуми.
— Нас выбросит эта машина, — сказала Селма, когда садились в кузов грузовика.
Крепко ухватившись за руку дочери, Селма некоторое время сидела угрюмо, а затем стала оглядываться и даже как будто немного повеселела: ей понравилась быстрая езда. Селма первый раз в жизни села в автомобиль.
Машина домчалась до Келасури, старуха вздохнула и успокоенно произнесла:
— Дай боже долгую жизнь тому, кто придумал эту машину! Что за чудо!
Когда въехали в Сухуми, грузовик убавил ход. Оглядываясь по сторонам, Селма увидела пионеров в красных галстуках, шагавших ровными рядами под барабанную дробь. Старуха умилилась.
— Ишь, пострелы! Будто солдаты... Только совсем не страшные.
Шофер высадил их возле красивого здания почты. Зина взяла мать за руку, и они пошли к Дому крестьянина. Мать по дороге часто останавливалась, взволнованно заглядываясь на витрины.
— Какой высокий! — воскликнула Селма, увидев Дом крестьянина. — Дай им бог всем хорошую жизнь. Об этом доме мне рассказывал и твой отец.
Зина подошла к окошечку в подъезде и купила талоны на койки.
На следующее утро Селма с Зиной пошли к Хакуцву и передали ему гостинцы. Он сказал, что его не высылают. Селма повеселела.
Зина хотела купить отцу бурку. Они долго искали и наконец нашли по сходной цене поношенную бурку. Не задерживаясь на базаре, мать с дочерью направились на станцию автотранса [24] и поехали домой.
Когда они выехали за город, Зина весело предупредила мать:
— Смотри, мама, пока сама ему не скажу — ни слова о бурке!
— Разве мы скрываем, что купили обнову?
— Не скрываем, но пока не говори. Потом увидишь почему.
Солнце уже садилось за зеленые, мягко освещенные лиловым закатным светом вершины деревьев, когда обе женщины вошли в свой двор.
— Вернулись невредимыми, слава тебе господи, — забормотала Селма, входя в ворота.
Она тотчас сняла свое праздничное платье. Скоро пришел Ахмат и стал расспрашивать о Хакуцве. Селма взглянула на своего старика, и глаза ее, обычно строптивые, смеялись. Сейчас она была такая добрая, как никогда.
— Хотя нам и перебежал дорогу заяц, но съездили благополучно... У Хакуцва все в порядке. Ну и дочка у тебя, старик, смертью забытый, замечательная! Побывали в громадном Сухуми — боже, что за город! — а твоя дочка все знает. Знает по номерам, куда и как пройти.
Зина насмешливо воскликнула:
— Мама обет дала на случай, если с нами ничего не случится. Может быть, по этому случаю съедим акуакуар [25].
Поговорили вдосталь, и Ахмат вышел к скотине. Зина проворно приготовила ужин.
Когда Ахмат вернулся, Селма нетерпеливо взглянула на него: уж очень ей хотелось сказать мужу о бурке. Но Зина делала матери укоризненные знаки.
Ахмат подозрительно взглянул на дочку, затем на жену.
— Что вы там скрываете от меня?
Надевая деревянные тяжелые сандалии, Селма, кряхтя от усталости, ответила:
— Зину спроси! Она хочет тебе что-то дать своими руками.
Зина молча собрала с кухонного стола немытые тарелки и вооружилась кувшином с водой. Ахмат внимательно взглянул на дочь.
— Нет, вы уж скажите. Честное слово, вы что-то скрываете от меня...
Перемывая тарелки, Зина что-то обдумывала.
— У меня есть просьба к тебе, папа... Если ты согласишься, я дам тебе то, что купила, а не согласишься — не дам.
И она пытливо взглянула на отца, а он добродушно воскликнул:
— Глупенькая! Когда же случалось, чтобы я не исполнил того, о чем ты просишь?
— Нет, ты поклянись именем отца, — тогда я принесу, и ты сам увидишь, что это.
Ахмат шутливо положил руку на грудь.
— Клянусь именем отца, сделаю все, что ты попросишь.
Зина поставила мокрую тарелку прямо на земляной пол
и выбежала в заднюю комнату. Там она нарочито помедлила, — пусть гадает отец, — а затем не спеша вошла в комнату, надев на себя бурку, доходившую ей до пят.
Ахмат широко открыл глаза.
— Да обойдет вокруг тебя твой отец! Разве при моей бедной старости я мог надеяться, что у меня опять будет бурка?
Он пожирал взглядом эту бурку, настоящую, мохнатую бурку.
Зина проворно накинула ее на плечи отца. Старик так обрадовался обнове, что, казалось, помолодел. Он молча то снимал, то надевал бурку неловкими руками и с детской радостью, не отрывая глаз, разглядывал, ощупывал ее, рассматривал изнанку.
Решив, что отец достаточно нагляделся на подарок, Зина нерешительно вздохнула.
— Можно теперь сказать?
Ахмат зарывал, словно гребенку, расставленные пальцы в руно бурки.
— Скажи, дад, скажи твою просьбу.
Его глаза сияли от счастья, но Зина потупилась и долго не решалась заговорить, а затем, набравшись храбрости, выпалила:
— Я вступаю в комсомол, если тебе это неприятно... Это то, о чем я хотела просить тебя.
То, что осмелилась сказать Зина, поразило Ахмата. Он не нашел слов для ответа и только молча разглядывал свою дочь.
Селма же, как только дошло до ее слуха слово «комсомол», вскочила, резко отшвырнув босой ногой сандалию.
— Аайт! Чтоб твоя судьба перевернулась вниз головой! И в кого ты уродилась такая? Взгляните на нее — она губит нашу старость. Да провались ты сквозь землю!
Селма, по своему обыкновению, стала голосить и браниться.
Зина, опустив голову и ничего не отвечая, пошла к двери. Она не очень опасалась неуступчивости отца, притом любила его, и ей хотелось подождать, пока смягчится его гнев, она рассчитывала на действие своего подарка.
Ахмат стоял, все так же понурившись и спустив бурку с плеч. Он размышлял о том неожиданном, что сказала дочь.
— Верни ее и заставь отказаться от этого дела! — кричала Селма. — Я не хочу слышать о комсомоле!
Мать, как бы ни ругалась, подчинится обстоятельствам. Зина обернулась и ждала, что скажет отец. Под ее ясным и добрым взглядом Ахмат выпрямился, поправил на себе бурку и произнес не очень связную фразу:
— Я все ждал какой-то просьбы... А ты это... Комсомол! — Оглянувшись на Селму, он пробормотал: — Только погоди... Обдумаем...
— Я иначе не могу! — твердо сказала Зина и решительно вышла. Она давно все обдумала и знала, что добьется своего. Она видела бесхитростную радость Ахмата, которому так по душе пришлась бурка. Мечтая о том, как она вступит в комсомол, Зина уснула только глубокой ночью.
VIII
Дзыкур — сын бедняка. Его отец Кут еле перебивался, выпрашивал у соседей буйволов и лишь временами, когда заводилась копейка, нанимал их на сезон. Свою кукурузу, которую добывал с таким трудом, он засыпал в крохотный покосившийся амбарчик. Семья жестоко урезывала каждый кусок, жила полуголодной жизнью, и кукурузы этой едва хватало на год.
Когда Дзыкур подрос и уже мог помогать отцу, Кадыр всякими хитростями обошел Кута и взял мальчишку на пять лет в пастухи. Через четыре года — в то время, когда появились в Абхазии меньшевики, — умер Кут. Мать Дзыкура осталась одна, и ему пришлось вернуться домой; но до срока надо было пастушить еще год, и Кадыр заартачился, говоря, что не отпустит мальчишку.
Дзыкур все-таки не остался, ушел, и Кадыр не дал ему даже половины условленного. Дзыкур подавал много жалоб в суд, но ничего не добился. Так было до установления советской власти в Абхазии. А когда пришла новая власть, Дзыкур вступил в кандидаты партии. Его, хорошего работника, народ уважал, и, увидев это, Мыкыч обеспокоился и стал подсылать к Дзыкуру людей — уговаривать помириться.
И уж такой мягкотелый человек был Дзыкур, что Мыкыч сумел перетянуть его на свою сторону.
— Ты ведь, Дзыкур, нашу хлеб-соль ел, с нашим домом сроднился. Забудем то, что произошло по глупости, из-за нашей несознательности. Я хочу иметь тебя братом!
Мыкыч подарил Дзыкуру доброго коня, и Дзыкур стал как бы членом семейства Мыкыча. Когда хотел, он приходил к «родне», дневал там и ночевал, ел и пил, и, если что нужно было Дзыкуру, в доме «брата» он брал без спросу.
С течением времени сложилось так, что Дзыкур не стал делать ничего против воли Мыкыча. Мыкыч привязал его к своему дому, к жирной снеди. Таков был этот неожиданный союзник, с его помощью Мыкыч собирался дать бой новым превратностям жизни.
IX
Когда Миха пришел в сельсовет, здесь уже собралось много народу; некоторые сидели под тенистым ореховым деревом, другие — вблизи, возле дома. Под орехом сидел Ахмат и о чем-то тихо говорил с соседями. Арсана, усевшись рядом с Ахматом, не спеша строгал острым ножом палочку.
Миха, мельком взглянув на собравшихся, поднялся на верхний этаж, никого не нашел в пустой комнате и спустился к сидевшим внизу. Крестьяне умолкли и обернулись к нему. Весело, по своему обыкновению, улыбаясь, Миха поправил на голове сванскую шапочку и громко воскликнул:
— Добрый день!
Многие почтительно встали, но даже и у стоявших были опущены головы. Миха почуял, что эти люди не о добром говорили. Крестьяне из рода Ахмата и рода Арсаны с давних пор недолюбливали друг друга, — о чем же они могли беседовать вместе?
Миха оттягивал под шеей шнурок своей шапочки и зорко глядел им в лица. Затем он повернулся и направился к дому. Ему навстречу медленно и как-то неуверенно шел Дзыкур. Миха взял его под руку и отвел за здание сельсовета.
— Мне кажется, люди Ахмата сегодня чем-то опечалены. Ты не знаешь, что их беспокоит? — спросил Миха.
Дзыкур сдвинул брови, посмотрел в землю и провел рукою по глазам.
— Не знаю, — неопределенно протянул он. — Наверное... поверили каким-нибудь россказням.
— Россказням?
— Ну да, ведь по свету ходят всякие слухи.
— Больше ты ничего не знаешь?
— Да нет, ничего...
— И не догадываешься?
— Нет.
Дзыкур, словно нехотя, вернулся на лужайку.
Подошел Кан, и Миха решил немедленно открыть собрание. На повестке дня стоял вопрос о ремонте дорог в районе села. Надо было определить рабочие участки, выделить людей. Едва Кан начал объяснять собравшимся, что нужно делать, как выскочил Арсана, ударил кулаком о стол и разразился бранью.
— Пусть будет моим уделом лежать лицом к земле, если мы станем строить для вас дороги!
— Для вас, — поправил Кан, — а не для нас.
— Государство пусть чинит дороги, если хочет. Оставьте нас!.. Не будем работать!.. Что вы все молчите, как мертвые? — Арсана обернулся к колхозникам, потрясая кулаками. — Эй, народ, или не слышите, что говорят, или ваш язык не может произнести то, что думает голова?
— Народ наш!.. Товарищи!.. — перебил его Кан и тоже повысил голос. — Не слушайте вы Арсану. Никто насильно не принуждает ремонтировать дороги, если вы не хотите. Но ведь вам же будет лучше, когда получите хорошие дороги, — удобнее и ходить и ездить.
Арсана завопил:
— Благодетели какие! Подсказчики! Если нам на пользу, сами мы и сделаем. А вы-то чего суетесь?
Из толпы подтолкнули вперед Ахмата. Он, отодвигая посторонившегося Арсану локтем, помолчал, оглядываясь, потом медленно заговорил:
— Мы все... заявляем вам, что... — голос его стал хрипеть, — что мы дорог не будем строить!.. И мы все из колхоза выходим!
Он с опаской посмотрел на протестующий жест Кана, молчащего из уважения к старости Ахмата, и, сильно волнуясь, закончил свою речь, выкрикнув с закрытыми глазами, будто бросался в воду:
— Не хотим колхоза! Глаза бы наши не видели колхоза!.. — Ахмат, вытирая, пот, отошел в сторону. Раздались выкрики, и все смешалось. Крестьяне беспорядочно гомонили, спорили, толкаясь у стола, размахивая руками.
Миха пробрался к столу и громко сказал, став рядом с Каном:
— Тихо, граждане! — Он поднял руку. — Поговорим спокойно. Мы дали всем спокойно сказать свое слово. Теперь слушайте, что я скажу вам.
Стихло. Не торопясь, Миха продолжал:
— Вы хорошо знаете сами, что в нашей деревне есть преступные люди. В их числе — Мыкыч! — Крестьяне стали внимательнее слушать, а кое-кто закивал головой. — Эти люди привыкли жить чужим трудом! И в старое, и в новое время эти господа нам житья не давали.
Арсана злобно рассмеялся:
— Зачем все это вспоминать?
— А затем!.. Сами видите, какой переполох подняли они сегодня. И из-за чего? — Миха говорил спокойно и убедительно. — Из-за дорог, которые вам же нужны, а их «дорога», этих кулаков и подкулачников, совсем другая, — и об этом мы отдельно поговорим.
— Хватит! — выкрикнул Арсана.
— Нет, уж ты помолчи!.. Говорят, что утопающий за соломинку хватается. То же происходит с Мыкычем и его приспешниками. Они потому и идут напролом при всяком удобном случае. Но знайте, что и мы не спим! Мы всё, друзья, слышим, наши уши не заткнуты. — Миха помолчал. — Говорю это к тому, что мы недавно узнали: некоторые из вас присутствовали на «молении» Мыкыча... Был там и Арсана.
Ахмат удивился словам Михи, особенно тогда, когда Миха сказал о «молении». Старик не представлял себе, что кому-нибудь известно об этом вечере с «молитвами, вином и закусками». Его удивило и то, что Миха промолчал о нем, — бережет он старика, что ли?
Он робко, испытующе взглянул на Миху, медленно повернул голову в сторону Арсаны и, увидев, что Арсана возбужден, вот-вот собирается вступить в драку, опустил голову.
После Михи выступил Кан:
— Кто вам говорит, что колхоз — это плохо, тот ваш враг!
В толпе закричали, что не будут слушать Кана, пусть говорит, что хочет, — его слова при нем и останутся, а люди все-таки выйдут из колхоза.
Арсана прищелкнул языком:
— Правильно! Молодцы ребята!
Замахнувшись дубинкой, он кинулся вперед:
— Гоните их, глаза б наши не видели...
Ему загородил путь Чихия.
— Назад!
Арсана остановился, оглянувшись на крестьян. Идти следом за ним в драку никто не выражал желания. Арсана был натравлен Мыкычем, но Мыкыча здесь не было и рисковать своей шкурой Арсана один не хотел. Леварса потянул его за рукав.
— Расходись по домам! — выкрикнул Дзыкур.
Кан взглядом спросил Миху, тот кивнул головой.
— Общее собрание откладывается... — объявил Кан.
Собрание было сорвано. Осыпая друг друга упреками и ругательствами, крестьяне разошлись по домам.
...Вечером небо густо укрыли черно-сизые низкие тучи. Порывами дул ветер. Быстро стемнело. В грозовом небе заполыхали молнии. Дворы обезлюдели.
Сквозь дождливую темноту только в одном окошке сельсовета мерцал скупой свет. К полуночи и он погас. Закрыл двери и вышел из сельсовета последний человек. В темноте двигалась по мокрой, изредка поблескивающей под молниями земле, кучка людей. То шли после партийного собрания члены и кандидаты партии, сельский актив. Зажав в кулаке ключ, позади всех шагал Миха вместе с Каном и Чихия. Они договорились — встать пораньше утром и ехать в Очамчира. Во тьме разыскали на пастбище своих лошадей, привели к крыльцу Чихия, вытерли сухой соломой и, накинув на спины им шерстяное веретье, легли спать.
X
Учреждения и магазины в Очамчира были уже закрыты. Люди, окончившие работу, расходились по уличкам или шли по главному, пересекавшему город шоссе. Крестьяне ехали на монотонно поскрипывающих арбах и покрикивали, подгоняя задумчивых буйволов; многие крестьяне и крестьянки, шагая по шоссе, сгибались под тяжестью сумок и мешков, набитых покупками, — люди спешили добраться домой до темноты. Два всадника опередили всех, — это были Чихия и Миха, возвращавшиеся домой, в село.
— Глупый Дзыкур, — заговорил Чихия. — Я думал — он человек, а он пень-пнем, неизвестно, для чего уши к голове приделаны, и есть ли в ней хоть капля мозга. Я как-то с ним на днях разговорился, и вижу — он пропащий человек.
Чихия сердито подхлестнул коня.
— Значит, — сказал Миха, — мы правильно поступили, исключив его из партии.
— Конечно. Мы ему напрасно доверялись. Разве такой темной голове можно доверить наше дело?
Миха помолчал, придерживая горячую лошадь. Он задумался. Жизнь — большая... Возможно, и Дзыкур еще станет другим человеком. Не надо ставить крест, ему нужно помочь... А в партию принимать его было рано.
Солнце клонилось к западу. Его диск, ставший похожим на яичный желток, медленно опускался в море. Половина его скрылась за темно-лиловой тучей с оранжевыми краями. Вскоре наступили пепельные сумерки. Вершины дальних гор еще были розовыми. В воздухе разлилась глубокая прохлада, стало легче дышать.
Приехав в село, Миха и Чихия остановились на лужайке перед сельсоветом. Здесь никого не было, кроме нескольких женщин, вышедших из кооперативной лавки. От них отделилась Зина и поднялась на веранду сельсовета.
Миха и Чихия привязали лошадей и подошли к девушке.
— Мы думали раньше вернуться из Очамчира, но задержались в райкоме. — Миха улыбнулся Зине. — Не сердись, что заставили ждать.
— Зачем же сердиться...
Они вошли в сельсовет. Чихия свернул плеть, положил на стол около чернильницы и уселся, а Зина встала у окна.
Миха посмотрел на нее и вспомнил Темыра. Чихия придвинул к столу стул:
— Ну-ка, Зина, присаживайся.
Не заставляя себя просить, девушка села.
Миха долго приводил в порядок дела в скрипучем шкафу, затем, держась рукой за дверцы, внимательно посмотрел на Зину. Встретив ее взгляд, он отвернулся и сказал Чихии:
— Замучились лошади.
Миха говорил о лошадях, а думал о Зине и Темыре. Он еще не поговорил с Зиной об ее отце.
Чихия тоже тревожно думал о Зине, но он вежливо поддержал начатый разговор и заметил, что если лошадей не густить на ночь в луга, они совсем заморятся, так как со вчерашнего дня не получали корма.
Зина предложила:
— Гоните их на наш луг, там хорошая трава.
— Великолепно! — произнес Миха.
Он вынул папироску, медленно размял ее в пальцах и не спеша закурил.
— Почему мы тебя побеспокоили, Зина, знаешь?
Зина подняла воротник блузки и, прижав его к шее, негромко, даже пугливо ответила:
— Догадываюсь.
Чихия вздохнул, глядя в окно. Миха продолжал:
— По правде говоря, мне слишком неприятно то, что позволил себе вчера на собрании Ахмат.
Чихия поднял конец башлыка, внимательно разглядывая его, точно незнакомую вещь. Зина молчала.
Миха осторожно произнес:
— Очень неприятно, что твой отец, Зина, выступил на собрании и предложил всем людям выйти из колхоза. Мне хотелось бы узнать твое мнение об этом. Может быть, ты действительно желаешь, чтобы ваша семья вышла из колхоза?
Тонкие, подвижные черты лица девушки задрожали, она словно онемела. Зина с трудом произнесла:
— Как я могу хотеть этого! Разве ты думаешь, что это на меня похоже?
Миха грустно посмотрел в лицо Зины.
— Нет, я этого, конечно, не думаю. Но раз так случилось с твоим отцом, как же не спросить тебя?
Чихия молчал, слушая, что говорит Миха, и сочувственно наблюдал за волнующейся девушкой, которая тяжело переживала поступок отца. Увидев, какое впечатление на нее произвели последние слова Михи, как живое, выразительное лицо ее то краснеет, то бледнеет, Чихия ласково сказал:
— Зачем так огорчаешься? Ведь Миха тебя в этом не винит. Пусть так не смущает тебя это дело. Оно поправимо. Вчера на партийном собрании мы решили во что бы то ни стало вырвать Ахмата и других таких же бедняков из рук этих... — он поискал слово, — взбесившихся от злобы и обманывающих народ людей. Понимаешь? Мы решили вернуть Ахмата в колхоз. Но уж вернуть по-настоящему. Твое мнение об этом, Зина?
Темные, ставшие влажными, красивые глаза Зины, готовой заплакать, заискрились и потеплели.
— Я так и хотела. Надеялась на вас, — горячо и тихо сказала девушка. — Вы нам поможете. Мой отец вовсе не такой плохой человек.
— Знаем, — ответил Миха.
— Он, может быть, лучше, чем вы думаете...
— И этому верим. И знаем, кто именно старается оторвать Ахмата от дела, которое для него действительно родное.
— Только ты поговори с ним хорошенько, втолкуй, объясни, что его обманывают, — добавил Чихия.
Миха внимательно вглядывался в Зину, впервые по-настоящему он узнал ее и понял, какой хороший, верный и честный товарищ в их трудной борьбе, в их большом государственном деле эта скромная девушка. Зина ответила ему взглядом своих правдивых добрых глаз. Она еще тише проговорила:
— Никогда мы, я и отец, не ссорились... ни одного неприятного друг другу слова не говорили. А вчера... так из-за колхоза поссорились.
Зина опустила голову и отвернулась, чтобы скрыть слезы...
Мужчины почувствовали к девушке глубокую жалость. Миха осторожно коснулся ее руки. Она была так хороша в эту минуту, что они оба даже позавидовали тому счастливцу, который введет Зину в свой дом... И опять припомнился Михе его друг Темыр. Что он там делает в Москве, о чем думает?
Зина встала. Миха проводил ее к дверям.
— Теперь ты знаешь сама, как надо действовать.
— Знаю. Я все сделаю.
XI
Жизнь шла вперед. В доме Мыкыча росла тревога.
Однажды Мыкыч поднялся рано утром, торопливо оделся, снял со стены уздечку и направился туда, где обычно паслись его лошади. Это почти потайное место было искусно огорожено и имело только один выход. Вокруг — живая изгородь из колючих зарослей ежевики, совершенно непроницаемая. Низенькие ворота поставлены на самом краю обрыва, над крутым спуском к горной реке. И не понять было, как по этой крутизне пригоняли и угоняли лошадей, но лошади Мыкыча были уже приучены: сгоиг их только пригнать к обрыву да прикрикнуть, как они сами скатывались, скользя и приседая на задние ноги.
Мыкыч набросил на лошадь узду и, тихо посвистывая, зигзагами повел ее к крутому спуску. Лошадь пошла быстрее, всхрапнула и рванулась вниз.
«Затопчет!» — подумал Мыкыч и сам заторопился, но поскользнулся, упал, выпустил из рук повод, покатился и бухнулся с высоты десятиметрового обрыва в воду. Чертыхаясь и выжимая мокрый архалук, Мыкыч выбрался наверх и по следам лошади Езошел в рощу. Он поднес руку к глазам — на пальцах у него была кровь. Теплые торопливые капли стекали по лицу, на лбу горела широкая ссадина.
«Боже, пошли смерть Михе! Что только не приходится из-за него переносить!»
Мыкыч вынул из кармана платок и приложил ко лбу. Лошадь паслась у ворот, наступая на повод.
Он злобно намотал на ладонь повод, сложив его вдвое, и больна ударил лошадь по ушам.
— Чтоб тебя бешеные собаки растерзали на части!
Схватив за узду, Мыкыч повел лошадь к дому. На веранде стоял Кадыр. При виде сына, окровавленного и мокрого, он простонал:
— Что с тобой?
— Иди не видишь! Чуть не проломил себе голову... Может быть, ты слышал, что Миха умер? Если он еще не умер, чтоб ему сегодня же издохнуть!
Мыкыч накинул повод на крюк столба, стоявшего посреди двора, н направился к дому, мокрые чувяки хлюпали и, казалось, разговаривали и вздыхали на его ногах.
Кадыр, шевеля усами, стонал:
— Э-э, отцы мои!.. В какое проклятое время мы живем! Пока Мыкыч переодевался, отец, кряхтя и бранясь, седлал ему лошадь. Мыкыч с перевязанным лбом вышел на двор, подтянул подпругу и, морщась от боли, сел в седло.
Было уже за полдень, когда он приехал к сестре. Около ворот играли дети. Увидев своего дядю, они радостно закричали:
— Мыкыч, Мыкыч!
Он Спросил, дома ли Ханифа.
— Мама дома... Только что приехал какой-то гость. Мыкыч подъехал ближе, сошел с коня. Неподалеку стоял оседланный, богато убранный скакун. Мыкыч взбежал по ступенькам. Его ждала неожиданная встреча. В комнате, расставив ноги и выпятив живот, важно восседал Мурзакан.
Мыкыч сдернул башлык, подошел к Мурзакану и вытянулся перед ним. Мурзакан протянул ему руку.
— Очень уж я хотел видеть тебя, и мы кстати встретились!
Вошла Ханифа. Приветствуя брата, она с гордостью показала на Мурзакана.
— Смотри-ка, брат, кто у нас в гостях!
Она подошла к Мурзакану, и приложилась губами к его плечу [26].
Мурзакан кивнул ей и важно спросил:
— Что слышно о Махмете?
— Что слышно! — скорбно ответила женщина. — Сослали его... Когда человек попадет в лютую собачью свору, что ему ждать хорошего?
Мурзакан хрипло вздохнул, полуприкрыв веками розоватые в жилках белки глаз:
— Такого ужасного времени еще не было. Что за судьба, что за мука постигла нас! Боже мой, ну для чего же переносить столько страданий такому чудесному человеку, как наш Махмет?
Некоторое время они сидели молча.
— Ты, кажется, сегодня немало поработала, Ханифа, — Мурзакан чуть поднял тяжелые веки. — Я проезжал мимо сельсовета и слышал: у вас там была перепалка, и довольно жестокая.
— Был разговор! — Ханифа пожала плечами. — Пусть не-к много останется души в теле, но, пока живу, не расти в нашем селе колхозу, да обойду я вокруг тебя, Мурзакан.
— Так и делай. Только это и будет достойной местью за Махмета. И ты это хорошо поняла! Молодчина!
Мыкыч взглянул на сестру и спросил, что же ей удалось сделать сегодня.
— Постарались сегодня наши женщины, — ответила Ханифа, — они и слова не дали сказать болтуну, приехавшему из уезда.
Мурзакан покачал головой и разгладил усы.
— Разве Ханифа женщина? Она — сокол, она лучшего из мужчин заменит!
— Убили бы говоруна, если бы он не прыгнул в окно и не удрал. — Ханифа рассмеялась. — Думаю, что они теперь уже не скоро заговорят о колхозе в нашем селе, так их сегодня напугали женщины.
Мыкыч только языком прищелкнул:
— Вот это дело, сестра! Чего нам стесняться! Все равно, как ни верти, будет беда.
Мыкыч вздохнул и рассказал Мурзакану и сестре о том, чего ему уже удалось добиться.
Мурзакан медленно поглаживал толстое колено.
— Та-ак!. Действуйте с умом. И ты молодчина, Мыкыч, и твоя сестра молодчина. Не выдавайте себя и работайте осторожно, но непрерывно старайтесь делать все через бедноту. Бедняк для нас теперь выгоден... Оба вы знаете, что на этих презренных нищих власти смотрят иначе, и если уж побирушки скажут, что не желают колхоза, то, может быть, колхоза и вовсе не будет. — Мурзакан серьезно взглянул на Мыкыча. — Тут особенно, друг мой, может помочь то, что я тебе уже однажды советовал, — ссылка на махаджиров.
— Я об этом несколько раз говорил! — торопливо воскликнул Мыкыч. — Я нашим дуракам сказал все то, что ты говорил о махаджирах, и еще кое-что остренькое прибавил от себя.
— Ага! А они что?
— Они, разумеется, верят. в
Припухшие щеки Мурзакана прыгали, он зычно хохотал.
— А я... А я, — торопливо вставила Ханифа, — больше всего напирала на неверие в бога, на черные двери ада.
— Да, да!
— Это пугает здешний народ. Разве может народ остаться без бога?
Мурзакан взмахнул руками.
— Это верно. Помни, Ханифа, на тебя я надеюсь не меньше, чем на мужчину!
Мурзакан одернул полы просторного архалука и, солидно откашливаясь, приподнялся, притворяясь, что собирается уйти. Брат и сестра уговаривали его, чтобы он остался ночевать, но Мурзакан сказал, что ему сегодня же надо побывать еще в одном месте. Они сами видят — время нынче военное, «хотя еще ружья не стреляют». Мыкыч с задором подхватил:
— Будет и это!
Все-таки Ханифа уговорила Мурзакана подождать. Она быстро расставила на столе блюда с холодною закуской, накормила и напоила гостей. Как только закончили есть и выпили по последнему стакану вина, Мурзакан, не задерживаясь, сел на лошадь и уехал.
Когда Мурзакан выехал за ворота и пустил лошадь иноходью, Мыкыч спросил у сестры:
— Ты зачем меня вызывала?
Сестра молча положила на стол письмо. Это было письмо Махмета. Мыкыч прочитал его, — Махмет болен.
— Беда, — произнес Мыкыч и угрюмо смолк.
XII
Миха проснулся на открытой веранде, на своей широкой тахте. Солнечные весенние лучи приветливо щекотали лицо. Как жаль, что он проспал, — ему хотелось сегодня встать пораньше.
Он привстал, и маленькая птичка, сидевшая на перилах веранды, испуганно вспорхнула, прервав тихую песенку. Миха протянул руку к одежде и заметил, что его бешмет отсырел. Неужели ночью был дождь? Взглянув поверх деревьев, Миха увидел, что небо ясно-синее. Круглые серебристые капли росы, поблескивая, висели на кончиках посвежевших листьев и светлым бисером унизывали густую, сладко пахнущую траву.
Миха*с наслаждением втянул ноздрями воздух, зевнул, сунул ноги в легкие кожаные чувяки и сошел с веранды. Он медленно обошел вокруг дома — проверил, на месте ли скот, вымыл лицо и руки холодной водой из родника, затем выпустил поросят из свинарника и на кухне развел огонь. Нежась в тепле, он немного посидел у очага, пока его жена Хикур не подала холодной мамалыги с кислым молоком и сыром.
В сельсовете Миха застал только секретаря. Кооперативная лавка, стоявшая вблизи сельсовета, расширялась и заново отстраивалась Она была открыта, и Миха решил до прихода Кана и плотников заглянуть в лавку. Он встретил по дороге милиционера, и они вошли в кооператив. Продавец проворно подметал политый пол. Миха похвалил:
— Ишь ты, какой молодчина!
В лавку вошла Зина, и милиционер шутливо отдал ей честь:
— Привет!
— Как живешь, Зина, — спросил Миха, — как поживает Ахмат?
Он попросил Зину сесть. Но она отрицательно покачала головой. Должно быть, на ее душе тревожно, а как хорошо бы с ней поговорить и об ее отце, и о Темыре!
«Нет, — подумал Миха, — ее счастье еще впереди».
Милиционер нашарил в кармане табак и неожиданно для самого себя вытащил сложенный вдвое помятый конверт.
— Аайг! Да поразит меня смерть. Скажите, пожалуйста, я забыл письмо, и оно лежит себе у меня в кармане со вчерашнего дня.
Он протянул конверт Михе.
— Из Москвы, — воскликнул Миха, — от Темыра!
Он надорвал конверт и вместе с письмом высунулся глянцевый краешек карточки — то была фотография Темыра.
Услышав имя Темыра и увидев его карточку, Зина смутилась. Но все-таки она чуть склонилась над плечом Михи и увидела на фотографии знакомое лицо. Темыр носит теперь галстук, а волосы зачесывает назад; лицо его стало серьезней, будто бы немного удлиненней.
— Погляди-ка, Зина, — весело воскликнул Миха, — как похорошел наш парень!.. — и он подмигнул ей лукаво.
Сдерживая радостное смущение, Зина молчаливо смотрела на фотографию, и многое ей припомнилось; вспомнила она и то, как печально оборвались ее встречи с Темыром. Он не прислал ей ни одного письма.
Продавец вышел из-за прилавка и тоже заинтересовался карточкой.
Девушке казалось, что не фотографию, а ее сердце разглядывают эти люди. В ней снова вспыхнула доверчивая любовь к Темыру. Пусть много обид, и пусть нет надежд, — любовь все-таки живет!
Зина боялась, что ее чувство поймут, и поэтому она решила скрыть его под простой вежливостью и сказала:
— Он и в селе был хорош, а теперь стал еще лучше.
И как ни в чем не бывало протянула фотографию Михе. Тут же, украдкой бросив взгляд на конверт, лежащий на скамье между нею и Михой, она прочла адрес.
Миха был так поглощен письмом Темыра, что и не заметил быстрого взгляда девушки. Он подул в конверт и, вкладывая в него письмо и карточку, заметил:
— Из него вышел настоящий человек. Знали бы вы, что он пишет!
Зина спросила будто равнодушно:
— Что же он пишет хорошего?
Она опустила глаза, чтобы не выдать их блеска.
— Успехи, Зина, большие успехи! Темыр переходит на следующий курс. Ну, как не сказать, что он молодец...
Зина молчала только потому, что много раз про себя повторяла адрес Темыра. Она должна запомнить этот адрес и, когда придет домой, записать его.
Зина тихо поднялась и спокойно подошла к прилавку. Посмотреть на нее — словно уже позабыла об этом письме. Она попросила дать ей катушку ниток, сахар и кусок мыла.
Когда Зина выходила, милиционер весело вытянулся перед ней и опять козырнул, а Миха внимательно и грустно посмотрел девушке вслед; он понимал, какое впечатление произвело на Зину письмо Темыра.
Дома Зина еще сильней почувствовала, что любовь разрывает ее сердце. Отцовская хижина показалась такой маленькой, Зина задыхалась...
Ее пугало это страшное состояние, пугало то, что она и теперь отчетливо видит перед собой Темыра с галстуком, с волосами, зачесанными назад. Он неприветливо, с укором глядит ей прямо в лицо и молчит. Все-таки пусть Темыр объяснит ей, почему разлюбил, охладел, что помешало их любви!
Зина не понимала, что случилось, и вспомнила его слова: «Если можешь, жди меня, пока не отомщу». Но вот он в Москве, — кому же он там мстит? «Темыр обманывает тебя», — припомнились ей слова, сказанные Мыкычем. Для кого-то Темыр принарядился там, в Москве, и эти, по-другому зачесанные, волосы и галстук нужны ведь не ему, а кому-то другому, — не правда ли?
И девушке уже казалось, что Мыкыч сказал правду. Что ж, и омерзительные, лживые люди иногда правдивы. Разве письмо должен был получить Миха, а не Зина? Слезы душили ее, и она думала: бог весть, отомстит ли Темыр кому-либо, но уж, несомненно, он станет ученым, позабудет Зину...
Сидя за своим столиком, девушка писала на листке большими буквами: «Москва, Коммунистический университет трудящихся Востока», глядела на эти слова и не могла собрать мысли, не могла успокоиться. Взяла другой листок и, вздохнув, написала еще более крупными буквами: «Москва, Коммунистический университет...»
Зина бросила листки в угол, вышла на двор и до наступления темноты бродила по траве, ни разу не присев. Обессиленная, ужасаясь дали, она думала о том, что ее Темыр в Москве. Она легла спать, но тяжесть не покидала сердца, и только она смыкала веки, как перед нею вставал Темыр такой, как на карточке, — с зачесанными назад волосами.
Уже после полуночи Зина задремала, и тут же ей приснился страшный сон: она с Темыром сидит в этой комнатке, у зеркала, за которое он когда-то сунул свое письмо, и Темыр то полон любви к ней, то в необъяснимом бешенстве сжимает ей руки и кричит, что она не смеет его любить.
Проснулась Зина перед рассветом, измученная, с головной болью, она несколько раз присаживалась к столу, чтобы написать письмо любимому, но рука не повиновалась.
Знна неожиданно подумала не о том, что ей трудно будет объясниться с Темыром, а о том, что он не станет читать ее каракули! Он студент. Он будет другим, ученым. Он овладевает большими знаниями, а что она — отсталая, деревенская девушка! Она хотела в сущности успокоить себя тем, что их разделяет одна лишь разница в знаниях. Зина гнала от себя более страшное, она чувствовала это страшное, но в чем оно — не знала.
XIII
Время шло. Мыкыч настойчиво посещал дом Ахмата. Теперь, когда Темыра нет в селе, а старик Ахмат взят в руки, Мыкыч мог на многое надеяться в отношениях с Зиной! Как-то утром Ахмат торопил Селму приготовить еду, он спешил на работу. По другую сторону очага, в котором трещали горящие поленья, уже сидел Мыкыч и, обдумывая что-то, поминутно покручивал свои черные усы.
— Конечно, — продолжал он, — ты, Ахмат, говоришь правду: посеяли вы больше, работали лучше. Верно!.. Но я почему-то боюсь — в этом году у вас будет не особенно богатый урожай. Слишком много недовольства среди тех, кто вырастит этот урожай, а того, чем люди недовольны, не любит и бог.
— Что ж...
— Лучше было сделать так, как мы с тобою говорили когда-то, помнишь, на молении: вышли бы спокойненько из колхоза и зажили вольготно, как жили в старину.
Ахмат не отвечал и взглядами поторапливал женщин: солнце поднялось уже высоко, он опоздает на работу.
Мыкыч поглядел на Зину и указал ей на отца:
— Зина, ты, оказывается, скрываешь: твой отец любит колхоз! Уж не ты ли его уговорйла вернуться в колхоз?
Она, стоя над котлом, сжав губы и помешивая лопаточкой мамалыгу, не отвечала. Мыкыч покрутил ус:
— По правде говоря, тот, кто себя уважает, кто думает о будущем, не может не презирать колхоз. Ведь как же работать в колхозе, когда там собрался всякий сброд — вплоть до бывших слуг!
Зина плотнее сжала губы и еще быстрей принялась мешать лопаточкой мамалыгу. Мыкыч любовался ее стройной фигурой.
— Очень странно, что в колхозы идут даже девушки. Разве они не видят, что колхозников в селе еще очень мало и что никто не желает работать в колхозе!
Зина выпустила из рук лопаточку и резко воскликнула:
— Когда люди поймут, что колхоз хорош, все, как и мы, войдут в него!
Она отвернулась и стала снова мешать мамалыгу, а Мыкыч, неотрывно глядя на ее красивый стан, покряхтел, закурил и пустил из ноздрей клуб дыма.
— Возможно, — нехотя согласился он, — найдутся и такие опрометчивые люди. Ну, а все-таки нелегко обмануть весь народ. К чему человеку колхоз, подумай, Ахмат! Зачем быть человеку колхозником, если черт не смутил его разума? Вас, конечно, к этим глупцам я не причисляю. Если бы люди достойные, такие, как ты, Ахмат, организовали отдельно свой колхоз... Понимаешь? Свой!.. В такой колхоз и мы охотно вступили бы.
Сняв с огня клокочущую мамалыгу, Зина подала воду отцу и Мыкычу, а когда они помыли руки, подвинула столик и поставила на него еду. Мыкыч пошевелил усами и медленно принялся за мамалыгу, глядя на девушку и разговаривая с ее отцом:
— Ты какую, Ахмат, долю получишь в этом году?
— Когда получу, дад, тогда видно будет... — Ахмат упрямо прибавил: — Все-таки в этом году урожай должен быть большой: уж очень хороши кукурузные всходы на нашем колхозном поле!
Зина тоже спешила на работу и потому с досадой кормила «дорогого гостя». Она с отвращением глядела, как жует Мыкыч, и отгоняла хворостиной кур, норовивших пробраться в кухню.
Много неприятностей причинил ей этот господин! Все так же, после встречи у родника, он настойчиво преследовал Зину. И Зина хорошо понимала, что Мыкыч старается прибрать ее отца к рукам.
Но Зина видела и то, что ее отца, как он ни колеблется, все больше коробили ухватки Мыкыча, его наглость. А Мыкыч не замечал этого и настойчиво советовал старику уйти из колхоза. Видимо, он только на то и надеялся, что Ахмат сочтет бесчестьем выдать советчика. Наверное, старик боится и того, что Мыкыч может оскорбить Зину.
Думая так об отце, Зина не ошибалась. Он несколько раз уговаривал дочь никому не говорить, что к ним ходит Мыкыч, — пусть никто не знает об этом.
Ахмат, измученный назойливостью Мыкыча, особенно стыдился того, что однажды под влиянием этого негодяя выступил так опрометчиво на колхозном собрании. На что бы ни надеялся Мыкыч, а, должно быть, придется его разоблачить, — об этом все чаще со смятением думал Ахмат.
А дочь боялась, что Мыкыч все-таки убедит ее слабохарактерного отца, и много раз давала себе зарок, что уйдет из дому, не приготовив завтрака для гостя. Она решила потребовать от Мыкыча, чтобы он никогда не переступал их порога, но всякий раз откладывала объяснение с ним, боясь, что он сделает что-либо дурное ее отцу.
Уже не раз Зина приходила в сельсовет с твердым намерением сказать о Мыкыче, но возвращалась домой ни с чем и еще сильней боялась, что своим вмешательством наживет себе врага, а старику отцу — мстителя.
Так шли дни.
Мыкыч, чувствуя, что в этом доме его побаиваются, обнаглел и стал ходить чуть ли не ежедневно, продолжая уговаривать старика, все более надеясь, что тут, пустив в ход все козыри и пользуясь отсутствием Темыра, он сумеет все сделать по-своему и завладеть девушкой, которую он непрестанно преследовал.
Однажды Зина сказала себе, что надо положить конец этим мучениям. Преодолев свою робость, она пришла в сельсовет и сказала, что ей надо поговорить с Михой по комсомольским делам. Михи не было. Она дождалась его и поведала все: и об оскорбляющих ее домогательствах Мыкыча, и об его агитации против колхозов, и об уговорах, чтоб Ахмат вышел из колхоза.
Миха сосредоточенно слушал, делая пометки в своем блокноте.
— Хорошо, что ты пришла сюда со своим горем. Оно не только твое, а касается нас всех. О Мыкыче нам многое известно, и то, что ты сообщила, тоже важно. Не бойся его.
— Как бы там ни было, я правильно поступила? — спросила девушка.
— Да, Зина, правильно и хорошо. Так должны поступать все комсомольцы.
Провожая ее до дверей, Миха, прощаясь, задержал ее маленькую руку в своей большой и сильной руке и задушевно спросил:
— Ну, а как у тебя... все остальное?
Под «всем остальным» он разумел, конечно, Темыра. И Зина поняла это. Она вся вспыхнула, как будто он бросил ей огонь прямо в сердце, вся зарделась. Потом тяжело вздохнула, опустив ресницы.
— Темыр разлюбил меня.
— Не думаю.
Она еле слышно ответила:
— Кто знает...
В глазах девушки Миха увидел глубокое горе.
XIV
Мыкыч, мерно покачиваясь на своем упитанном иноходце, въехал во двор Мурзакана. Он никого не застал в усадьбе. Двери наглухо заперты. Странно, — ни одного человека, что это значит? Неприятное чувство охватило Мыкыча.
Неподалеку, в лесочке, люди перекидывались глухими окриками, слышался равномерный стук топоров, и Мыкыч подумал, что, может быть, там вся семья Мурзакана.
Он повернул коня, въехал в лес. Здесь пахло грабовником, свежими травами, папоротником.
Порхая с ветки на ветку, несложно чирикали маленькие птички. На полянке, залитой золотистым светом солнца, стояла арба, нагруженная доверху лесом. Подальше, на лесной дороге, пересекавшей поляну, стояла другая арба, и крестьяне укладывали на нее бревна. В глубине чащи рубили деревья.
Мыкыч остановил лошадь и пожелал работающим удачи.
— И тебе тоже, — ответил ему старик-колхозник, взглянув мельком на него и продолжая взваливать на арбу сырой, тяжелый кряж.
Мыкыч начал издалека, — он спросил, чей это лес. Лес был колхозный. Низенький старик Джидж, расставив ноги в сыромятных чувяках, натужливо держал подпорку с кряжем и, видимо, не собирался вести разговор. Но Мыкыч вежливо продолжал:
— Приятно видеть, когда работают и для колхоза. Это очень хорошо! А не будете ли добры сказать, куда уехал Мурзакан с семьей?
Один из буйволов мотнул головой, сбил жердь, поддерживающую передок арбы, и Джидж, подпирая плечом арбу, сердито закряхтел:
— A-а, жить ты, вижу, без Мурзакана не можешь! Придется тебе потерпеть. Мурзакана больше нет там, где ты его смог бы увидеть.
— Куда он мог деться?
Старик, поддерживая передок арбы, хитро прищурил глаз.
— Плохо его дело! Мурзакан арестован, и его семья выехала туда же.
Крестьяне, подносившие тяжелое бревно, услышав эти слова, переглянулись. А когда Мыкыч с испугом невнятно что-то пробормотал, кое-кто улыбнулся: они-то хорошо знали связь этих людей!
— Ох, бедный Мурзакан! — жалобно и громко говорил Мыкыч. — За что такое горе на старости лет?
— Ничего! Немало он прожил в наслаждении. Хватит с него, — сказал Джидж.
Мыкыч злобно взглянул на старика, молча хлестнул лошадь и ускакал. Колхозники посмотрели ему вслед, и кто-то произнес:
— Пожалел!
В голосе крестьянина прозвучала насмешка.
...Мыкыч был сильно опечален и обеспокоен — «как веревочке ни виться, а кончику быть». Арест Мурзакана заставил Мыкыча подумать о себе и о судьбе своей семьи. Нет, он не хотел в ту минуту ехать домой. Не зная, куда повернуть, он целый день провел в седле, бесцельно блуждая по дорогам, и только к вечеру, изнемогая от усталости, въехал в свой двор и тут увидел привязанных к столбу оседланных лошадей. Лошади были сухи, вероятно, приезжие давно уже поджидали Мыкыча. Его сердце торопливо, дробно забилось, и он, чувствуя холодок под самым горлом, подумал:
«Что за гости?»
Дрожащей рукой Мыкыч привязал коня к гибкой ветке ореха и, приглаживая волосы на голове, медленно поднялся по ступенькам в дом. Здесь Мыкыча ожидали трое: один из них был Миха, остальных Мыкыч не знал.
Он раскланялся:
— Добрый вечер.
Мыкыч протянул руку, но никто не подал ему руки, и один из приезжих спросил:
— Это тебя зовут Мыкычем?
— Меня, да падут на меня ваши болезни! — по обычаю вежливо, но уже испуганно произнес Мыкыч и спрятал руку за спину.
— Ты арестован, — сказал человек, — пойдешь с нами.
Мыкыч сильно изменился в лице.
— Ай! — воскликнул он. — В чем же я провинился, добрый человек? Ничего плохого не сделал, ничего дурного не говорил.
Ему не ответили.
Через пять минут, ведя с собой Мыкыча, незнакомцы выходили со двора.
XV
Миха шел по каменистому берегу реки и, увидя заводь, с наслаждением втянул ноздрями воздух и на ходу стал раздеваться. Плечи и грудь охватила свежесть, Миха подошел к обрыву над заводью и залюбовался: в прозрачной глубине, отблескивающей, как зеркало, по освещенному солнцем дну медленно проплывали рыбы. Миха, подумав, как сейчас он испугает их, с шумом бросился в воду, и крапчатая форель, блестя фольговыми глазами, испуганно скользнула в черную дыру на дне.
— Ух, — весело сказал Миха форели, — и трусиха же ты!
Он весело плескался, пускал струями воду изо рта.
Хорошо было Михе в тот день. Многие колхозные дела к этому времени он удачно завершил. Стояли солнечные дни, благоприятные для сушки табака; колхозники почти закончили ломку раннего, высаженного на пяти гектарах табака, и уже было ясно, что сорт будет хороший.
Миха с наслаждением выкупался, попытался разглядеть яму, где пряталась форель, а затем вышел на берег; покрытый каплями воды, сел на большой, нагретый солнцем камень и подставил спину солнечным лучам. Он долго отдыхал, раздумывая о делах колхоза, а затем не спеша оделся и направился в поле.
В поле ему стало еще веселей: крупные кукурузные початки, как налитые, свисали со стеблей, и стебли с трудом покачивались под тяжестью этих золотистых слитков. Миха подумал: «Вот наш ответ врагам колхозов».
Он медленно обошел поле, внимательно оглядывая плетень, отмечая, где его надо поправить. Затем он свернул с проселочной дороги, пересекавшей поле, и направился к табачному сараю.
Там Зина тонкими пальцами проворно низала на иглу табак, и Миха, взяв длинную иглу, подсел к ней.
— Ну, что теперь говорит наш Ахмат? — спросил он.
Его игла мерно ходила вверх и вниз, легко прокалывая сочные листья.
— Что еще говорить отцу! — Зина положила нанизанные вместе листья на колени. — Папа желает, чтобы Мыкыч никогда не возвращался, ему стыдно за свой поступок.
— Очень хорошо! А бывают у вас теперь с отцом споры?
— Из-за чего же? Конечно, нет, — она посмотрела на Миху, — о чем ему спорить со мною! Он нарадоваться не может на урожай и говорит: «Если бы я из-за Мыкыча вышел из колхоза, мы теперь погибли бы».
— Да, нелегко было убедить старика, а теперь надо его крепче привлечь к работе.
Зина снова принялась нанизывать листья. Миха смотрел на ее руки. Она умело соединяла листья в ровный ряд и продевала иглу неизменно в самую середину прожилки, а затем бережно и быстро сдвигала листья на шнурах, чтоб между ними сквозил одинаковый промежуток. Ее табачные низки будут хорошо просушиваться. Миха знал, что со шнуров Зины, навешанных на сушильные рамы, никогда не упадет ни одного листка. Миха поднялся и обошел всех работающих в сарае.
Весь долгий солнечный день ходил Миха, вглядываясь в лица колхозников и читая на них удовлетворенность.
На другой день, в полдень, Миха, возвращаясь с табачной плантации, расположенной по другую сторону шоссе, вышел на луг, чтобы взглянуть на свою лошадь, пасущуюся неподалеку, и не успел он дойти до конца полянки, как увидел человека, быстро шедшего к нему прямиком через поле. Человек нес коричневый чемодан. Вначале Миха не обратил особого внимания на прохожего и, ища взглядом свою лошадь, медленно шел вперед. Но человек свернул с дороги и направился к нему.
Миха остановился, пригляделся, перед ним — Темыр! Миха молча бросился к нему, взял из его рук чемодан, поставил на землю, и товарищи, заключив друг друга в объятия, звонко расцеловались.
— Го-го! Сколько времени не виделись! Как живешь, москвич?
Миха не отрывался от друга, разглядывая его. Темыр тоже с нескрываемой радостью оглядел Миху с головы до ног и даже отстранил его от себя, чтобы лучше рассмотреть.
— Да ничего, — шутливо ответил Темыр, — живем, как полагается москвичам. А ты как поживаешь, провинциал, и как у вас здесь живут?
Миха подхватил чемодан и взял Темыра за руку. Они пошли полем к селу.
Темыр оглядывался. Давно он не был в родном селе. Он стал расспрашивать о делах и разных событиях, хотя, правду сказать, ему прежде всего хотелось спросить о Зине. Кто знает, догадывается ли об этом Миха? Темыр спрашивал об односельчанах, о родне и ровесниках, о парнях, о молодых девушках, но ни словом не помянул семью Ахмата.
Так они шли, перекидываясь вопросами и ответами. Вот и табачный сарай, который раньше принадлежал Мыкычу. Темыр услышал шумные голоса и спросил:
— Кто такие?
— Ясно, кто такие, — ответил Миха, — такие же колхозники, как и там, в России. Разве я тебе не писал о том, что и у нас в деревне произошли крупные изменения?!
— Изменения? Это очень хорошо, если и старики тоже меняют облик.
— И старики, и кое-кто из девушек, — сказал Миха, особенным тоном выделив последние слова.
Но Темыр притворился, что не понимает намека, и почему-то спросил об Арсане:
— А что говорит Арсана сейчас?
Миха пожал плечами: разве не ясно, что Темыр хочет спросить о ком-то другом!
— Что — Арсана? И он уже не такой же, как был. В последнее время немного угомонился и, кажется, поумнел.
Они перепрыгнули через канаву и пошли по шоссе.
— На днях все сидели на ачапшара [27] возле постели Мишалды. Заспорили о колхозе. Арсана высказался за колхоз, похвалил его.
— Что же случилось с Арсаной, что он так переменился? — спросил с интересом Темыр. Слишком хорошо он знал крикуна Арсану.
— Обстоятельства переменились, вот и он переменился!.. — ответил Миха. — Тут, по-моему, все просто, бытие определяет сознание: у Арсаны было мало семян и не было чем вспахать землю. Он затянул пахоту, началась засуха, и Арсана ничего уже не мог сделать. Совсем упал духом. Колхозники же успели вспахать всю землю. Один только единоличник Арсана остался в проигрыше. Он не осилил свой участок, а сейчас мучается и все бродит вокруг колхозных полей.
Темыр кивнул.
— Ясно, почему он поумнел!
Он вынул из кармана носовой платок, вытер лоб. Друзья вошли в тень кустарника, и солнечные блики весело затрепетали на их лицах.
Темыр расспросил и узнал уже о многом, но не спросил о Зине, хотя мысль о ней не оставляла его. Ему казалось, что вот-вот он ее встретит...
Так они постояли в полутени кустарника и снова пошли мимо придорожных табачных плантаций, мимо густых кукурузных полей. Миха рассказал о том, как вредил и какие «моления» устраивал Мыкыч.
Темыр пожал плечами.
— Я знал, что он был мне врагом, а теперь вижу, что он всем нам враг. — Темыр остановился и посмотрел на Миху. — В прошлом году там, в России, кулачье также сопротивлялось, тоже обманом старалось завлекать в свои сети бедняков, не останавливаясь ни перед какой подлостью. Но они поплатились за это...
— Ты был послан в русскую деревню? — спросил Миха.
— Да, мы, студенты-коммунисты, были не в числе последних в борьбе с кулачеством. В прошлом году во время каникул мы поехали добровольцами на помощь сельским работникам.
— Это тоже была хорошая школа?
— Очень полезная. Я видел много. И, кажется, хорошо разобрался и ясно понимаю теперь, как эти пиявки умели присасываться к бедному люду. А какая велась агитационная работа! Ты бы послушал, как я тоже выступал, говорил по-русски с ошибками, но мне это прощали, потому что говорил от всего сердца. Русские крестьяне — бедняки и середняки — наши родные братья.
Миха смотрел на Темыра с новым чувством уважения и даже зависти.
— Да, ты тоже изменился. Нам всем надо больше учиться у русских...
— У нас, в абхазской деревне, да и во всей Грузии тоже, будет труднее. Обычаи роднят бедняков с богачами, с кулаками. Кое-кто не прочь щадить эту мнимую «родню»...
Они остановились у каменистого берега и, осторожно ступая по гладко обточенным камням — пестрым, черным, белым, из самых разных горных пород, — перешли через говорливую быструю речку.
— Мне надо о многом поговорить с тобой, — задумчиво сказал Миха. — Идем ко мне и эту ночь переночуешь у меня, если у тебя нет других планов...
Темыр с радостью согласился. Они пошли по дорожке, ведущей к дому Михи. Деревня не имела главной улицы. Домики были разбросаны тут и там среди небольших обработанных участков, зарослей кустарников и остатков первобытного леса, местами вырубленного и превратившегося в мелколесье. Темыр смотрел на все новыми глазами, сравнивая свою деревню с русским селом. У него появилось чувство хозяина своей родной земли.
Это чувство рождено революцией. Темыр раньше осознавал его смутно. Теперь он смотрел и прикидывал, сколько еще можно поднять здесь нетронутых богатейших земель, сколько развести садов, табачных и чайных плантаций. Много может дать эта земля! Продолжая разговаривать, Темыр и Миха вошли в лесок. Аромат южного абхазского леса, взлелеянного жарким солнцем субтропиков, острые запахи трав и деревьев, густые папоротниковые поросли взбудоражили Темыра. Ему показалось, что к благоуханию зелени присоединяется свежее дыхание Зины. Он вспомнил встречи с нею... В сердце что-то оборвалось, но Темыр заглушил свои воспоминания.
XVI
Вечерело.
Темыр отдыхал на веранде у Михи и глядел в сад с высокими инжировыми деревьями и черешнями, со сливами и персиками, на которых зрели ранние плоды. Особенно урожайны были заросли мелкого ореха.
Деревья постепенно покрывались голубоватым сиянием вечера. Темыр не мог скрыть своего восхищения. Чудесна абхазская природа!
Миха тоже полюбовался свисающими гроздьями орехов, сорвал самые сочные персики и дал их гостю.
— А ты что думал, москвич! Наша природа будет теперь жить в лад с крепнущим колхозом.
Миха подошел к маленькому точильному камню, лежащему у веранды, и принялся точить тонкий нож, заменяющий бритву.
— Утром бриться не всегда успеваю, а у меня такой взгляд на дело: секретарь партийной организации, помимо всего прочего, обязан быть чисто побрит.
Миха обратился к краснощекому черноглазому мальчугану:
— А ну, сынок, пойди принеси мне воды.
Мальчик, надув румяные губы, принес, держа обеими руками, тяжелый медный кувшин, наполненный водой. Миха смочил щеки и поставил перед собой зеркальце. Темыр отнял у противящегося Михи ножик и стал брить его. Миха провел рукой по бархатистой щеке.
— Легкая у тебя рука...
Из-за дома послышались веселые голоса приближавшихся людей. Собаки с лаем бросились на них. Миха, вытирая полотенцем лицо и шею, закричал на собак: «Цу-цу!»
— Добро пожаловать, — сказал он Чихия и Арсане.
Темыр спустился вниз и расцеловался с односельчанами.
Он глядел на Арсану, на Чихия и думал, как они тут прожили это время, что нового в их сердцах. Чихия заметил, что Темыр поправился в Москве. В селе уже думали, что он совсем забыл о родном крае. Арсана сказал, что Темыр стал даже лучше, чем тогда, когда жил в родном доме. Да, так поддерживает Советское государство людей. Дай боже! Теперь не то, что раньше, когда человека ни во что не ценили.
Уселись на веранде, и Арсана забросал приезжего вопросами. Когда приехал? Как ехал? Надолго ли? Сколько времени провел в пути? Что за город Москва? Там ведь, небось, нет таких бедных хибарок, как в этой абхазской деревне. Арсане хотелось знать все-все.
А Чихия сказал, что в «школе» Темыра, наверное, немало народу, — это он говорил о Коммунистическом университете трудящихся Востока.
Темыр улыбнулся:
— Школа у нас большая. Представьте себе, что в ней учатся дети не меньше чем пятидесяти народов. Вместе живут и вместе учатся, как товарищи. Такой школы никогда и нигде не было. А у нас в Москве есть.
Арсана от изумления защелкал языком.
— Правду говорят: «Виденное глазами головы стоит». Москва — большой город! Если в одной школе столько разного народу, сколько же людей во всей Москве? Наверно, много больше, чем в Очамчира? — спросил он.
Темыр ответил:
— Если собрать весь народ, от грудных младенцев до седых стариков, со всей Абхазии, то наберется только небольшая часть Москвьь Там живут миллионы людей.
— Вот она какая — столица нашей Родины! — с гордостью сказал Миха.
— И все учатся? — воскликнул Арсана.
— Ну, ты уж скажешь! — одернул наивного Арсану Чихия.
— Арсана правильно спросил, — заметил Темыр. — В Москве, действительно, все работают и все учатся, хотят больше знать и лучше работать. И нам нужно всем работать и учиться!
— А как же, где учиться?! — с волнением спросил Арсана.
— Советская власть всем помогает в этом. — Темыр что-то вспоминал, и никто не прерывал его мыслей. — Там есть большая библиотека. Называется — имени Ленина. Самая большая в СССР. Я в ней люблю заниматься. Там в одном зале за столом несколько сот человек.
— Они часто пируют?
— Нет, Арсана. Там с утра до поздней ночи читают книги, овладевают знаниями.
— Черт возьми, а я даже букв не знаю!.. Какие же книги читают эти люди?
— Там столько хороших книг, что придешь туда и думаешь: вот бы прожить три жизни, чтоб только читать и узнавать все больше!
— Ты уже, наверно, много знаешь?
— Нет, еще очень мало.
Чихия хотел еще что-то спросить, но не решался. Потом поднял на Темыра глаза и решительно спросил:
— Скажи, Темыр, а тебя там, в Москве, достаточно уважают?
— Не беспокойся. В Москву приезжают, как я, много людей самых разных наций, со всего света, и никто не обижен. В Москве все честные трудовые люди уважают друг друга.
Арсана давно переставил табуретку ближе к Темыру и сидел прямо против него, прислонясь спиной к перилам. Он тихо сказал, выслушав рассказ Темыра о Москве:
— Да пошлет тебе бог долгую жизнь, Темыр! Ты — лучший из молодежи нашего села... И, пожалуй, я сейчас жалею, что я не такой же молодой, как ты... — прибавил он вдруг и вздохнул. — Мы все надеемся, что когда ты с успехом закончишь ученье, ты вернешься к нам, правда? Когда мне сказали, что ты приехал, я словно вырос на две головы, так я обрадовался! — он помолчал. — А мы как жили в лесу, так и живем. Но все-таки и для нас наступили новые времена. Конечно, есть еще такие глупцы, которые и теперь думают, хороши ли эти времена или плохи?..
Вероятно, он имел в виду и себя, потому что отвел взор от прямого взгляда Темыра.
Миха зажег лампу и поставил ее на перила веранды. Тихий воздух южного вечера приятно посвежел. Легкий ветерок начал покачивать лепесток желтого пламени. Теперь в этом колеблющемся, робком свете лучше были видны лица. Темыр склонился к самому лицу Арсаны и спросил его:
— Почему же не все люди понимают новые времена?
Арсана задумался.
— Зачем скрывать, ведь и я кое-что не понимал в колхозной жизни! Одно говорит Миха, и совсем непохожее на слова Михи говорили Мыкыч и Дзыкур... будто детей куда-то вышлют... Все эти разговоры, скажу тебе правду, очень нас пугали.
Темыр положил руку на колено Арсаны и легонько сжал его.
— Почему ты не доверяешь Михе? Разве у вас кто-нибудь отнимал детей? Если бы колхоз был плох, то и Миха в него не вошел бы.
Арсана стыдливо взглянул на Миху и глухо произнес:
— Да, конечно, и у Михи есть дети. Все мы слабы, все понемногу ошибаемся.
— Или ты не видишь людей, которые работают не для себя, а для народа? Они рядом с тобой трудятся для всех, они — коммунисты, ученики Ленина! А Мыкыч всем нам враг, он старался только для себя.
— Ну, это мы видим, конечно.
— Сколько у Мыкыча было имущества! Дом, мельница, лавка, табачный сарай. А как и чем он нажил все это? Ты видел когда-нибудь, чтобы он мотыжил? Его ладони никогда не знали мозолей. Вот ты ему «родственник», а когда-нибудь он помог тебе?
Арсана растерянно молчал. Он знал, что Мыкыч бездельник, язык его лжив, но все-таки, может быть, хоть немного правды он сказал о колхозе.
Чихия взглянул на Арсану.
— Посмотрим, кто осенью соберет больше урожая...
Арсана всплеснул руками.
— Какой же я соберу урожай, я совсем пропал в этом году! То немногое, что засеял, только сейчас дает всходы.
Он смолк. Ему было неловко сказать при Темыре, что он и вовсе пропал бы, если б ему не помогли колхозники, которые дали и плуг и рабочий скот дяя вспашки.
Темыр глядел на лампу, на живой бисер мелких ночных мотыльков, льнувших к горячему стеклу, и подумал, что Арсана молчит, размышляя теперь о себе, о Мыкыче, о Михе. Пусть все прояснится в его голове!..
Когда Хикур, жена Михи, предложила мужчинам вымыть руки перед едой, Чихия и Арсана поднялись, собираясь уйти. Хикур и Миха уговаривали их поужинать, но Арсана молчаливо дернул Чихия за рукав и попрощался. Чихия, уходя, обернулся и шепотом сказал:
— Волнуется... Думает...
XVII
Темыр проснулся и вспомнил...
Вчера у Михи он увидел на стене необыкновенную шляпу, сплетенную из пшеничной соломы. Под шляпой на земляном полу стояла корзина, тоже очень большая, но не такая, как для сбора винограда.
Темыр удивленно спросил, чья это шляпа.
— Жены, — ответил Миха, — и корзина жены, она собирает в нее зеленые чайные листья. У нас — с нами не шути! — завелась своя чайная плантация. Как видишь, и корзины новые и шляпы новые. За то время, друг, пока ты отсутствовал, переменились и головы наших абхазок...
Темыр вспомнил свои студенческие вакации в подмосковной деревне; новые впечатления он приписывал своим разъездам и думал тогда, что новое он может увидеть там, в русских деревнях, где на околице растут березы и скромные ели. Ему мнилось, что на родине отцов все осталось неизменным, а тут...
Абхазка в шляпе... На чайной плантации...
Темыру придется работать с новыми людьми. Арсана, Чихия... Он силился думать о них, чтобы не вспоминать о Зине, чья жизнь, вероятно, тоже стала иной. Темыр старался размышлять о другом, но Зина жила в самой сокровенной глубине его души. Он закрывал глаза, но разве этим прогонишь Зину!
Девушка где-то здесь, в этой же деревне, под легкой драночной крышей отцовской пацхи, в проклятом жилище, обрызганном кровью Мыты. Их разделяли два года, но время не поглотило смутных, горестных мыслей Темыра, и он опять, как тогда, когда поднимался на борт парохода, не знал, что думать о Зине.
Миха, услышав, что Темыр шевелится, повернулся в его сторону и протер глаза.
— Кажется, мне пора сказать тебе «доброе утро»?
— Собираешься встать?
— Я всегда встаю рано, но сегодня, так уж и быть, думаю, полежу, чтобы не разбудить тебя. Ведь мы уснули, когда уже светало.
— Напрасно! Я ведь тоже из «ранних пташек».
Темыр спустил ноги с постели. Хозяин распахнул дверь. Там, за дверью, румяное солнце уже высоко стояло над верхушками деревьев и золотило щедрую зелень. Из кухни доносились голоса Хикур и детей.
В большой комнате Хикур уже приготовила завтрак. Хозяин с гостем уселись за стол и, провозглашая тост за тостом, пришли в самое веселое расположение духа. Густое, золотистое вино пришлось Темыру по вкусу. После завтрака они пошли на сход. День был воскресный, и Темыру хотелось побывать в сельсовете — там, где он когда-то немало поработал.
Все были в сборе и забросали Темыра обычными многословными деревенскими расспросами, — на все и не ответишь!
Темыр с большой охотой говорил с людьми, среди которых вырос, работал. Старики и молодые благодарили «своего парня».
— Чтоб тебе бог дал долгую жизнь, дад! Многое ты нам рассказал, вот что значит пожить в Москве.
Колхозники ушли, а Зины и не видать. Пришли другие, но и среди них тоже не видно ее стройной фигуры. Счастье, казалось, навсегда закатилось для Темыра, и он уже рассеянно, вяло слушал новые вопросы, разговоры о Москве, терпеливо отвечал каждому, пока крестьяне сами не утомились и один из стариков не сказал: «Хватит с нас, люди, мы его совсем замучили».
В сельсовете осталось несколько человек, и Темыр подумал, что в счастье его возвращения на родину таится и боль разочарования. Он с тоской глядел на двери.
И когда в дверях показалась Зина, Темыр не сразу понял, что случилось, но он увидел, как ее щеки зажглись ярким румянцем.
Немногие сидевшие вокруг стола поднялись, и Темыр почувствовал, что сам тоже поднимается вместе с ними, и опустил глаза.
Зина смутилась и, переступив порог, остановилась в нерешительности. Она не знала, как ей быть — уйти или остаться. Люди обратили внимание на смятение Зины, на блеск ее глаз, полыхание румянца. Темыр, не менее смущенный, был как в тумане. Он испытывал и счастье и ужас.
«Мыта, мой брат Мыта...»
Подруга Зины Такуна, сидевшая в углу, окликнула ее:
— Зина! Иди сюда. Что ты остановилась на пороге?!
— Я вовсе не остановилась, — смущенно и так тихо, что никто не расслышал, произнесла Зина.
Она прошла в глубь комнаты, чуть отворачиваясь от Темыра, но отворачивалась так, чтобы никто не заметил и, главное, чтобы не оскорбить Темыра.
Зина села рядом с Такуной.
Гостю надо быть вежливым, и Темыр с трудом спросил:
— Как поживаешь, Зина?
— Ничего...
Она невольно посмотрела на того, кто заставил ее горевать. Он долго жил в далекой Москве и не думал о ней. С замешательством, пряча обиду и боль, она не для себя, а для тех, кто к ней прислушивался, спросила:
— А ты... как ты поживаешь?
Зина старалась говорить с безразличием, но, к ужасу своему, услышала, что в ее голосе звучат нотки задетого самолюбия.
Со страхом она подумала о напрасной надежде на то, что гордость даст ей силу не обращать внимания на Темыра. Но они ведь почти с детства горячо любили друг друга, — как же Зине замкнуть свое сердце!
И хотя она еще вчера узнала о приезде Темыра, сейчас ей казалось, что они встретились неожиданно.
То же самое ощущал и Темыр. Он должен быть сдержанным до конца. Он помнит о том, что кровью брата покрыт порог дома старого Ахмата. Он не может любить эту девушку; у них не может быть ничего общего, и это скоро поймет Зина, она поймет, что это — навсегда.
От Михи Темыр уже знал, что райком, вероятно, поручит ему помогать сельсовету на время каникул.
Чуть нагнувшись к Михе, Темыр очень громко спросил:
— Сколько у нас девушек в комсомольской ячейке?
— Пока только Зина! — ответил Миха. — Да вот еще Такуна собирается вступить...
Пусть Темыр оберегал свой покой и ничего не хотел знать о Зине, но сейчас, думая о будущем деревни, он не мог, не смел не удивляться тому, что Зина вступила в комсомол. «В комсомоле дочь такого человека...» И он невольно взглянул на девушку исподлобья, полный досады, осуждающий свою привязанность, снова раб старых взглядов.
Но Темыр увидел, что преданные, полные любви глаза девушки, готовой на любую жертву, устремлены на него, и уж кто знает — Темыр или Зина первой отвела глаза! Что-то в Темыре надорвалось. Дрожащей рукой он выдернул из записной книжки листок, написал карандашом несколько слов и опустил листок в карман. Он сильно досадовал на себя, но как же он мог поступить иначе после того, когда Зина так взглянула на него?
Председатель сельсовета Кан сказал:
— Ну, сейчас начнем собрание. Выходите-ка во двор.
Люди пошли к дверям.
Зина с Такуной были у двери, когда Темыр, проклиная себя и изумляясь противоречию чувства и намерений, незаметно сунул в руку Зине листок и вышел вместе со всеми. Его уши горели, тяжелый, омрачающий звон наполнял голову. Зачем, в самом деле, эта записка?
Зина тоже была изумлена, и как только с подругой вышла из сельсовета, она, оставив Такуну, скрылась за углом, вошла в густой кустарник, развернула записку и в волнении не сразу прочитала строки:
«Зина! Мне надо поговорить с тобой. Если можешь, приходи завтра в полдень в лес, туда, где мы встретились в первый раз. Буду ждать.
Т е м ы р».
Какая странная записка. «В первый раз...» Он обещал тогда дать ей ответ через неделю... Но прошли два страшных года. Все было кончено, а он осмеливается вспомнить о первом разе!
Нет, Зина совсем не ждала письма от Темыра. Она будет строга, холодна. Она глубоко удивлена тем, что Темыр осмелился писать ей. Конечно, на людях нужно обменяться любезным приветствием. Но ведь между ними все кончено, не правда ли?
«Ты все эти месяцы жил в Москве и простился со своей любовью. Зачем же ты мне пишешь?» — думала девушка, вглядываясь в записку, но не перечитывая ее.
Ну, хорошо, пусть два года вместо одной недели, — разве время решает там, где любовь! Сунув записку за вырез блузки, Зина пожала плечами в ответ своим мыслям и побежала домой, так и не вернувшись на собрание.
Дом, родная комната, зеркало, за которое когда-то Темыр положил свою первую записку, усилили в девушке тревогу. Все-таки как странно, что Темыр хочет ее видеть! Зина не находила себе покоя, не знала, что думать о Темыре, о себе и об этих томительных двух годах. Она и минуты не могла усидеть на месте, жар сердца жег лицо, пламенил все ее существо.
Так это правда, что она завтра снова увидит Темыра! Правда, что он будет с нею говорить на том самом месте, где они встретились однажды!
Записка, лежавшая на груди, жгла сердце; девушка вынимала бумажку и клала на колени, чтобы перевести дыхание. И она со страстным нетерпением ждала наступления следующего дня и отсчитывала часы и минуты.
XVIII
Ровно в полдень, приодевшись, Зина пошла к условленному месту. Ее стройная фигура в розовом платье то появлялась, то исчезала, мелькая в высоких густозеленых папоротниках, особенно пышно разросшихся по косогору. Зина то несла в руке, то прятала за вырезом блузки записку, наполнявшую ее сегодня удивительной радостью, таким ликованием, какого она еще никогда не испытывала.
Все-таки Темыр ее позвал!
Ни Москва, ни долгих два года не погасили в нем любви, и девушка чувствовала, что в ответ несет ему свою любовь, такую же доверчивую, как и в первый день. Увидеть Темыра, поговорить с ним, а там будь что будет...
Чем ближе девушка подходила к знакомому месту, тем торопливей шла, а под конец даже бежала, ломая папоротник и спотыкаясь о корни.
Что-то он скажет ей... Плохое ли, хорошее ли?
Темыр, конечно, изменился, стал совсем другим. Он уехал, резко оборвав их отношения, обуреваемый чем-то непонятным, и все это жило с ним в Москве эти долгие месяцы. Как бы там ни было, Зине хотелось ему понравиться, казаться красивой, может быть, даже гордой, и сейчас же все раскроется, если он ее любит.
Вот то самое место... Неужели прошли почти двадцать четыре месяца? Те же кружевные папоротниковые заросли, точно они и не замерзали зимой, и это те же самые деревья, как в день первого свидания.
Темыр стоял среди папоротников. Волосы зачесаны назад, как на фотографии, но он без галстука и не в пиджаке, — талия красиво обрисована черкеской. Он такой же, как тогда, в первый раз!
Увидев Зину, Темыр смущенно усмехнулся, молчаливо пошел к ней навстречу и так же молча взял за тонкое запястье. Глядя в глаза, он произнес обычное абхазское приветствие, затем наломал папоротника, взял девушку за руку, усадил на эти зеленые живые кружева и сел рядом.
Девушка с изумлением и преданностью смотрела на него. Да, Темыр изменился, что ни говори! Он хоть и в черкеске, но совсем не похож на незатейливого, простодушного деревенского парня. Его гладко выбритое лицо мужественно и красиво, и не то что пополнело, а как-то стало выразительнее. Неужели этот видный молодой человек — ее Темыр?
Темыр ощутил ее взгляд, и ему стало не по себе. То, что он решил сказать и из-за чего позвал Зину, причинит ей нестерпимую боль. Это было мучительно.
Он видел, как часто вспыхивает нежный румянец, и представил себе, как загорится лицо Зины, когда он скажет ей то, страшное...
Теперь, когда Темыр глядел на нее, Зина не смела поднять глаз, и она уже чувствовала, что их любовь не вернется, хотя они сидят рядом. Зина еще не знала, что скажет Темыр, но необъяснимо странный холод сменил ее порыв.
Темыр молчал.
Он обдумывал, с чего начать. Пусть бы его сердце остыло навеки, и лучше б ему не приезжать в родное село из Москвы! Темыр поднял с земли сучок, сдул с него тонкую, истлевшую кору и медленно произнес:
— Пусть тебя не удивит то, что я попросил прийти... Может быть, не сюда я должен был тебя позвать, так как скажу что-то особое.
— Говори.
— Ты ведь знаешь, Зина, — медленно и печально произнес он, — мы давно любим друг друга. Но нам не повезло, и мы никогда не сможем быть вместе.
— Да? — вопросительно прошептала она, и ее веки задрожали.
— Зина! Я верю тебе и скажу, что встало между нами... Я мог бы еще отложить наш разговор, но ты, вероятно, слышала, что я обязался помогать сельсовету в нашей деревне.
— Что это может изменить в наших отношениях? — спросила она напряженно.
— Мы будем встречаться часто.
— Понимаю.
— Я не мог не согласиться на эту работу... Я вижу, как изменилась деревня. Меня удивило, что у нас чайная плантация, а ведь это непривычное, новое дело... И я хочу помочь вам... Признаться, мне казалось, что только я там, в Москве, изменился, а на самом деле вы здесь изменились так, что я как будто застыл на месте.
— Но ты что-то хотел сказать о нас... обо мне!
— Да! Я хочу, чтобы ты знала всю правду, — Темыр вздохнул. — Тогда я уехал в Москву и не посмел сказать ее. Ты знаешь, что нас разделяет?
Он замялся. Ему было очень больно.
С первых же слов Зина почувствовала, что это вовсе не свидание, и он ее позвал сюда, чтобы она горше запомнила разлуку. Нет, ей нечего ждать хорошего, и Зина насторожилась.
— Я уехал в Москву не только учиться, а для того, чтобы тебе не пришлось пролить слезы. От моей пули должен был погибнуть твой отец. Но это миновало...
Зина со стоном вскочила. К ней вместе со страхом вернулась любовь к Темыру и ужас за отца. Она не может притворяться враждебной, холодной, недоступной! С отчаянием глядя в его глаза, не осмеливаясь прикоснуться к его рукам, она восклицала:
— Что ты... Темыр! Что случилось? Мой отец!.. Не его убей, а меня...
Темыр не мог сразу ответить Зине. Слезы капля за каплей текли по ее нежным щекам, потерявшим румянец, и он не мог без волнения видеть ее слезы. Неожиданно для себя Темыр вынул платок и стал осторожно вытирать мокрое лицо девушки?
— Не бойся меня, — почти нежно сказал он. — Я тебе все расскажу, только не плачь, прошу... Два года в Москве я обдумывал, как расскажу тебе, и теперь уже все знаю... все, что хотел тебе сказать тогда...
Он взял ее за руку, и она позволила ему вытирать ее лицо, а он тихо говорил, успокаивая, словно ребенка:
— Нет, не стану я убивать человека! Я все-таки видел большую жизнь и разных людей, а ведь в каждом человеке есть сердце, и я думал о многих сердцах и многих обычаях. Послушай, Зина, это хорошо, что мы с тобой не встретились тогда, ровно через неделю...
— Но, боже мой, что случилось, Темыр?
— Нет, Зина, если я встречу кого-нибудь, собирающегося убить, я непременно помешаю ему!.. Эти два года я жил, поверь, недаром. Между старыми обычаями и моим измученным сердцем встало совсем новое...
— Но ты все-таки скажешь, Темыр, что случилось?
Глаза Темыра засверкали.
— Ты помнишь, Зина, что моего брата убили? Мыту убил твой отец!
Зина отшатнулась; не помня себя, она взяла из рук Темыра платок и прикрыла им свои глаза, наполненные слезами.
— Из-за чего же он убил Мыту?!.. — Ее голос прервался. — Пусть у отца будет плохая старость...
Она простонала, безудержно разрыдалась и, с трудом поднявшись, подошла к старому дубу, прислонилась лицом и грудью к коричневой коре, точно к стене родной пацхи.
Ее отец — убийца? Кроткий старик — убийца! Тот, кому она подарила бурку, и кто, как дитя, радовался этой обнове, — он убийца!
Зина вспомнила клятву, когда-то произнесенную Темыром, и страх охватил ее. Она дрожала, как в припадке малярии, кусала губы. Нет, ее никто не утешит, даже Темыр.
— Я не трону вас, — сказал Темыр тихо. — Не плачь, Зина, я никогда не трону вас. Перестань плакать, я не посмею тронуть твоего отца. Умоляю, не плачь и поверь мне...
Долго он шепотом успокаивал ее и произносил те нежные слова, которые не должен был произносить.
Зина, казалось, окаменела, блестящие глаза глядели в одну точку. Она судорожно, как подросток, всхлипывала и передергивала плечами. Пусть Темыр сжимает ее пальцы, пусть его платок напитан ее слезами, — ей трудно сидеть рядом с человеком, который стал врагом ее дома. Но и уйти от Темыра она сейчас не могла.
Время шло. Они сидели молча, оба несчастные, придавленные горем, сиротливые. Тяжелое чувство не покидало Зину, но ей уже казалось, что она привыкает даже к этому страшному несчастью.
Хотя уже все было сказано Темыром, он, колеблясь, вынул из бумажника записку, данную ему когда-то Мыкычем, и молчаливо показал Зине.
— Видишь, — произнес он почти покорно, — вот тут помечен номер ружья, из которого Ахмат застрелил Мыту. Это ружье я видел своими глазами, его тогда принес к самому порогу сельсовета твой отец.
Зина посмотрела на записку.
«№ 179013».
Нет, Зина ничего не знала об этой цифре, но она сразу же припомнила, как однажды отец отнес свое ружье в сельсовет, — это случилось тогда, когда отбирали оружие и когда Темыр был председателем сельсовета.
Зина побелела, она ощутила, что ее губы стынут, и молча, почти злобно оттолкнула руку Темыра. Но Темыр не обиделся.
— Я дал клятву сохранить бумажку, пока не отомщу за брата. Но для тебя, Зина, я нарушу клятву.
Он сложил бумажку вдвое, затем вчетверо, она становилась все меньше и меньше. Темыр разорвал ее, и клочки разбросал по папоротнику. Затем он встряхнул резные листы папоротника, чтобы клочки бумаги скрылись навсегда, — они истлеют на земле.
— Так, как бессильна эта изорванная записка, пусть навсегда забудется вражда между вами и мной. Именем моего брата Мыты умоляю тебя — больше не страдай из-за этого.
Зина с трудом раскрыла глаза. Взглянула на папоротник — там еще белело несколько клочков.
Рассеивалась окутавшая девушку мгла; ей показалось, что солнце бросает щедрые лучи на папоротник, на ее колени. Все в мире расцвело, радуясь тому, что уничтожена страшная улика. Зина услышала грустный, примиренный голос Темыра:
— Между нами не будет вражды, но, как ни мучительно, я скажу: мы не можем стать мужем и женой. Пусть это не огорчает тебя, Зина. Не падай духом, найди в себе силы. — Он держал ее за пальцы и еще примиреннее говорил: — Ты вручишь свою жизнь тому, кто сумеет дать тебе счастье...
Он говорил, опустив голову и держа ее пальцы, думая с отчаянием о том, что должна испытывать Зина.
А она молчала, не отнимая руки, навсегда прощаясь с ним.
Темыр посмотрел на девушку. Ему хотелось услышать хоть слово. Но Зина сидела, поглощенная горем, не в состоянии заговорить. Она думала об убийстве.
Этот человек простил, но ее отец не посмеет вычеркнуть из памяти свое преступление, не сможет оплатить великодушие Темыра. Но сколько холода в этом великодушии!
— Пойдем, — решительно произнес Темыр и, взяв девушку за руку, приподнял ее.
Они шли по лесу, между розоватыми молодыми грабами и зелеными чинарами. Низко над землей летали птицы — горные стрижи. Темыр и Зина, оба полумертвые, обессиленные, шли рядом; они с трудом передвигались и не скоро добрались до ручья. Они могли бы быть счастливы, а между тем...
— Прощай! — сказал он, заключив обе ее руки в свои и посмотрев в глаза.
Слезы катились по щекам девушки, но Темыр молчал, и девушка так же молча отняла руки. Темыр прошептал:
— Пусть тем, кто заставил нас столько перестрадать, достанется в удел и твое и мое горе.
Он отошел в сторону, не глядя, ожидая, пока она уйдет.
Когда ее розовое платье исчезло за поворотом лесной тропинки, Темыр, сжав голову руками, пошел в другую сторону.
...С того дня Зина мучительно тосковала по Темыру, и благодарная ему, и оскорбленная им. Она беспрерывно думала о том, как он жил эти два года в Москве, и о том, что сама пережила, когда Темыр открыл правду. Кровный враг отпустил ее, не сказав обидного слова, полный жалости, но, должно быть, только одной жалости к ней.
Иногда, пораженная кротостью Темыра, Зина как будто надеялась, что когда-нибудь они станут мужем и женою. Конечно, она понимала, что это бессмысленная надежда. Он не посмеет перешагнуть через кровь брата, и ничто в мире не позволит им соединиться.
«Пускай постарею, стану дряхлой, буду умирать, но пока не услышу, что еще скажет мне Темыр, — буду его ждать».
Темыр после разрыва с Зиной вернулся в свою пацху, свою бедную хижину, как в могилу. Он мучительно сознавал, что его слова сильней его самого. ‘Его путь отныне одинок, он навсегда разошелся с любимой девушкой!
Сиротлива и сумрачна его пацха, он вошел в ее нежилой холод и никак не мог согреться. Дорогие образы родителей встали перед ним, и пусть не проклинает его Пахуала: сын не взял крови, но сын погасил свою кровь. Все такое же синее небо глядит сквозь щель в потолке, так же вздыхает ветер за тонкими плетеными стенами пацхи. Схватившись за голову, Темыр опустился на старую пыльную тахту, которую он так редко вспоминал в Москве. Все то же, что два года назад, было в пацхе и тут же, в деревне, — Зина.
И все-таки, как и Зина, несмотря на происшедшее, Темыр не мог поверить в то, что они “больше не увидятся. Он произнес неумолимые слова, они — чужие, но разве между ними не останется ничего связывающего?
Больше всего Темыра трогало и мучило то, что, хотя он ни разу не написал ей из Москвы, она была доверчива и беспомощна, не умела скрыть любви к нему. А он ей сказал слова, мучительные и для него самого!
Он уже не мог припомнить в точности эти слова, но, кажется, сказал так: «Найди в себе силы и вручи жизнь тому, кто сумеет дать тебе счастье». Почему Зина не ответила ему? Оттого ли, что она согласилась, или потому, что не поверила этим словам?
Темыр поднялся с тахты, прикрыл за собою осторожно, словно чужую, узкую дверь пацхи и вышел со двора.
Скоро он вернется в Москву. Вероятно, им можно будет как-то разойтись в селе, не встречаться. А там... даль довершит то, что надо, — она принесет забвение и охлаждение двум сердцам.
XIX
Солнце близилось к закату. Красным сверкающим диском оно врезалось в золотые облака и полурастворилось в вечерней заре. Земля, лес, кровли домишек — все стало лилово-синим. Вскоре совсем стемнело. Колхозники в сумерках возвращались с полей со звонкими песнями. Слышен был плеск воды, кто-то мылся в роднике.
Дзыкур отворил плетеную калитку, жена его Мактина придержала витую хворостину — запор. Оба пошли к табачному полю, сегодня они дежурили в табачном сарае, им нужно было вкатить под крышу сушильные рамы. Они вкатили рамы, затем внесли в сарай легкие шнуры табака, снятые еще утром с рам, привязали концы шнуров к деревянным крюкам и рядами развесили табак.
Дзыкур стряхнул табачные крошки с архалука и сказал:
— Позор, если мы отстанем, не соберем табака в два раза больше прошлогоднего.
— Обязательство дали — надо собрать.
— Чтоб я провалился в ад, если я когда-нибудь работал так, как сейчас.
Дзыкур вытянул из связки несколько листьев посуше и смял их в ладони, протягивая жене.
— Ты вдохни, Мактина, как душисты листья!
Он скрутил толстую сигару и, затянувшись, выпустил клубы дыма.
— Тьфу, чтоб не сглазить, — ароматней цветка!
— Так и надо. За хороший табак и деньги получим хорошие.
— Ладно, нечего считать, — Дзыкур нахмурился. — Деньги еще не в кармане... Иди домой, а я сам загоню коров.
Из-за гор взошла бронзовая круглая луна.
Дзыкур вошел в загон для скота, и вскоре послышался его голос:
— Яй, яй!
Он гнал коров перед собою, вдыхая свежесть вечера, довольный предстоящими доходами. Открыв поскрипывающую калитку, он увидел человека с лицом, закутанным башлыком, и крикнул ему:
— Кто?
Человек не ответил, молча приближаясь, и Дзыкур громче окликнул и быстрее пошел навстречу:
— Спрашиваю — кто ты?
— Да что ты, Дзыкур, не узнаешь меня? Это я, Мыкыч! — ответил человек, сдвигая с подбородка башлык.
Дзыкур удивленно глядел на Мыкыча.
— Вот это хорошо, что тебя выпустили, слава богу.
Он взял Мыкыча за руку и поцеловал в щеку. Но все-таки то, что Мыкыч летом кутал лицо башлыком, да и самое его появление насторожило Дзыкура... Он пригласил гостя в дом.
— Можно и в дом, — неопределенно сказал Мыкыч, — только я хотел сначала поговорить с тобой об одном деле.
В дом они не вошли, и Мыкыч, стараясь говорить спокойнее, открыл Дзыкуру, что он бежал из Тбилиси и теперь должен скрываться. Он намекнул Дзыкуру на то, что они люди «одной души», одной семьи, наконец — они «братья».
— Я пришел к тебе, и знаешь зачем? Мы сообща прикончим бешеных собак, они еще водятся в нашем селе. Надо же, наконец, выпустить дурную кровь.
Дзыкур не сразу сообразил, о ком говорит Мыкыч.
— Кого ты называешь бешеными собаками?
— Разве ты не знаешь? Темыр пожаловал из Москвы. Его приезд — моя удача. — Мыкыч тихо рассмеялся. — Вот его, да еще Миху надо снять со счета. Это они собрали крестьян в колхоз. Это они воспользовались моим арестом и погубили несчастную деревню, — Мыкыч говорил отрывисто. — Уничтожили всех, кто чем-нибудь выделялся, кто пользовался влиянием в народе. Да и тебе они только помазали по губам... Потом ведь исключили из партии.
Дзыкур подавленно спросил:
— Убить обоих?.. Конечно, они меня исключили, но как же — убить!..
— Как убивают? Обыкновенно! И, конечно, обоих, не одного же. Прежде всего надо покончить с Темыром! Этот ничтожный человек, «студент», — это он погубил нас. Ведь не станем же мы ждать, когда он закончит ученье и опять пожалует сюда?
— Да... ученье... А убить человека нелегко, Мыкыч. Тяжелое это дело!
Мыкыч ухмыльнулся.
— Тебе-то чего бояться? Это мне надо бояться! Разнюхают, что я здесь, и решат: это дело рук Мыкыча. А я все-таки не боюсь... Думаешь, если они меня выслали, так эта власть будет вечно существовать? Нет, брат, не они, мы оседлаем время!
— Для тебя, Мыкыч, я не пожалею головы, но как же так? — Дзыкур вздохнул и неожиданно произнес: — Ладно. Уничтожим обоих. Я их ненавижу не меньше, чем ты. — Он даже улыбнулся через силу и прибавил дрожащим голосом: — Я сам когда-то хотел смерти этих людей...
Мыкыч вынул два револьвера: один — потертый, другой — новенький и доверчиво протянул Дзыкуру:
— Выбирай любой.
Дзыкур взял новый, блестящий. Они условились встретиться на следующий вечер и разошлись. Дзыкур плотно закрыл калитку, вернулся домой, угрюмый, присел к огню. Мактина тревожно спросила, что с ним. Дзыкур сказал, что ему нездоровится, и попросил постелить постель; он разделся, вздыхая, улегся, но заснуть долго не мог, потихоньку вынимал из-под подушки револьвер и снова прятал. Его исключили из партии, и, конечно, ему не верят, и он не знал, что будет дальше. Но сколько Дзыкур ни думал, он не мог постичь, почему непременно он должен убить Миху или Темыра. Колхозники теперь жили лучше, и Дзыкур уже не раз спрашивал себя: хорошо ли когда-то он поступил, поддавшись влиянию Мыкыча?
Он встал, спрятал под рубаху револьвер, вынес его и зарыл в солому. И снова Дзыкур лежал в постели и метался. Не раз его окликала Макгина, и он отвечал, что захворал.
Ночь побледнела. Запели петухи. Дзыкур заснул на миг и, открыв глаза, снова вспомнил предстоящее дело. Ведь сказано, что рукою глупца ловят змею.
День был мучителен и долог. Несколько раз Дзыкур выходил и приподнимал солому на дворе, — там холодно блестел револьвер... Уже совсем стемнело, когда пришел Мыкыч. И только гость переступил через порог, как Дзыкур хрипло закашлялся, заметался в постели, мокрый, с вздувшимися на висках жилами. Мыкыч обеспокоенно спросил:
— Захворал?
— Я и не надеялась, что он до этого вечера доживет, чтобы пали твои болезни на меня, — ответила Мактина. — Уж так он меня напугал...
— Ты нас убил! — не сдерживаясь, злобно упрекнул Мыкыч.
Дзыкур, охая, повернулся к Мыкычу горящим лицом:
— А ты попробуй один! Может быть, сам как-нибудь справишься. А если не выйдет, так, надеюсь, не помру, помогу. Ой, боже мой, боже мой! — и он, застонав, заметался в постели.
— Револьвер! — со злостью прошептал Мыкыч.
Чуть не падая, Дзыкур доплелся до вороха соломы во дворе и, не дотрагиваясь до блестящего револьвера, показал на него глазами. Мыкыч и слова не сказал, не доверяя болезни этого человека, и молча вышел со двора. Он сам расправится с врагами.
— Будь что будет, — бормотал он, медленно пробираясь в темноте к дому Михи. — Удастся — выстрелю, не удастся — вернусь.
А Дзыкур тем временем соскочил с постели и поспешно натянул на себя одежду.
«Скорей... Скорей...»
...Мыкыч крался вдоль плетня; он притаился на миг за толстым стволом старой ольхи, а затем, вымерив глазами расстояние, быстро подбежал к хлеву Михи. Раскидистый орешник прикрывал хлев, по другую сторону блестели окна дома. Мыкыч спрятался за углом хлева, наблюдая за дверью и окнами, и, когда двери заскрипели, он выполз из-за угла, но внезапно на него набросились люди и немедленно обезоружили. Он молча рвался, — его держали крепкие руки.
Когда Мыкыча привели в освещенный дом, он почувствовал, что чья-то рука крепко сжимает его плечо. Обернувшись, он увидел Дзыкура. Рядом стояли Миха и Темыр.
— Быстро же ты выздоровел, Дзыкур! — сказал Мыкыч со злобой. — И хорошо спасаешь меня! Пусть бог так спасет тебя и твою семью.
Дзыкур рассмеялся тоже сo злобой.
— А ты думаешь, меня исключили из партии, так и из числа людей выбросили! Пусть кровью хлынет мой труд, проглоченный тобою, бессовестный. Сколько я страдал из-за тебя.
Дзыкур плюнул Мыкычу в лицо.
XX
Работой в колхозе Зина хотела заглушить боль по Темыру.
Он уехал, не простившись. Он снова в Москве. Пусть все останется в прошлом!
Девушка жалела только о том, что не оставила себе носового платка Темыра... Какие смешные воспоминания, какие ничтожные заботы! Ну что ей в этом платке?
Темыр, конечно, от нее навсегда ушел, уехал в Москву, и все, что было между ними, станет навеки прошлым. Надо приучаться жить одной и выполнить то, что обещала себе, — так и состариться в девушках.
Теперь Зине остается только работать и работать.
Когда мужчины на поле присаживались покурить, Зина уговаривала их подняться: ведь работать можно и с папиросой в зубах. Отец, которому она не могла сказать и слова, часто спорил с нею.
— Глупая, — укорял он ее, — что с тобой приключилось в последнее время? Тебя истомит работа. Кто же так трудится.
Если бы она сказала этому безвольному старику, почему она не щадит сил своих, он пришел бы в ужас. Зина не глядела на отца и уверяла, что совсем не устает.
За хорошую работу колхозное руководство премировало ее. Ее портрет был напечатан в абхазской газете, и теперь Зину знали не только в родном колхозе — широко по всей Абхазии разнеслась слава труженицы колхозных полей, лучшей из ударниц.
Стояла страдная пора — низка табака. Однажды, когда едва забрезжила заря и отец с матерью еще спали, Зина тихо соскочила с постели, легко ступая, вприпрыжку, как дрозд, пробежала по комнате, бесшумно взяла одежду, в кухне наспех позавтракала и тихо вышла.
Она вихрем пронеслась рощей, на берегу реки присела на камень и сняла чувяки. В это время следом выбежала мать, окликая Зину, и в гневе набросилась на дочь.
Этого Зина боялась больше всего. Селма негодовала, бранилась. Дочь осмелилась пойти на работу во вторник! Вы подумайте! Ведь вторник в семье почитался священным днем, а эта девчонка осмелилась осквернить обычай дедов!
Селма причитала:
— Ох, горе! Сейчас же вернись. Слышишь? Немедленно!
— Хорошо. Зачем ты так кричишь, мама? Я вернусь. — Зина держала в руках свои чувяки. — Только что же будет с табаком?
— Что бы ни было! Или ты забыла? Сегодня вторник, ты должна вернуться.
Селма схватила дочь за плечо. Зина слегка сопротивлялась, но, увидев, что мать не отпустит, прибегла к хитрости:
— Мама, но что делать, если я дала обет?
— Обет? Ах ты, глупая! Пусть сегодняшний запретный день, наш «амшхиарс», не заступится за тебя и никогда не выручит.
Ворча, старуха побрела домой.
Когда Зина прибежала к табачному сараю, уже все были в сборе и нанизывали на длинные иглы табачные листья. Зина присоединилась к работающим.
К вечеру Зина нанизала много табака и, аккуратно уложив его в сарае, пошла домой. Она с беспокойством ждала, что скажет мать. Дома Зина застала беспорядок: вещи разбросаны, отец в постели. Увидев дочь, Селма разразилась бранью:
— Вот как ты бережешь отца! Наш бедный «вторник»!.. Посмотрим, как ты теперь выкупишь отца у господа бога...
Зина побледнела. Казалось, режь ее — кровь не пойдет. Она подсела к Ахмату и то поглаживала его горячие руки, то глядела ему в глаза, наполнившиеся мутью. Как страшно было подумать, что этот человек мог убить Мыту...
Она клала на лоб отца холодные компрессы, отирала стекающие с его щек капли воды и вспоминала, как Темыр своим носовым платком отирал ее слезы.
Зина не была суеверной, но ей тяжело было слушать обвинения матери, что Ахмат заболел по вине дочери, что она принесла его в жертву, нарушив запретный день.
К ночи Ахмату стало хуже, его трясло. Всю ночь девушка провела у постели отца, а утром Селма, торопливо одеваясь, приказала дочери скорей собираться — они пойдут к знахарке Мсыгуде. Напрасно Зина умоляла мать разрешить ей привести врача, — старуха накричала:
— Врача тебе нужно? Или ты не видишь, что твой отец в огне, — чему тут поможет врач!.. Что ж, пусть «вторники» будут сами по себе. А ты иди в колхоз, работай там по вторникам, негодница, нарушай наши запретные дни! Бог святого дня — Амзыз — покарал за это твоего же отца.
Зина жалобно глядела на неподвижно лежавшего Ахмата, слезы выступили на ее глазах. Селма открыла дверь и властно крикнула:
— Выходи!
Девушка, утомленная бессонной ночью, пошла за матерью. Возражать Селме было бесполезно. Селма непоколебимо верила знахаркам, предсказателям и никогда не позволяла говорить об их невежестве. В запретный день Селма обычно не разрешала работать, что-либо выносить из пацхи, давать соседу: все это «цасим» — тяжелое нарушение правил. Селма знала великое множество пусть и мелких, но очень важных правил.
Они вошли во двор к Мсыгуде. Горбунья лежала на тахте. К тахте была прислонена палка с железным наконечником. Путаясь в черном платье, опираясь на палку, знахарка медленно приподнялась. Выпуклые глаза выпирали из покрасневших, глянцевых век; она пыталась улыбнуться гостям.
— Из-за тебя, милая, поднимаюсь, только из-за тебя, Селма. Иначе разве я бы встала? Заходи, моя милая, заходи!
Она расцеловалась с Селмой и прикоснулась холодными, липкими губами к щеке Зины.
Селма умела быть вежливой:
— Да сохранит тебя господь бог, Мсыгуда! Да пошлет тебе светлую радость! Как живешь ты, как твои сыновья?
— А вы как поживаете, нан Селма, и старые, и молодые — все в вашей семье? Здоров ли Ахмат? А это — твоя? — спросила Мсыгуда, впиваясь бегающими, как ртуть, глазами в Зину.
— Она-то моя — да обойду я вокруг тебя! — только ее несчастный отец со вчерашнего дня захворал, очень напугал нас!
— Чем он болеет?
— Да что с ним! Горит, как в огне, день и ночь горит, похоже, поразил его гнев Амзыза.
— Хай, нан! Если так, то это, конечно, гнев божества.
Опираясь на палку, Мсыгуда с кряхтением, похожим на стон, поднялась, достала из сундука маленький узелок с фасолью, развязала крючковатыми пальцами, разложила глянцевитые фасолины и, собрав кучу, высыпала на табурет, разровняла и снова собрала в кучу.
— Заговори их, нан, — произнесла она и подала несколько фасолин Селме.
Селма поднесла их к губам, пошептала и вернула Мсыгуде.
Знахарка опять бросила фасолины на табурет, и они рассыпались в разные стороны.
— Вы в колхозе, нан Селма? — спросила Мсыгуда, внимательно рассматривая фасолины.
— В колхозе, да обойду я вокруг тебя.
Селма исподлобья пронизывающе взглянула на дочь.
Мсыгуда спросила:
— А есть у вас свой запретный день, нан Селма?
— Как же. Не работаем... не должны работать по вторникам.
И Селма еще суровее взглянула на Зину.
Мсыгуда покачала головой, не сводя глаз с фасолин.
— Да ведь вы, оказывается, нарушили свой день, да поразит меня смерть! Так и есть... — она пошевелила фасолины. — Гнев святого дня уложил Ахмата.
Зина проклинала про себя Мсыгуду и подумала: «Убила меня».
— Колхоз и запретный день не в ладу, нан Селма, они не могут мириться друг с другом. Как же так случилось в вашей семье? — Мсыгуда, не поднимая головы, медленно разбирала фасолины. — Как вы очутились в колхозе? Ведь вы люди неглупые...
Селма была мрачна и смущена.
— Да уж так случилось, милая, что делать.
Зина сердито взглянула на знахарку. Она хотела бы с ней заговорить, но из страха перед матерью смолчала.
— Что же теперь делать, Мсыгуда, — спросила Селма, — как же нам быть?
— Надо отслужить моление за больного, зарезать холощеного козла, иначе никак нельзя. Козла зарежьте, козла!
На Мсыгуду напал глухой кашель, казалось, он разорвет ее старую глотку. Когда долгий приступ прошел, она пробормотала, пристально глядя своими ртутными глазами на Зину:
— А у тебя, оказывается, дочка — золото, моя Селма, счастливая ты!
— Какое там золото? Упрямица! Ведь наш «вторник», наш святой день, она и нарушила. Только и знает, что бегает в колхоз, и никак не можем ее оторвать, как от меда. Да вот еще не послушала нас и вступила в «комсамал»...
Мсыгуда сжала морщинистые бледные губы и вкрадчиво заговорила, обращаясь к Зине:
— Ты ведь умная, почему ж ты так поступаешь, нан? Разве можно нарушать запретный день? Ах, этот колхоз! Там ведь работают и по вторникам, не правда ли? — Она покачала головой. — Вот и мои сыновья хотели вступить в колхоз. Только я: уж им не позволила.
— Нам пора идти, — мрачно сказала Зина, вставая, — кто знает, что с папой.
Селма положила трехрублевку на тахту у изголовья.
— Это только задаток, это сущий пустяк, а не то, что тебе полагается.
Взгляд Мсыгуды, скользнувший по деньгам, на миг с жадностью замер, темный блеск ее глаз стал ярче, и она вкрадчиво сказала:
— Бог спасет твоего Ахмата, не бойся за него... Только холощеный козел... не забудь об этом, сделай все точно, как говорю!
Мсыгуда и Селма обнялись на прощание, и Селма, стоя на пороге, обернулась к знахарке:
— Он в твоих руках и в руках «того», золотые ступни которого я обошла, а мы что знаем? Да падут на меня твои горести!
Пятясь с порога и делая в воздухе кругообразное движение рукой в знак почтительности, Селма вышла на дорогу и, повернувшись, тут же с яростью стала бранить дочь.
Зина решительно и сердито настаивала на том, чтобы немедленно позвать врача. Мать упиралась. Так они и вернулись домой.
Ахмат лежал в жару, температура поднялась, он что-то беззвучно шептал. Селма немедленно пригласила молельщика и поступила так, как приказала знахарка, принесла обет: повесила на стропила медный котел в знак того, что как только выздоровеет Ахмат, в жертву будет принесен холощеный козел.
Жар у больного не спадал.
На десятый день, когда Ахмату стало совсем худо, Селма, испугавшись, позвала врача. Врач сказал, что старик болен тифом. Он прописал лекарства, но Селма и не подумала о лекарствах и продолжала свое — она с великой надеждой обошла всех местных знахарок, предсказывающих на лопатках, и проделала все, что требовали эти мастера деревенской магии. Их гадания и заклинания не помогли Ахмату, и он проболел целый месяц. Возле его постели собирались на «ачапшара» родня и соседи.
Зина тайком от матери заказала лекарство и тогда, когда Селмы не было дома, поила отца микстурой. Ахмат не скоро поднялся на ноги, но он поборол смерть.
Тихо плача от радости, дочь вывела его на порог. Бедный старик! Зина будет жить только для него и для матери, ведь больше у нее никого нет на свете.
XXI
Темыр жил в Москве.
Иные люди, и жизнь иная... Столица советской страны была по душе Темыру.
И люди московские хороши. И появились у Темыра новые друзья.
Хорошо, что Зина осталась где-то за далекими степями, за синим теплым морем, в домике, увитом виноградом и окруженном ореховыми и инжировыми деревьями, тенистой шелковицей и дикими грушами, где за огородами уже начинается вековой лес с папоротниковой порослью... Ее жизнь сложится по-своему, и больше Темыру незачем думать об этом.
...Легкими пушистыми снежинками заполнен морозный воздух. Снежинки садились на барашковую шапку Темыра, пробирались за воротник, падали на лицо, румяное от мороза, серебрили густые черные брови. Снежинки кружились возле матовых электрических фонарей и напоминали Темыру бабочек вокруг керосиновой лампы на потемневшем столе его бедной хижины. Только снежных бабочек было в тысячу раз больше, чем мотыльков южной ночью.
Темыр шел по Тверской. Он спускался от Советской площади к Охотному ряду. От Красной площади до Ленинградского шоссе строилась, расширялась, благоустраивалась эта центральная столичная магистраль. По ней мчались, перегоняя друг друга, разноцветные автобусы и легковые автомашины. Появляясь из переулков, они скрипели тормозами. Звонили, прося дать дорогу, трамвайные вагоны, соединенные по два и по три вместе, полные людей.
Городская жизнь и вечером била ключом. Густая толпа на перекрестках пережидала потоки машин. Электрический свет, как золотое зарево, сиял над всей Москвой, озарял лица прохожих, витрины магазинов, карнизы высоких домов, заснеженные балконы, широкие тротуары, на которые продолжал валить снег. Темыр быстро шел, обходя заторы толпы, она то суживалась у теснин дома, то растекалась на площадях, как горная река в долине. Он спешил в библиотеку имени Ленина. Там вчера вечером он заказал себе книгу по истории Европы XIX века.
Задержавшись на закругленном углу тротуара, Темыр залюбовался изумрудными искрами, которые самоцветами посыпались с трамвайных проводов. Он вдруг вспомнил тропические ливни над родным селом с непрерывно вспыхивающими молниями, вспомнил кузнеца Андрея, к которому мальчишкой часто ходил ради удовольствия качать кузнечные меха. Чем быстрее их двигать, тем больше летит горячих розовых искр...
Сойдя, задумавшись, на площадь, Темыр поскользнулся на ледяной корке, запушенной снегом. Чтобы не упасть, он ухватился за чей-то локоть и на мгновение почувствовал теплоту и упругость девичьей руки. Девушка отодвинулась и взглянула на него темными и горячими зиниными глазами. Это сходство поразило Темыра.
С легкой насмешкой в голосе и, как показалось Темыру, какой-то надменностью, девушка в зеленом берете спросила:
— Вы что же, ходить не умеете?
Он извинился, не спуская с нее глаз. Незнакомка показалась ему еще более похожей на Зину. И, вместо того, чтобы идти вправо, он повернул влево. Все это произошло в несколько секунд. Он последовал за нею. Девушка зашла в кондитерский магазин, Темыр наблюдал, как она покупала фруктовую карамель в бумажках с крупной красной вишней.
Уходя из кондитерской, девушка остановилась у стенного зеркала и с недовольным видом посмотрела на свои мокрые от снега каштановые волосы. Легким движением она подобрала их под зеленый берет. Перышко на берете тоже намокло. Она провела по нему своей маленькой рукой.
Темыр издали следил за незнакомкой. Как глупо! Эта молодая красивая москвичка может подумать дурное.
Но как же она похожа на Зину!.. Та же стройная фигура... Те же бархатно-черные, удивительно знакомые глаза. Они с тем же продолговатым разрезом под высокими дугами бровей, как у Зины.
Темыр не мог отвести взгляда от незнакомки. Он подошел поближе, и девушка заметила это. Лицо ее, с набежавшей вдруг улыбкой, показалось Темыру удивительно милым.
— Что вы так смотрите на меня? — спросила она довольно строго, но голос ее показался Темыру нежным и певучим.
— Я так... ничего... Просто так! — смутился Темыр. Потом, набравшись храбрости, чувствуя, как багровеет его лицо, произнес, запинаясь: — Я хотел познакомиться с вами, если вам... это будет не очень... трудно.
Она опять невольно улыбнулась, видя, как он, по-детски покраснев, смутился.
— Мне это будет, действительно, трудно, так как я не привыкла к случайным знакомствам, — ответила девушка.
Лицо Темыра выразило такое искреннее огорчение, что незнакомка удивленно подняла глаза и внимательно взглянула на красивого и скромного юношу, так желавшего с ней познакомиться.
— Почему вы так смотрите, будто меня знаете? Может быть, вы принимаете меня за кого-нибудь? — спросила она.
Темыра поразили эти слова. Как сумела она заглянуть в его душу? Он не знал, как лучше ответить ей. Она ждала, что он скажет.
— Я вижу вас впервые, — чистосердечно ответил Темыр, — но хочу познакомиться с вами, если это вам... не очень трудно! — повторил он умоляюще свою просьбу и оглянулся вокруг, будто искал помощи у этих москвичей, зашедших в кондитерскую, и призывал их в свидетели чистоты своих намерений. Так сделал бы он в своей деревне.
— Но ведь я вас не знаю... А впрочем... Кто же вы будете?
Она кончила фразу гораздо миролюбивее, чем собиралась.
— Я — студент. Учусь в Коммунистическом университете трудящихся Востока.
Во взгляде девушки Темыр почувствовал уважение.
— Да-а? — певуче переспросила она. — Откуда приехали? Давно?
Темыр с живостью ответил:
— Учусь уже третий год. На предпоследнем курсе. В Москву я приехал издалека — из Абхазии.
— Из Сухуми? — воскликнула девушка.
Темыр подумал, что она бывала там.
— Да, почти из Сухуми. Наша деревня близко. А вы бывали в Абхазии?
Девушка на минуту призадумалась, брови ее нахмурились. Она хотела ответить, но в это время к зеркалу подошла какая-то особа и стала прихорашиваться. Она обратила внимание на знакомящихся молодых людей и без стеснения рассматривала их, щурила глаза на Темыра. Девушка смущенно отодвинулась от Темыра, и ему пришла мысль, что она сейчас уйдет и они никогда не увидятся больше. Но она вышла вместе с ним, они зашагали рядом в сторону Советской площади.
— Меня зовут Надя. Надя Смирнова. Я тоже учусь. Учусь и работаю. Немножко трудно. Но так надо.
— А меня зовут Темыр Тванба.
— Темыр Тванба... — громко повторила она. — Красиво звучит. Мне нравится ваше имя. Темыр — это то же самое, что Тимур?
— Да, у нас по-абхазски другое произношение имен: Иван — Иуана, Арсений — Арсана, Михаил — Миха.
Он хотел привести и обратный этому пример превращения местного имени в чисто русское. Шазина — просто Зина... Но решил при новой знакомой не произносить это имя.
Они шли, разговаривая, а снег валил все сильнее. Вся улица покрылась белым пушистым ковром. Надя чуть не поскользнулась и схватила Темыра за рукав. Она рассмеялась.
— Уж лучше возьмите меня под руку.
— Как говорится — долг платежом красен! Кто-то недавно сказал, что я, кажется, ходить не умею? — расхохотался Темыр.
Когда Надя смеялась, она еще больше нравилась Темыру.
Ее глаза искрились смехом, а голос был нежным и добрым. Темыр почувствовал, что Надя такая же простая, бесхитростная и прямодушная, как Зина. И, кажется, не очень счастливая... — почему-то подумалось ему.
Сейчас ей стало весело. Наде было приятно, что она, как видно, очень понравилась этому приезжему робкому юноше, хотя в нем чувствовался сильный характер. Он так неожиданно, с такой горячей непосредственностью, и в тоже время с такой скромностью и благородством уговорил ее познакомиться. Она не успела даже подумать, к чему это может привести и почему так все случилось.
Темыр вел ее под руку. Ему хотелось, чтобы эта дорога никогда не кончалась.
Прохожих становилось меньше. Машины ехали медленнее. Снежная метель с подмосковных полей ворвалась в город и начала бушевать на улицах. Но Темыр и Надя не обращали на метелицу никакого внимания.
Они дошли до памятника Пушкину. Наискосок горел яркими огнями многоэтажный дом «Известий». На площади было большое движение. Дворники в валенках и в белых фартуках поверх тулупов уже вышли сгребать большими деревянными лопатами снег. Как бы ни бесновалась метель, к утру улицы и тротуары будут очищены. Темыра всегда радовала и удивляла в столице непреклонная воля ее жителей, не боявшихся никаких трудностей ни в больших, ни в малых делах.
И вот рядом с ним шла москвичка, слегка прижимаясь к его плечу от порывов ветра.
— Мне надо к Никитским воротам. Поедем на трамвае или дойдем пешком? — советуясь с Темыром, спросила Надя у него, как у старого знакомого.
— Как вам лучше, — ответил Темыр, — я дошел бы с вами пешком от Сухуми до Алашары, нашей деревни, и не заметил бы дороги.
— Это близко?
— Как вам сказать?.. Тридцать шесть километров.
Надя рассмеялась снова, поглядев на Темыра таким сияющим взглядом, что Темыр переменил свое мнение: «Она — счастливая».
Они пошли по Тверскому бульвару. Надя разбежалась и покатилась по ледяной дорожке. На ресницах у Нади снежинки лежали белыми звездочками. «Она совсем еще девочка».
Темыр, взяв ее снова под руку, спросил:
— Вы живете с родителями?
— У меня только мама. Она учительница. У меня есть еще два младших брата и сестренка.
— А отец ваш... умер?.. — участливо спросил Темыр.
— Нет. Он не живет с нами...
— Почему?
— Вы мне расскажете когда-нибудь все о себе, — сказала Надя, — а я вам тоже расскажу про свою жизнь.
«Значит, мы снова встретимся». Темыр легонько пожал ее локоть. Они встретятся! И как же может быть иначе? Они уже стали знакомыми, и эта московская девушка в зеленом берете вошла незвано в его сердце.
Надя жила в одном из переулков у Никитских ворот. От памятника Тимирязеву они пошли направо, потом опять направо и остановились у старого каменного дома с подвалом и бельэтажем. В таких домах жили когда-то помещики. В Москве Темыру трудно было представить, что Мурзакан еще имел свой дом...
— Здесь я живу, — сказала Надя, — до свидания. Спасибо, что проводили.
Они условились о новой встрече: завтра в шесть часов вечера, на Театральной площади, у гостиницы «Метрополь». Так назначила Надя.
Темыр пошел в библиотеку имени Ленина. Он читал о том, как парижские рабочие организовали Коммуну — первый орган рабочей власти. Ему надо было перенестись всеми мыслями в Париж. Но перед его глазами все мелькал снег и шла рядом девушка, похожая на Зину, а рядом возникал образ Зины.
В его далекой деревне сейчас идут нескончаемые дожди — абхазская зима. Земля превратилась в болото. Зина в мокрых тапочках, накрывшись куском брезента, гонит коров, разбредшихся в поисках остатка травы, по лесу. А может быть, она сидит, придвинувшись к керосиновой лампе, грея ноги у тлеющих углей очага, и тоже, как он, читает книгу.
Он должен забыть Зину, и не может забыть. Вернее, не мог до сегодняшнего вечера. А что будет дальше?..
XXII
Темыр пришел на свидание на полчаса раньше. Он нетерпеливо поглядывал по сторонам. Надя не сказала, откуда она придет. Почему она назначила встречу здесь, у «Метрополя», на Театральной площади? У нее есть на это какие-то свои причины... Надо пойти с ней в кино или в театр. Может быть, в ресторан? Темыр мысленно подсчитал, сколько у него в кошельке денег. Надо, чтоб хватило до получения стипендии. Он решил, что если быть экономным в дальнейшем, то сейчас ему хватит и на кино, и даже на хороший обед вдвоем с Надей. Он закажет самые вкусные блюда и бутылку вина, если она захочет.
Поглощенный своими мыслями о предстоящем небывалом для него свидании, Темыр не замечал лиц прохожих, не интересовался красивым видом площади, где зажглись уже уличные фонари, сиявшие, как луны, в розовом свете зимних долгих сумерек. В толпе он искал ее, ждал, когда же покажется знакомый зеленый беретик с оранжевым перышком.
Как трудно терпеливо ждать, назначив в первый раз свидание, и мучиться сомнениями, придет она или нет!
Темыр ходил по широкому тротуару от угла дома до подъезда гостиницы «Метрополь». После вчерашней метели ударил мороз. Темыр поднял воротник. Мороз щипал уши. А время шло удивительно медленно. Шести часов еще не было. Не было, конечно, и Нади. Она сказала — в шесть, и он сам виноват, что так поспешил.
Он решил зайти в подъезд гостиницы погреться. Как раз подходящий случай. Большая толпа приезжих направлялась к двери «Метрополя». Они говорили на каком-то языке, непонятном Темыру. В университете он изучал немецкий язык. «Наверно, эти иностранцы — англичане», — подумал Темыр. Он вспомнил, что несколько дней тому назад прочел в «Правде» о предстоящем приезде в Москву делегации английских рабочих. Ему захотелось поближе подойти к иностранцам, разглядеть их получше, распознать, какие они люди, что они думают и чего они хотят. Приехали ли они в Москву учиться новой жизни, как и он? Если они рабочие, то они должны быть нашими друзьями...
Темыр следом за ними зашел в вестибюль гостиницы. Каково же было его удивление, когда он увидел Надю, встретившую иностранцев и начавшую свободно говорить с ними. Она стояла около администратора гостиницы и, как переводчица, разговаривала с одним высоким худым англичанином с усталым лицом пожилого рабочего. Он, видимо, был старшим среди своих товарищей.
Темыр почувствовал себя очень неловко, когда он увидел, что Надя смотрит на него. Ведь он очутился в группе иностранцев, что она может подумать о нем? Он не знал, куда деваться. Неудобно сейчас же уйти отсюда, оставаться — тоже нехорошо.
Надя на самом деле удивилась присутствию своего нового знакомого среди иностранных гостей. «Неужели он иностранец? И студент ли он? — подумала она. — Как неосторожно знакомиться с неизвестными людьми...»
К неловкому положению Темыра прибавилось новое беспокойство: она узнала его, но не ответила ему даже легким поклоном, даже дружеским взглядом. Она сделала вид, что не замечает его, и повела делегатов к лифту.
Темыр посмотрел на часы. Было без пяти минут шесть. Он решил остаться и подождать возле стойки, где продавались газеты и журналы. Темыр купил «Вечернюю Москву» и деловито развернул ее. В самом деле, он мог зайти сюда купить газету! Но в душе его росла тревога. Чем кончится это свидание с Надей?
Ровно в шесть часов Надя появилась из спустившегося лифта и направилась к Темыру. Она приближалась к нему легкой походкой, невысокая, но стройная, в светло-синем платье с белым воротничком. Оно ей очень шло.
Темыр весь засиял, увидев ее.
— Как вы попали сюда... Темыр? — спросила девушка.
— Я ждал вас на улице. Раньше, чем нужно... Немножко замерз!
Искренний, полный радости взор и простодушный ответ Темыра рассеяли подозрения Нади. Она протянула ему руку и затем представила его администратору — лысому человеку с рыжими усиками и в больших очках в коричневой роговой оправе, молчаливому и важному. Она сказала, что это студент Коммунистического университета трудящихся Востока Темыр Тванба, ее знакомый из Абхазии.
Темыра удивило поведение Нади. Ему казалось, что свидание устраиваются скрыто от других людей, а Надя представляла его своему начальнику.
Извинившись, Надя отошла, чтобы взять свое пальто. Темыр остался с важным администратором, он оказался простым и разговорчивым стариком.
— Вы давно знаете Надежду Васильевну? — дружески спросил он.
— Очень давно! — неожиданно для себя сказал Темыр. Он думал о Зине.
— Славная девушка, — заметил администратор, поглядывая через окна своих очков на Темыра.
— Лучше не бывает! — воскликнул Темыр убежденно.
— С вами нельзя не согласиться, — улыбнулся администратор.
В это время Надя снова появилась уже в пальто и своем милом зеленом беретике. Ее провожала полная женщина с головой, белой, как снег. Надя познакомила Темыра и с дамой, которая оказалась ее тетей. Поговорив с ней минутку, Надя заявила, что она свободна, и вышла с Темыром.
«Вот оно что», — подумал Темыр, узнав, что Надя работает в гостинице и заменяла свою тетю в дневное дежурство. Казалось странным, что, зная его только со вчерашнего дня, она знакомит его со своими сослуживцами. Потом он спросил ее об этом.
— Я хочу, чтобы, уважая меня, уважали и моих знакомых, — ответила Надя.
— Но у вас их, наверное, много? — спросил Темыр и почувствовал, что покраснел. Ему было неприятно спрашивать об этом, но он все же спросил.
«Неужели я ревную? — подумал он. — Какое мне дело до ее знакомых?» И смущенно добавил:
— В Москве так много народу...
— У меня никого нет, — ответила Надя, взглянув лучистыми глазами на смутившегося Темыра, и улыбнулась. Она поняла ход его мыслей. — Вы впервые зашли ко мне на работу, и потому я вас познакомила.
«Как все оказалось просто и ясно. И как хорошо, что Надя отнеслась ко мне с таким уважением».
— Разве вы не заслуживаете этого? — спросила девушка, будто опять прочтя его мысли.
— Мне трудно ответить на такой вопрос, — Темыр пристально посмотрел на нее и сказал: — Я знаю одно, со вчерашнего вечера я думаю только о вас. И я так боялся, что не встречу вас больше!..
Темыр говорил тихо, опустив голову.
Надя в ответ сама взяла его под руку, чего Темыр никак не ожидал.
Они прошли через площадь Революции к зданию Исторического музея. Впереди поднималась угловая башня Кремля. Сколько бы раз ни проходил здесь Темыр, ему всегда хотелось остановиться, чтобы посмотреть на Кремль. Сколько мыслей появлялось при этом!
Он все это сказал Наде. Они вышли на Красную площадь. В сумеречном сизом небе с красновато-фиолетовыми облачками силуэты Кремлевских башен казались особенно красивыми. От них веяло глубокой древностью.
Сказочным выглядел старинный храм Василия Блаженного с прижавшимися друг к другу, как дети, узорчатыми башенками.
Надя стала рассказывать Темыру многое, чего он не знал, об истории Кремля и Красной площади. Она сказала, что ей приходится переводить иностранцам пояснения и часто самой дополнять их, отвечая на вопросы.
— Моя маленькая работа тоже важна, — заметила Надя. — Иностранцы ловят каждое мое слово, а я в каждое слово стараюсь вложить чувство моей любви к Родине. Ведь, кроме правды слов, есть правда чувств, она тоже передается и действует.
Темыр по-новому посмотрел на девушку, с которой он только вчера так необычно познакомился. Вот какая у нее работа!
— И кроме того, — ее глаза сверкнули гордостью, — по моему виду и поведению они судят о советских женщинах. Я всегда помню это. Никому и никогда за меня не будет стыдно!
— Ты — комсомолка? — спросил Темыр, сам не заметив, что сказал ей «ты».
— Конечно, — она подняла на Темыра свои темные горячие глаза, потом ресницы ее полузакрылись. — А ты?
Она колебалась, прежде чем сказать это простое, товарищеское «ты». Для нее сейчас это было трудное слово по отношению к человеку, который неожиданно начинал занимать в ее жизни какое-то свое, особое место. И, надеясь, что отношения их станут обычнее, проще, — она тоже сказала ему ты, как товарищу. Темыр понял это.
— Я кандидат партии... Мы будем друзьями, Надя?
— Мне кажется, что мы уже стали хорошими знакомыми. А будем ли друзьями, не знаю.
На Красной площади было тихо и торжественно. Движение автомашин и пешеходов шло по противоположной от Кремля стороне, вдоль длинного приземистого здания бывших торговых рядов. Над зданием вились и кричали стаи галок, никак не могли они угомониться на ночь.
Часы на Спасской башне пробили семь ударов. Над зданием ВЦИК’а, на куполе вился алый шелковый флаг, освещенный снизу прожектором. У мавзолея, где покоится великий Ленин, неподвижно стояли в карауле два часовых. К воротам Спасской башни изредка быстро подъезжали автомобили и исчезали за Кремлевской стеной. Там работало Советское Правительство, там билось сердце Родины, туда неслись мысли трудящихся со всех концов мира. И это было рядом с Темыром, и наполняло его сердце гордостью. Было радостно, что его руку в своей держала красивая, привлекательная девушка. Но Темыр вдруг остро почувствовал сожаление, что Зина сейчас не с ним. Ей бы побывать здесь, у Кремля!
Темыр и Надя молча шли по Красной площади, поглощенные охватившими их мыслями. «Странное существо — человек, — думала Надя, — вот, например, я: сколько мне встречается разных людей, кое-кто пробует за мной ухаживать, а никто не нравится так, чтоб хотелось с ним быть каждую минуту, чтоб сердце билось при одной мысли о встрече. А вот случайно этот Темыр...»
Она вспомнила его глубокий, полный любви взгляд, в котором было видно страдание, когда она не хотела с ним знакомиться. Ей не приходилось переживать такое сильное чувство, возникающее в первую минуту знакомства. «Почему я ему так понравилась? Значит, существует любовь с первого взгляда...» Необыкновенная встреча захватила ее воображение. Темыр, сын гор, приехавший в Москву учиться, серьезный и молчаливый, красивый и скромный, заставил сердце Нади забиться сильнее.
— Куда же мы теперь пойдем? — спросила она Темыра.
Он очнулся. Мысли его были далеко от Москвы. Но об этом не знала Надя.
Темыр вспомнил свой план провести вечер с девушкой.
— Мы пойдем в ресторан и пообедаем, — сказал он, — меня мучит совесть, что вы прямо с работы и не обедали.
Приглашая в ресторан, он не мог говорить ей «ты». Что-то неуловимое исчезло в их отношениях. Они снова перешли на «вы».
Надя решительно отвергла его предложение — она не ходит в рестораны и уже обедала. Она согласилась пойти в кино. Темыр извлек из кармана «Вечернюю Москву». Остановившись возле нового здания гостиницы «Москва», они вместе стали смотреть в отделе объявлений, что идет в московских кинотеатрах, потом направились вверх по Тверской в кино, которое москвичи еще называли по-старому «Ша нуар», что значит «Черный кот». «Странное название на улицах социалистической Москвы. Не так легко искореняется старое даже в самой Москве», — подумал Темыр.
Они прошли угол улицы, где вчера встретились, еще не зная друг друга. Смеясь, они вспомнили об этом, так как Темыр чуть не упал на этом же месте второй раз, правда, в шутку.
— Это ничего, что наша встреча была случайной, — сказала Надя. — Если бы я заметила в вас хоть что-нибудь дурное, я бы никогда с вами не встретилась больше.
— Наше знакомство не было случайным, — ответил ей Темыр.
— Почему?
— Если б вы были другою, я тоже не стал бы даже разговаривать с вами!
— Разве у вас нет других знакомых девушек? Вы третий год в Москве...
Надя слегка улыбнулась, искоса посмотрев на Темыра. Он покачал головой:
— Ни одной нет.
Надя промолчала, поглядывая на Темыра. Что-то он еще скажет о себе?
Темыр добавил:
— Мне некогда. Я учусь и хочу учиться по-настоящему. Я должен принести хоть какую-нибудь пользу моему маленькому народу.
Надя просила рассказать, как он учится, какие у него товарищи.
— Раньше я думал так. Самые близкие люди — родственники и те, которые говорят на моем языке. Теперь у меня другое представление, совсем другое. Я понял, что такое товарищество всех советских людей, что такое братство и дружба народов. Это, по-моему, самые святые слова, это — самая святая для меня дружба!
Наде нравились его ответы и жар, с которым он говорил. Он показал ей фотографию, где он был снят со своими друзьями.
— Это Игнат, он — якут. Какой хороший человек!.. А это прекрасный товарищ — узбек Гафур... У меня немало таких друзей.
— Вы многому научились в Москве?
— Самое главное, чему я научился, — ответил Темыр, — это еще сильнее любить русский народ, любить Москву.
Они незаметно дошли, как вчера, до памятника Пушкину. Увлеченные разговором, они ничего не замечали вокруг. Порой Темыру казалось: это он идет с Зиной по лесу, и под ногами шуршит сухая трава. Он распахнул пальто. Ему теперь не было холодно. Воздух чист и свеж. Уже чувствовалось дыхание весны. Разрумянившаяся, какая-то вся сияющая, шла рядом с ним Надя, крепко держась за его руку. Неужели они только вчера познакомились?
Перейдя площадь, они очутились возле кино. У кассы стояла очередь. Толпился народ. Только что был выпущен первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь»... Надя, не выпуская руки Темыра, стояла с ним в очереди, она спрашивала его о фильмах, о новых пьесах. Темыр ходил с товарищами на все новинки. Но он признался ей, что никогда раньше, до приезда в Москву, не бывал ни в кино, ни в театре.
— Выходит так, будто у вас две жизни: одна была там, другая — здесь, в Москве? — спросила Надя.
— И у нас будет, как здесь. Уже многое переменилось.
Темыр вспомнил свой приезд домой, разговоры с Михой, Арсаной. А Надя внимательно оглядела Темыра.
— А вы, по-моему, ничем не отличаетесь от москвичей!
— Все-таки отличаюсь.
— А чем?
Темыр не сразу ответил. Как ему было признаться этой москвичке-комсомолке, что он — кровник? Он остро почувствовал, что здесь об этом стыдно даже сказать.
— Я все-таки абхазец, — ответил он.
— Ну и что же? Какая разница? — горячо сказала Надя. — Я — русская, вы — абхазец. Ваши друзья — якут и узбек. Разве мы не все, прежде всего, советские люди?
— Конечно, советские люди.
— Вы — студент, и я — студентка... Вы из деревни, и моя бабушка до сих пор живет в деревне, теперь она — колхозница... Вы — кандидат партии, я — комсомолка... Мы будем работать и жить для одной цели. Какую же вы чувствуете разницу между нами?
Чтобы не тесниться в очереди, они, запомнив свое место, отошли в уголок возле телефонной будки и, стоя лицом к лицу, вели разговор, все более сближавший и волнующий их.
— Мы останемся без билета! — Темыр побежал к кассе, чтобы занять свою очередь.
Через минуту они поднимались по лестнице в фойе, где играл оркестр. Темыр купил Наде плитку шоколада. Он во всем хотел быть не хуже любого молодого москвича!
Но на последний вопрос Нади он не ответил. Однако этот вопрос растревожил его не на шутку. Кто же он в самом деле: настоящий советский человек, гражданин Советского Союза, коммунист, или человек, обремененный наследием старых обычаев и родовых законов? Темыр продолжал думать об этом, глядя на экран. Занимательный й правдивый кинорассказ о том, как беспризорные ребята перевоспитываются руководителем-коммунистом, как отчаянный и почти совсем потерянный для общества Мустафа становится честным и дельным парнем, увлек Темыра. Трудновато пришлось бедному сироте-беспризорнику. Но и он исправился под влиянием новой среды, получил «путевку в жизнь».
«Многих людей еще надо перевоспитывать. Но разве это оправдание ему, Темыру?» — размышлял он.
Кончился киносеанс, и, вытирая влажные глаза, сотни зрителей выходили из переполненного зала на морозный воздух, возвращались к своим семьям, к своим делам и заботам, унося в своем сердце добрые, хорошие чувства, пробужденные кинокартиной. Надя тоже была взволнована фильмом. У нее появились свои тревоги.
— Как важно уберечь детей от беспризорности! — сказала она, думая вслух, поглядев рассеянно на Темыра.
— А почему вас это беспокоит? — спросил Темыр, почувствовав в ее словах озабоченность.
— У меня же их трое! — грустно улыбнувшись, ответила девушка.
Они опять пошли по Тверскому бульвару, как вчера. Надя рассказала Темыру многое о себе. Сегодня это уже не была незнакомка. Темыр все больше узнавал ее, и все больше она ему нравилась. Надя рассказала, почему она работает в гостинице переводчицей. Она учится на втором курсе института иностранных языков. Тетя помогла ей хорошо изучить английский язык, а сейчас устроила на работу. Кроме того, Надя берет на дом переводы...
«Так вот какая ты умница и труженица, милая девушка в зеленом берете!»
Надя не жаловалась на жизнь, но Темыр все понял: мать — учительница... трое маленьких ребят, которые еще только ходят в школу...
— А где же ваш отец? — не удержавшись, еще раз спросил Темыр.
— Я не хочу об этом говорить...
Надя попрощалась с Темыром у своего старого дома.
«В нем, наверно, холодно», — мелькнула мысль у Темыра. Они уговорились о следующей встрече. Надя постарается достать билеты в Большой театр на «Кармен».
Надя ушла, а Темыр долго стоял, как бы еще чувствуя в руке ее маленькую горячую руку.
«Кто знает, чем может кончиться новое знакомство? И как сложна жизнь!» — думал Темыр.
XXIII
Темыр и его однокурсник якут Игнат Федорович Купавин жили в одной комнате в общежитии студентов. Сидя друг против друга за столом, они готовили задание по русскому языку. Занимались молча. Игнат часто делал выписки. У каждого была толстая общая тетрадь для письменных упражнений по русскому языку. Игнат, по всему видно, старательно готовился к завтрашним занятиям. А Темыр ничего не записывал. Отрываясь от книги, он облокачивался и, подперев руками подбородок, задумывался, глядя в сторону, потом рассеянно смотрел в книгу, и снова его взоры блуждали.
— Я вижу, Темыр, ты сегодня занимаешься не так, как всегда.
— Ты разве что-нибудь заметил во мне? — сделав вид, что очень удивлен, спросил Темыр.
Игнат отодвинул работу.
— Скажи мне, пожалуйста... Прошу, Темыр, не заводи от меня тайн!.. В чем причина? Ты стал другой!
Маленькие глаза Игната лукаво прищурились. Игнат был небольшого роста, но крепкий в костях и плотный, с короткой шеей. Лицо у него — круглое, с выдающимися скулами и узким разрезом глаз. Они были очень живые и веселые, иногда казалось, что им мало отведено места на этом большом лице, похожем на луну. Сердце Игната было чутким и нежным.
Темыр считал Игната своим самым лучшим другом в университете.
— А почему ты думаешь, что я стал другой?
— Без меня гулял сегодня по Москве, — укоризненно сказал Игнат.
«От него ничего не скроешь. Но об этом я не скажу», — решил Темыр.
— Посмотри мне в глаза! — потребовал Игнат. — И скажи: ты не влюбился в какую-нибудь красавицу?
— А если и влюбился, — ответил Темыр, — чем ты помог бы мне? Таких, как мы с тобой, женщины перехитрят.
Игнат встал и похлопал Темыра по плечу.
— Не все одинаковы, знаешь. Одни — добрые, другие — хитрые. А в общем, женщины нас всегда немножко жалеют и сами страдают из-за нас.
— Ты так говоришь, будто испытал на себе.
— Конечно, испытал...
Игнат хотел вызвать на откровенность Темыра, а получилось наоборот.
— Только это было не в Москве, а у нас в Якутске.
— Интересная была девушка?
— Очень.
— И долго с ней дружил?
— Вместе учились в техникуме. Полюбили друг друга.
— Что же случилось?
Темыр горячо заинтересовался неожиданным признанием друга. «Нет ли в его судьбе сходства с моей?» Они никогда, не говорили о любви и своих неудачах. Как мужчины, они были скупы на признания о личной жизни, поскольку дело касалось сердечных тайн.
— А случилось вот что. Она окончила техникум и поехала к своим родным. Там ее сразу выдали замуж. Она не сумела или не захотела противиться...
— У нас это бывает тоже, — заметил Темыр.
— А теперь жалеет. Но поздно.
— А ты откуда знаешь, что жалеет?
— Встречался летом, когда ездил на каникулы.
Игнат приумолк, погрузившись в воспоминания.
— А потом что? — спросил Темыр, глубоко взволнованный рассказом друга. Сердце его стало тревожно биться. Он думал об оставленной им Зине.
— Она расплакалась, когда увидела меня... Сказала, готова ехать со мной в Москву.
— Но она — замужем?
— Так случилось... Знаешь, она сказала мне: «Не губи меня за мою ошибку...» Она разошлась бы ради меня с нелюбимым мужем и всюду поехала бы за мной. Привязалась ко мне всем сердцем.
— А что же ты?
— Я?..
Игнат увидел горящий, вопрошающий взгляд Темыра.
— Я люблю ее по-прежнему... Наверно, так и будет, как она хочет. Я обещал жениться на ней, когда возвращусь из Москвы.
— Эх, брат, тяжелая у тебя история!..
— Ничего, будет хорошо. — Маленькие глаза якута светились верой в будущее. — Она не виновата. Родственники виноваты.
— Нет, у меня другой взгляд, — подумав, сказал Темыр. — Любовь это не мяч, который можно бросить и гоняться за ним.
Темыр, взяв книгу, лег на кровать. Он положил ноги на металлическую спинку и опять отложил книгу в сторону.
— Знаешь, что я тебе посоветую? — он повернул голову в сторону Игната, снова усевшегося за упражнения. — Я посоветую тебе совсем другое. Поступи иначе.
— Как?
— Поедем на следующее лето со мной к нам, в Абхазию. Ты должен увидеть наш край.
Об этом они часто говорили. Абхазия и Якутия. Что может быть противоположнее по своей природе? Что дальше друг от друга? Теперь они сблизились. Люди стали родными по духу. Темыр рассказывал о красотах Абхазии и чудесах ее растительного мира. Игнат с не меньшим увлечением говорил о своей суровой и прекрасной, тоже полной богатств Якутии, о стране, только начавшей пробуждаться. И они прониклись взаимной любовью, хотя их предкам и во сне не снилась такая дружба.
— Приедешь к нам, я тебя познакомлю с хорошими девушками. Кого-нибудь полюбишь. Это бывает даже случайно. Девушки у нас славные. Полюбишь и женишься. Вот так будет лучше всего.
— Ты шутишь, Темыр?
— Почему?
— Потому что... — Игнат взглянул мельком в зеркало. — ...Я могу понравиться у себя в Сибири. Наши девушки считают меня даже красивым. Вряд ли я могу понравиться вашим красавицам.
— Нет, ты не прав, Игнат Федорович! — Темыр вскочил с кровати. — Разве мы все не одинаково советские люди? Какая разница — якут ты или абхазец? Ты очень хороший человек, Игнат. И наша хорошая девушка полюбит тебя. У нас умеют любить. Если полюбит, не забудет до смерти.
— Но разве поедет со мной в Сибирь, в Якутию?
— Полюбит — поедет!
Темыр сам не знал, почему он с таким жаром уговаривает своего друга. Ему казалось, что его беде легко помочь. Пусть он только поступит так, как советует Темыр.
Но Игнат повторил опять свое:
— Понимаешь, ту девушку никогда я не смогу забыть.
— Но она же тебе изменила?
— Да, конечно, но... Но она не виновата в этом. Обычаи заставили ее подчиниться. Понимаешь?
— Понимаю... — мрачно ответил Темыр. Ох, как хорошо он знал силу обычаев!
Оба молчали.
— Ты знаешь, Темыр, — начал Игнат через некоторое время, переменив тему разговора, — я человек такого склада, что ничего не решаю сразу. Я всегда хочу еще раз спросить себя: а не надо ли, Игнат, вдуматься тут поглубже?
— Это говорит о твоем достоинстве.
Игнат продолжал:
— Приехав сюда на учебу, я узнал много нового, того, чего совсем не знал раньше.
— Я тоже.
— Чего стоит наша дружба! Такого университета в мире не было.
Мы должны выйти отсюда настоящими людьми, чтобы оправдать доверие партии и народа. Отсюда я делаю свои выводы...
— Ты хочешь сказать, что, возвратившись домой, будешь учить свой народ жить по-новому?
— Приложу все свои силы. Но прежде всего каждый из нас должен как следует вылупиться из скорлупы своей национальной ограниченности. Задачей моей и твоей является, — продолжал Игнат, расхаживая по комнате, — возможно скорей побороть все отсталые взгляды, сидящие в нас. Мы вооружаемся коммунистическим учением, но, если у нас з душе будут жить отсталые взгляды и привычки, разве мы будем настоящими коммунистами? Мы являемся первыми представителями своих народов, посланными в Москву в этот университет. На нас лежит огромная ответственность. Мы должны вернуться домой и во всем быть передовыми людьми, чтобы и наши народы стали передовыми.
— Ничего, Игнат Федорович, — сказал Темыр, — пройдет немного лет, и неузнаваемы будут все, в прошлом многострадальные народы. Все переменится с помощью советской власти.
Темыр тоже встал, и оба зашагали по комнате, продолжая разговор. Каждый мысленно перенесся в свою родную страну.
— Так вот, Темыр Пахуалович, — торжественно назвал его по имени-отчеству Игнат, — я делаю для себя такой вывод. Я знаю, пройдут годы, мы везде победим, тогда всем будет легче жить. Ну, а сегодня — как я должен поступить с точки зрения этого будущего? Эта девушка — моя любимая. Ей сегодня пришлось плохо. Обидела ее старая проклятая жизнь, которая еще живет во многих углах. Эта девушка, наверно, каждый день вспоминает меня и, может быть, каждый день плачет... Она ждет меня, любит меня. Как же я должен поступить, по-твоему? Руководствоваться старыми взглядами? Дать волю ревности?
Темыр слушал друга и в то же время думал о своем горе: о Зине, об Ахмате... Вспомнился вдруг сон, когда приходили к нему отец и брат, требуя отмщения. Это был голос прошлого. Темыр не встал на путь мести. Но сердце его не освободилось от тяжести. Почему же он так легко дает советы другу, а сам продолжает мучить ни в чем не повинную Зину? Или он предпочтет ей Надю? Или своей нерешительностью заставит Надю тоже мучиться? Или пойдет на обман, не скажет ей о Зине?
Темыру захотелось открыть свою тайну Игнату, облегчить свою душу откровенным признанием другу, посоветоваться с ним, как быть. Но язык его не повернулся. Так и не сказал Темыр о своей любви, хотя Игнату он мог бы довериться.
«Игнату легче было сказать. Он сам уже знает, как поступить. Ему ясно, а мне ничего не ясно... Тоже лезу со своими советами... а сам блуждаю в темном лесу! — осуждал себя Темыр. — Нет, я все должен решить без чужой помощи». И ему вдруг вспомнилась Надя, ее голос, ее рука, ее глаза —
ее, а не Зинины! Надя была близко. Темыр с радостью подумал, что они опять встретятся. Может быть, эта неожиданная случайная встреча поможет ему разрешить все вопросы.
XXIV
Стремительно открылась дверь в комнату. Вошел Гафур. Он позднее всех вернулся. Но причина его опоздания в свою товарищескую семью, где привыкли время проводить вместе, не вызывала подозрений. Он пришел из клуба. Гафур, узбек из Самарканда, сын ремесленника, живой, веселый, общительный, успевал всюду.
Отец Гафура, старый Гасан, хотел, чтобы его сын стал работать вместе с ним. Никто во всем Самарканде не умел так искусно рисовать причудливые узоры и орнаменты на глиняной посуде. И Гафур быстро научился этому искусству. От матери Гафур унаследовал любовь к музыке, к народной песне. Способного мальчика отдали учиться к мулле, но он убежал от него и, несмотря на упреки отца, стал ходить в советскую школу, они тогда начали организовываться повсюду. Гафур вступил в комсомол, начал работать в газете. В Москве, отлично учась, Гафур успевал заниматься разными искусствами. В кружке живописи он с увлечением писал маслом этюды с натуры, пейзажи строящейся Москвы, портреты, решительно нарушая этим запрет корана рисовать человеческое лицо. За это его еще недавно проклинал мулла в Самарканде... Гафур, владевший искусством играть на бубне и танцевать, участвовал в репетициях студенческого ансамбля, готовившего выступления к Первому мая. Кроме того, он писал, говорят, интересные новаторские стихи по-узбекски, подражая своему любимому русскому поэту Маяковскому.
Гафур был одаренным человеком, он мог бы теперь, благодаря заботам советской власти, специализироваться в области музыки, живописи или поэзии. Но у него возникла другая мечта. Глубже овладеть марксистско-ленинскими знаниями и во всеоружии социалистической науки вернуться в родной Узбекистан, — вот чего страстно хотел Гафур.
— Сколько в народе талантов!.. Таких, как я, танцоров, музыкантов, поэтов, живописцев родится не одна тысяча. По-моему, гораздо важнее другая задача — не самому рисовать и танцевать или писать посредственные стихи, а помочь своему народу быстрее прийти к новой, счастливой жизни. Партия — вот кто величайший мастер в наше время! — любил говорить Гафур. — Она творит новых людей! И я хочу быть не последним в ее рядах, чтобы каждый день бороться за счастье народа.
Когда Гафур рассказывал, в каком рабстве находилась узбекская женщина и сколько еще пережитков прошлого осталось, сколько еще надо бороться со старым миром в быту и в сердцах, Темыру и Игнату казалось, что абхазские и якутские сестры были все же счастливее узбечек, ходивших недавно под паранджой, прятавших лицо в черном мешке. Еще яснее становилась им борьба за перестройку сознания людей, которая велась под руководством Коммунистической партии.
Вот какие были друзья у Темыра, вот какие семена падали и в его душу!
Гафур посмотрел на Темыра с нескрываемым лукавством и заставил его, по студенческому обычаю, танцевать, прежде чем передал ему письмо.
— Получил, когда тебя не было дома, и унес с собой. Это в наказание тебе за то, что стал куда-то уходить тайком от своих друзей, — сказал Гафур шутливо.
Темыр нетерпеливо вскрыл письмо, на нем стоял штамп «Сухуми».
Письмо было от Михи, полное дружеских забот о жизни Темыра в Москве, вопросов о его учебе и непритязательных рассказов о сельских новостях. Миха был единственным человеком, писавшим Темыру из Абхазии. Писал он регулярно, но редко, письма его были большой радостью для Темыра. В письмах Михи всегда хоть в одной строчке упоминалась Зина то в связи с работой в комсомольской ячейке, то в делах колхозной жизни, то просто в перечне земляков, которые благополучно здравствуют. Как мил и тактичен Миха, как благодарен ему Темыр за его чуткость!
На этот раз к письму была приложена вырезка из газеты «Апсны Капш». На первой ее странице помещен портрет Зины с подписью под ним: «Лучшая ударница колхоза «Светлый путь» села Алашара Очамчирского района».
Игнат и Гафур молча внимательно наблюдали за Темыром, читавшим письмо. Темыр никого и ничего не замечал сейчас. Им было эго понятно, и сами они никогда не зададут ни одного нескромного вопроса о содержании письма. Но у них установился неписаный обычай товарищества рассказывать Друг другу, что пишут с родины. Прочесть вслух письмо нельзя было при всем желании: не перечесть, на скольких языках получались письма в том большом и дружном общежитии!
Любуясь портретом Зины, Темыр посмотрел на своих товарищей со счастливой улыбкой. Они справедливо сочли это за приглашение полюбоваться напечатанным в газете и, очевидно, неспроста присланным женским портретом.
— Красивая! — произнес Гафур, одобрительно взглянув на Темыра. — Абхазка? — спросил он коротко, чтобы не показаться излишне любопытным.
— Сестра! — медленно проговорил Темыр, не сводя глаз с портрета Зины.
— С удовольствием с тобой породнился бы! — подмигнул Гафур.
Темыр промолчал.
— Нет, честное слово, не шучу, — продолжал Гафур. — Эта девушка мне очень правится. Приеду к тебе летом и женюсь на ней.
— До тех пор она успеет выйти замуж за другого, — ответил Темыр. «От Гафура это в самом деле станется!» — ревниво подумал Темыр.
— Действительно, у тебя очень красивая сестра, Темыр! — не спеша высказал Игнат свое мнение.
— Если у нее вдобавок твой ум, твой сдержанный и молчаливый характер, то для меня твоя сестра будет идеальной женой, — проговорил Гафур, не выпуская из рук портрета Зины.
— Я не говорю уже о чести породниться с таким товарищем, как ты!
Иногда нелегко разобраться, шутит Гафур или говорит серьезно, настолько он сам увлекается какой-нибудь новой идеей, пришедшей ему в голову.
Гафур окончательно забрал портрет и начал прикалывать его над своей кроватью. Темыр, как бы в шутку, протестовал.
— Ничего, привыкай смотреть на свою сестру издали. Кому ближе она будет — брату или мужу? — Он показал сперва на Темыра, потом на себя.
Игнат, обычно лишь улыбавшийся, расхохотался и, держась за бока, повалился на свою постель.
Все они были молоды и полны жизни.
Однако Темыру было не до смеха. Он отобрал портрет. Ему пришлось по настоянию Гафура прикрепить изображение Зины над своим изголовьем, хотя он предпочел бы спрятать его подальше от чужих любопытных глаз.
Любовь зажглась в нем с той же силой, что и ранее, как в тот самый день, когда он положил за раму зеркала записку.
Его сердце не хочет знать законов, выдуманных предками. Любовь к Зине торжествует даже теперь, когда Темыр сам навсегда отказался от Зины, предоставил ей свободу устраивать свою жизнь и себе тоже дает, кажется, это право. А что будет с ним, если Зина действительно выйдет замуж за другого? Он в страхе поднялся и снова приблизил свои глаза к портрету Зины.
Гафур вышел за кипятком. Он любил пить чай, густой и горячий, в любое время, когда садился за работу, Игнат, сев в уголок с книгой, незаметно следил за своим другом.
Темыр продолжал лихорадочно думать. Вся его неустроенная, исковерканная законом кровной мести жизнь встала перед ним во всем своем ужасе. Написать сейчас же Зине письмо? Отказаться от своих прежних слов? Сказать, что женится на ней?.. Но тогда он должен помириться с ее семьей, с ее отцом. Садясь за обеденный стол в своей семье, он будет видеть стариковскую руку, отнявшую жизнь у его брата. Неужели он назовет убийцу брата своим отцом?
XXV
Темыр продолжал встречаться с Надей. Они побывали в Большем театре. В одно из воскресений Надя поехала с Темыром в Третьяковскую галерею. Она рассказала ему многое, чего он никогда не знал, о русских художниках, о великом Репине, о Сурикове, горячо любивших свой народ. Он видел пейзажи Левитана и Шишкина. Ему захотелось, чтобы и в Абхазии родились такие же художники-живописцы. Почему никто не нарисовал так же красиво абхазские горы и леса, сияющий свет утра в его родном селении и розовое цветение персиков в садах, серебристую лазурь моря и совсем другую, чем в Москве, синеву неба? В тот вечер Темыр привел в удивление Гафура.
Знакомство Нади и Темыра протекало как-то необычно. Их влекло друг к другу, но отношения их были сдержанными. Темыр вел себя очень скромно, не позволяя себе ничего, что могло бы выявить его чувство. Он даже избегал смотреть ей в глаза, чтобы в его взгляде она не прочла того, чего он не хотел говорить.
Надя была для него постоянным напоминанием о Зине. Даже когда он видел преимущества Нади перед Зиной, он в душе становился на сторону Зины и защищал ее перед самим собой. Ну что же из того, что Надя лучше одета, что она культурнее Зины, гораздо больше знает? Зина — простая деревенская девушка, а если бы она стала учиться, стала бы такой же москвичкой — обе были бы одинаковы, как настоящие двойники.
Но он сам отказался от Зины, он на ней никогда не женится.
Только он никак не может почему-то ее забыть... Однако это необходимо. В мыслях о Наде Темыр находил опору своему решению. Нужно сделать только один шаг, чтобы отрезать себе путь к Зине и приблизиться к Наде. И, кажется, Надя ждала этого шага Темыра, который привлекал ее все больше своей скромностью и сдержанностью, своим вниманием к ней и настоящей дружбой, возникшей между ними.
В то же время Темыр чувствовал, что, будучи честным человеком, он не может, никак не может сделать этого шага. Но он продолжал встречаться с Надей и относился к ней, как к товарищу, которого уважает всем сердцем. Ему нравилось, что она относится к нему тоже просто, как к близкому товарищу. Она не позволяет даже тратить на нее деньги. Он не забудет, как она незаметно положила ему в карман рубли, уплаченные им за билет в театр. Он это обнаружил только вернувшись в общежитие. Благородство Нади, проявляющееся во всем, вызывало его глубокое уважение.
Надя ничего не знала о Зине, но сердцем чувствовала, что Темыр скрывает от нее что-то очень важное, и она была уверена, что он рано или поздно скажет ей об этом.
На завтра у них было назначено новое свидание.
Был апрельский солнечный, день. Темыр сидел на скамейке у памятника Пушкину. На Тверском бульваре по дорожке бегало, играя, множество счастливых детей. Рядом с Темыром сидела беззубая, сморщенная старушка, сгорбившаяся от старости. Но в глазах ее, темных и блестящих, светилась радость. У нее на коленях стоял, держась за бабушкину шею, раздувая губки и лепеча «бабу... ба-бусь», краснощекий мальчонка. Бабушка то брала его на руки, то сажала в детскую коляску и катала. И не чувствовалось ее старости, так легко и весело она управлялась со своим любимым внуком.
«Какой счастливый ребенок! — подумал Темыр, глядя на них. — Бабушке тоже, видно, хорошо с ним. Наверно, у малыша есть мать и отец, они сейчас на работе, как большинство москвичей. А вечером соберется за столом дружная довольная семья. У этих людей есть все для счастья. Пусть будет мирной и долгой их жизнь! — от души пожелал Темыр москвичам. — Пусть вечно славится и мирно живет на счастье всем людям этот великий советский город!»
Мысли Темыра унеслись в прошлое.
«У меня не было счастливого детства, — думал Темыр. — Бедность и бесправие душили моих родителей. Они умерли преждевременно. Я был брошен на произвол судьбы. Я стал жертвой кровавого обычая родовой мести. Столько лучших лет моей жизни я провел под его унизительным гнетом, обреченный убить и быть убитым, лишенный даже теперь счастья и душевного покоя. Будь же она проклята, прежняя жизнь, которая еще кому-то нравится! Есть же такие люди, даже такие писатели, которые идеализируют это прошлое...» — вспомнил Темыр свои занятия по литературе.
Погруженный в размышления, он не заметил, как подошла Надя. Она стояла перед ним, приветливо улыбаясь. Темыр вскочил и чуть-чуть смущенно, но радостно протянул ей руки.
Надя предложила пройтись по бульвару. Она взяла его под руку, и они пошли по аллее к Никитским воротам — путь, ставший Темыру хорошо знакомым.
Ласково взглянув ему в лицо, Надя спросила:
— Что с вами, Темыр? Я вижу, вы о чем-то скучаете?
— Нет, что вы, я все забыл, раз вы пришли.
— Я вам доставила такое удовольствие своим приходом?
— Конечно, каждое свидание с вами мне особенно дорого, потому что вы так похожи...
Непроизвольно Темыр обронил неосторожные слова, а между тем в это мгновение он с удивлением думал о том, что еще ни разу за время знакомства с Надей не приходило ему в голову. Он вдруг понял, что между Надей и Зиной нет никакого внешнего сходства.
Казавшиеся до сих пор бархатно-черными, как у Зины, Надины глаза с продолговатыми высокими дугами бровей были карими. И нос и рот другие. Надя была полнее и выше, чем Зина.
Темыр даже удивился, почему до сих пор ему казалось, что Надя так похожа на Зину. Он не мог понять, что с ним произошло то, что редко, но бывает с влюбленными, потерявшими свою любимую. Они ищут похожих и попадают во власть иллюзия. Вдали от привычной обстановки, в большом городе, где столько разных лиц, Темыр был привлечен каким-то общим сходством Нади с Зиной. Это первое зрительное самовнушение закрепилось в сознании и владело им до тех пор, пока в его внутренней борьбе не произошло перелома, резкого поворота к Зине, к своей заветной мечте, когда он понял, что без нее жить не может...
Дойдя до скамейки, где никто не сидел, молодые люди заняли ее.
— Давайте поговорим по душам, — мягко, но настойчиво сказала Надя, внимательно, как-то по-новому глядя на Темыра. — Я успела за время нашего знакомства заметить, что как бы заменяю вам кого-то...
— Вы никого мне не заменяете. У меня это просто так вырвалось.
Темыр еще никогда и никому не открывал свою душу. Даже лучшим друзьям своим, Михе, Игнату, он ни разу не сказал всей правды о себе. Слишком глубокая рана была в его душе. И он, солгав Наде, отвернулся от нее. Он чувствовал в то же время, как плохо будет думать о нем эта милая добрая девушка, которую он так уважает и, наверно, полюбил бы.
А Надя в первый раз почувствовала к нему почти презрение. «Вот ты какой — самый обыкновенный пошляк! Ты даже трус и боишься признаться, что дома у тебя жена или невеста».
У нее появилось желание подняться и уйти. Он не смотрел на нее. Подняв голову, он глядел куда-то вдаль и думал. Губы его вздрагивали, ноздри раздувались, черные густые ресницы как-то особенно оттеняли его неподвижный взгляд. Она увидела на его лице выражение глубокого страдания и благородной чистоты мыслей, соединенных сейчас с диким упорством, которое поразило ее и привлекло при первой их встрече. Он показался девушке похожим на горного орла. «Не легко приручить такого».
Она нежно коснулась его плеча.
— Скажите мне все о своей жизни, о себе... Скажите правду, я все пойму.
Темыр повернулся к ней. На него смотрели лучистые карие глаза Нади.
— Я пойму... — повторила она.
Темыр взял молча ее руку и крепко сжал.
— Мне тяжело, Надя!.. — сказал он дрогнувшим голосом, и Надя опять ободрила его своим добрым взглядом...
— Хорошо, я все открою вам...
Темыр не выпустил руки Нади, как будто эта маленькая рука давала ему силу, пока не рассказал всю историю своей горькой жизни. Он рассказал о замученном отце и убитом брате, о жестокостях Мурзакана и подлостях Мыкыча, потом стал говорить о том, как полюбил дочь Ахмата, дочь своего кровного врага, любить которую не разрешалось обычаями дедов.
С болью рассказывая, Темыр чувствовал, что вечный холод в его душе, лед, сковавший его чувства, начинает таять.
— Вы любите ее и сейчас? — спросила Надя.
Она отняла руку и, соединив ладони на коленях, стиснула пальцы.
— Мы полюбили друг друга с детства, со школьной скамьи.
— Вы и учились вместе?
— Да.
Темыр помолчал, Надя тоже молчала, удивленная всем, что она услышала.
— Я никак не могу себя заставить, — сказал Темыр, глядя на Надю и снова поражаясь, как она все-таки не похожа на Зину, — я никак не могу себя заставить разлюбить ее... Но вы были на нее похожи.
Надя быстро повернулась к нему.
— Я была на нее похожа?!.. А сейчас не похожа?
— Нет... Но я вас тоже люблю! — внезапно сказал Темыр от всего сердца. Надя отвела взор и, задумавшись, грустно потупилась.
— Теперь я вас понимаю!..
Надя была ошеломлена. Как все сложно и как все неожиданно! Она много думала о Темыре; его жизнь, которая ей представлялась ясным и прямым движением вперед, оказалась такой путаной... И ее собственная жизнь с сегодняшнего дня станет печальней. Она почувствовала в то же время какую-то свою личную ответственность перед этим страдающим человеком, перед товарищем, которому она сейчас должна посоветовать, как правильно устроить свою жизнь.
Когда она повернулась опять к Темыру, он заметил в уголках ее продолговатых глаз блестящие жемчужинки, которые вдруг скатились по щекам.
Она достала надушенный платочек и вытерла глаза.
— Пойдем отсюда! — сказала Надя.
Они опять пошли по бульвару. Солнце заходило за высокие крыши домов. На ветвях деревьев с набухшими почками неугомонно чирикали стайки воробьев. Темыру почему-то вспомнился треск южных цикад в летнем знойном воздухе пахучего леса.
— Я расстроил вас своим рассказом? — спросил заботливо Темыр. — Может быть, вы не поняли меня? Что с вами?
Надя снова взяла его под руку и ответила так нежно и тепло, как может ответить только любящая девушка, хотя в этот момент она изгоняла любовь из своего сердца.
— Я поняла вас, мой дорогой Темыр, все поняла, кроме одного: почему вы не женитесь на Зине.
«Ничего не поняла», — подумал Темыр. Он хотел возразить Наде, но она остановила его.
— Дайте и мне сказать так же откровенно все, что я думаю. Вы любите Зину, и вы не должны говорить мне о любви, так как ваша любовь принадлежит другой. Она, вероятно, славная девушка. И любит вас. Она ни в чем не виновата перед вами. Вы мне сказали, — она дочь человека, виновника смерти вашего брата. Но ведь она в то время была ребенком?
— Да, она ни в чем не виновата.
Темыр произнес это угрюмо и посмотрел рассеянно вслед прозвеневшему трамваю.
Они долго шли молча.
Надя решила сказать Темыру самые теплые слова. Склонив головку в зеленом берете, она заглянула ему в глаза.
— Вот, дорогой Темыр, вы уже скоро поедете на каникулы в родную Абхазию и женитесь на Зине. Привезите ее с собой в Москву, не надо, чтобы она страдала без вас. Ей одной труднее, чем вам. А вдруг вы потеряете такую любимую, хорошую девушку? Потом не вернете!
Темыр уже думал об этом.
— Привозите ее с собой. И она сможет учиться или работать. Я с удовольствием подружилась бы с ней. А как ей было бы интересно в Москве!..
Темыр не проронил ни слова, слушая Надю. Ему было радостно, что ее слова отвечают его мыслям.
— Вы — новый человек, Темыр, и вы должны жить новой жизнью вместе с Зиной, а не думать о старых законах предков.
Она упрекнула Темыра, и это задело его самолюбие. Он ответил ей не без гордости, что он отверг закон кровной мести, он не убил своего врага. Но войти в дом убийцы своего брата, сесть за стол, назвать кровного врага своим отцом Темыр не в силах. Да и все осудят его за это...
Темыр и Надя давно миновали Тверской бульвар и шли дальше по бульварному кольцу столицы, не обращая внимания, куда они идут. Они спустились уже на Трубную площадь и поднимались по крутому подъему к Сретенским воротам. По небу плыли с юга золотисто-розовые облака.
— Так вот, Темыр, я расскажу вам тоже свою маленькую историю. Я училась еще в средней школе, когда мой отец, — он по специальности горный инженер и часто уезжал, — совсем не вернулся домой. Он написал письмо маме, что полюбил другую и чтоб больше его не ждали... Я не могу судить его за это. Я не судья его поступков. Но он бросил семью нас, четырех детей, и не захотел нас видеть. Он ничем не помогает маме, а ей очень трудно... Он исчез. Мама его долго искала. Есть закон — надо думать о детях. Мы узнали, что он работал сперва на Урале, потом уехал на юг, и совсем недавно нам стало известно, что он в Абхазии.
— У нас?.. Что же вы не сказали раньше? — воскликнул Темыр.
— Это еще не совсем точные сведения... Он скрывается, чтобы не платить деньги... Вот видите, что сделал нам наш отец. Но разве в чем-нибудь виноваты мы, его дети? — спросила Надя.
— Конечно, нет.
— Точно так же дочь вашего, как вы его называете, кровника не отвечает за преступления своего отца. Не правда ли?
— Да, Надя, вы правы, но... трудно переделать сердце.
Темыр приводил свои старые доводы. Надя с ним спорила.
— В вашем сердце две половины. В одной — любовь к Зине, в другой — ненависть к ее отцу. В первой вся ваша будущая жизнь, а в другой — груз прошлого. Тяжелый груз, Темыр, но вы должны от него навсегда избавиться.
Темыр с удивлением спросил себя: почему никто не говорил с ним так убедительно, как эта девушка? С той минуты, как он раскрыл Наде свою тайну, рассказал ей о своей любви к Зине, все мысли его перенеслись на родину. И чем больше теперь Надя говорила о той, которую он так давно и так печально любит, тем более острой становилась его тоска по Зине. Ему стало совершенно ясно, что он любит на всем свете только одну Зину, что никто и никогда не сможет ее заменить. Вместе с тем он проникался благодарностью к Наде. Она стала ему, как сестра.
Они шли рука об руку, как влюбленные. Но это была другая любовь, основанная на дружбе. Как много разных чувств и отношений скрывается под одним и тем же словом — любовь!
Темыр и Надя дошли до Мясницких ворот. Надя сказала, что ей нужно зайти на почтамт, он был рядом. Темыр подождал, пока Надя спрашивала у окошка «до востребования». Она спросила письмо на свое имя, зная что все равно письма нет и не будет. Она ездила на почтамт уже два месяца, и блондинка с веснушками, выдававшая письма, ее уже приметила. И вдруг:
— Вам сегодня есть письмо...
С горящими глазами Надя разорвала конверт, зная, от кого письмо. Она получила его от отца из Ткварчели. Никто не знал, что она написала отцу. Это было еще зимой, когда знакомая, приехавшая из Абхазии, рассказала тете, что пропавший отец бывает в одном доме у какого-то инженера в Ткварчели. Надя написала коротенькое письмо, начинавшееся словами: «Папа, неужели ты меня забыл...» Конец письма был залит слезами, которые пришлось вытирать промокашкой. И вот на письмо, посланное в Ткварчели, пришел ответ. Отец приглашал ее приехать в отпуск в Абхазию, обещал выслать деньги.
Темыр переживал радость вместе с Надей. Как хорошо выходит: она приедет летом и познакомится с Зиной. Их судьбы неожиданно сблизились.
Проехав с Надей на трамвае, шедшем через центр до Никитских ворот, Темыр простился с ней, как всегда, у дверей ее дома. Потом он поспешил в общежитие.
Был воскресный вечер, и большинство студентов веселилось в своем клубе. В комнате не оказалось ни Игната, ни Гафура. На столе Темыр нашел написанную карандашом записку: «Если ты, бродяга, придешь раньше нас, вскипяти чайник».
Выполнив просьбу товарищей, Темыр подошел к фотографии Зины, висевшей над его кроватью. Вырезка из газеты, однотонно серая, казалась ему чудеснее живописных портретов. «Зина, моя Зина... Как я мог отказаться от тебя?» У него явилось непреодолимое желание увидеть ее сейчас же. Если б он мог полететь к ней! Как он хотел бы быть с ней вместе в эту минуту и сказать о любви, которая переполняет его сердце. Что она думает о нем? «Милая, бедная Зина, сколько ты выстрадала! Теперь этому конец!»
Он вынул из стола бумагу. Все в нем дрожало. Он напишет ей, что любит её, чтоб она ждала его, что они поженятся...
Но надо написать ей все, что он понял и чего она еще, может быть, не поймет.
«Милая Зина, родная моя, забудь все то горестное, что было между нами, — писал Темыр, а мысли его бежали с такой быстротой, что перо бессильно останавливалось. — И мое сердце было разбито, будто все наши горы свалились и придавили его своей тяжестью. Так я был задавлен старым проклятым обычаем».
И вдруг опять припомнилось eмy его ночное видение — приход Пахуалы и Мыты, вой собаки во дворе... В памяти ожил номер ружья, и цифры запрыгали перед его глазами, и встало лицо Ахмата. «Нет! Не боюсь я призраков прошлого!»
Он продолжал писать о том, что в Москве он стал совсем другим, новым человеком.
Необходимо написать о Наде... Но как? Поймет ли Зина, что встреча с Надей, увлечение ею, были проверкой для него, укрепили его любовь к Зине и что Надя будет другом для них обоих...
«Чертовски сложная штука жизнь!» — думал Темыр.
Он разорвал уже несколько черновиков письма. И в конце концов решил, что будет лучше всего рассказать ей все лично. Не надо сейчас писать, что он женится на ней. Вдруг письмо попадет в их деревне в чужие руки? Ведь все равно скоро Темыр поедет домой, они увидятся...
Вы хотели бы, дорогой читатель, чтобы Темыр был более решительным человеком, окончательно и бесповоротно рвущим со своим прошлым, идущим прямо вперед по верному пути, который ему все указывают и который совершенно ясен нам с вами, чтобы он смело устраивал свое счастье с Зиной. Но правда состоит в том, что не все так легко иной раз, как кажется со стороны. И наш Темыр не поступает так, как мы ему подсказываем.
В комнату ворвались веселые Гафур и Игнат. Темыр едва успел спрятать исписанные листочки под свою подушку.
XXVI
В Москве начиналось лето. Стояли жаркие июньские дни с внезапными короткими грозами по вечерам. В подмосковных лесах отцвели ландыши и пахло свежей зеленью хвои. Готовясь к экзаменам, Гафур, Игнат и Темыр иногда на целый день уезжали за город. И каждый, отрываясь иногда на минутку от книг, мечтательно вспоминал о своих далеких краях — о лугах Якутии, недавно освободившихся из-под снега и голубеющих весенними цветами, о желтых сладких абрикосах, созревающих в Узбекистане, о теплом море, которое манит купаться, в Сухуми.
Кончились благополучно экзамены.
Москва, до свидания!
Темыра провожали Гафур и Игнат. Они шли к приземистому длинному зданию Курского вокзала. Сочинский поезд отходил через час. Темыр уезжал раньше всех. Он не хотел оставаться ни одного лишнего дня, так спешил домой, хотя был совсем одиноким, в сущности — круглым сиротой, без братьев и сестер. Но он чувствовал, что его надет Зина. В письме к Михе он написал, что скоро приедет, и просил передать привет Зине, чего раньше не делал.
Друзья зашли в буфет и выпили несколько кружек пива на прощанье. Мимо высоких окон с грохотом прошел пассажирский поезд. Скоро начнется посадка.
— Признайся, Темыр, — сказал Игнат, — эта девушка, чей портрет был напечатан в газете, — ты снял его со стены и везешь в чемодане домой, — она вовсе не сестра тебе? Правда?
— Признаюсь, правда.
— А я об этом уже давно догадался, — рассмеялся Гафур. — Боюсь, на тот год вы приедете с женами, и придется мне жить с другими ребятами, а к вам ходить в гости.
— Ничего неизвестно. Смотри, Гафур, может быть, ты сам привезешь красивую узбечку, — погрозил ему Темыр. — Не спрячешь ли ее от нас под чадру?
— Подожди, я еще приеду к тебе и женюсь-таки на твоей «сестре»! — ответил Гафур.
Шутя и смеясь, товарищи спешили к выходу на перрон. Как часто под шуткой мы прячем горечь разлуки!
Толпы пассажиров стояли у вагонов. Проводник проверил билет и впустил Темыра в вагон. За ним зашли его друзья.
Второй звонок... Он еще раз обнял товарищей. Ему не хотелось расставаться с ними. Темыр услышал пронзительный свисток паровоза и, выглянув в окно, увидел, что здание вокзала сдвинулось с места, а друзья его бегут за вагоном и машут рукой.
Темыр поставил на верхнюю полку чемодан и сел на свое место.
Кто знает, сколько прошло времени, Темыр ни с кем не разговаривал и ни на кого не смотрел.
«Еду домой, — потупясь, размышлял Темыр. — Что-то меня ждет? Как встретит меня Зина?..»
Один из соседей Темыра, стоявший у окна, оглянулся, и Темыр почувствовал на себе пристальный взгляд. Но сосед быстро отвернулся и снова начал следить за мелькающими телеграфными столбами, дачными домиками и обширными новостройками, возникающими там и тут под Москвой.
«Что Зина мне ответит? Ведь я же сам, сам отказался от ее любви! А если она уже сосватана и должна выйти замуж за другого?»
Никогда Темыр так не волновался. Он предпочел бы умереть, чем видеть Зину в чужом доме, женою другого. Вот что сделал «закон предков» с его жизнью!
Москва уже далеко позади; пассажиры столпились у дверей. Темыр поднял глаза и увидел перед собою Мыкыча. Эго он стоял все время отвернувшись. Неприятно пораженный, Темыр подумал:
«Что за наваждение!»
— О, да это ты, Темыр! Какими судьбами? — Мыкыч с притворной радостью протянул руку.
Темыр, как полагается, приподнявшись, вежливо, но неуверенно пожал руку Мыкыча.
— Не будете ли добры поменяться со мной на минутку местами? — обратился Мыкыч к соседу Темыра.
И он присел рядом с Темыром. Возможно, пассажиры думали, что эти два человека обрадовались друг другу, но неприкрытая вражда сковала лицо Темыра, и только Мыкыч лебезил. Мыкыч сильно изменился, похудел, унылые складки легли у рта. В коротко остриженных волосах искрилась редкая седина, он утратил прежнее высокомерие, но только одно было прежним — изворотливость, блестевшая в воровато бегающих глазах. Изворотливость была и в подлой угодливости речи.
Темыр спросил прямо:
— А на этот раз как ты освободился, Мыкыч? Отбыл срок или... так?
Глаза Мыкыча забегали, и он торопливо подхватил:
— Ну, как же «так»! Разве «так» полагается? Отбыл! Отбыл свое, и теперь я опять равноправный член общества, если, впрочем, от меня будет польза. — Он сладко улыбнулся. — А ты что делал?
Темыр сухо ответил:
— Учился и работал.
— Ах, учеба! Золотые слова! Хвала господу... Вот ты уже ученый человек, ты один уцелел из всей вашей семьи. Немало тебе, бедному, пришлось перенести трудностей. Наконец наше село обогатится вполне образованным человеком!
Темыр взглянул на Мыкыча насмешливыми глазами:
— Да, говорят, «ветка сама нагибается к козе, которой не суждено умереть...» Наше время благоприятствует честным людям.
— Наше время, конечно, для всех благоприятно, — торопливо подхватил Мыкыч, — кроме, может быть, такого несознательного элемента, каким оказался я.
Мыкыч был все так же суесловен.
Темыр неопределенно произнес:
— Да!
Взгляд Мыкыча иногда набегал на Темыра, иногда глаза его устремлялись в сторону. Мыкыч спросил:
— А что слышно, Темыр, какие новости из нашей прекрасной Абхазии? Давно имел письма?
— Письма есть и в газетах сообщают, что люди вступают в колхозы.
— Вот умные люди! Конечно, и женщины тоже там? Где еще быть нашим прекрасным женщинам! Все это можно было предвидеть. Да, Темыр! Безумство омрачает мозг и загоняет человека в гроб. Вы все меня, разумеется, простите за мою глупость.
Темыр мрачно молчал, а Мыкыч тараторил, как по писаному:
— Я не понимал сущности нашего времени, перспективы мне были открыты, а ведь это так важно! Меня многому научили там, где я был.
— Где ты был?
— На строительстве Беломорского канала. Еще раз подтверждается пословица: «Виденное глазами стоит головы». Там я и в соцсоревновании участвовал.
Темыр взглянул на Мыкыча.
— Так ты работал на канале?
— Да. В бригаде землекопов. Ты взгляни-ка, — Мыкыч вытащил из кармана книжку и раскрыл ее.
Темыр недоверчиво и бесцеремонно заглянул в нее и прочитал, что Мыкыч работал в бригаде землекопов и отбыл свой срок.
— А теперь я и в колхозе поработаю, — продолжал Мыкыч, похлопывая коленкоровым переплетом книжки по колену, — оправдаю себя ударной работой, душу вложу в колхоз. Это же золотое дело!
Темыр пристально взглянул в бегающие глаза; нет, трудно поверить, что этот человек — Темыр хорошо знал Мыкыча! — так сильно изменился.
Поезд спешил на юг. Мыкыч вертелся вокруг Темыра, на станциях бегал за кипятком, приносил непрошенное угощение. Прежде они были врагами, которые, как говорит старая пословица, «не могли уместиться под красной алычой» [28], а теперь они будто бы мирно сидели рядом.
Прошла добрая половина пути, поезд с грохотом мчался по широкой степи; в некоторых купе слышались полусонные разговоры. Прошел проводник, осветив фонариком лица пассажиров.
Мыкыч снял с полки чемодан и вежливо сказал:
— Надеюсь, Темыр, ты со мной разделишь мою, можно сказать, скромную закуску?
Темыр с отвращением глядел на приготовления Мыкыча: вероятно, он так угощал одураченных крестьян на своем «молении». Но пренебречь приглашением нельзя, надо соблюсти закон отцов. Темыр, вспомнив, как когда-то Мыкыч отказался от его угощения, с неохотой взял ломтик французской булки и сказал:
— Мне кое-что надо выяснить.
— К твоим услугам!
— Дело прошлое. Скажи, пожалуйста, как ты узнал, что моего брата убил Ахмат?
Мыкыч заерзал.
— Может быть, ты отведаешь этой икры. Она, правда, немного горьковата, но это признак ее свежести.
Он замялся.
— Видишь ли, я получил записку от Мурзакана...
— Он тебе ее отдал?
— Да.
Мысль, что убийство Мыты Ахматом произошло при иных обстоятельствах, внезапно, как молния, прорезала сознание Темыра. В ночном полумраке вагона Мыкыч не мог видеть, как изменилось лицо Темыра. Стараясь казаться равнодушным, Темыр спросил, будто только из любопытства:
— Но, помнится, ты же мне сказал, что расписку нашел случайно?
— Тогда нужно было так говорить, не мог иначе... Понимаешь меня?
Мыкыч громко вздохнул и стал есть бутерброд с икрой.
Темыр помолчал, не обнаруживая нетерпения. Потом спросил снова:
— Все-таки, может быть, скажешь мнe, кто же убил моего брата, Ахмат или Мурзакан?
— Стрелял Ахмат, но...
— Что — но? Говори же!
— За смерть сестры Ахмату следовало убить самого Мурзакана, а не твоего брата. Вот какое дело. Я говорю о нем, потому что не те уже времена. Мурзакан умер. А я теперь перековался. Сам видишь.
— Значит, мой брат даже не виновен в гибели Ансии?
— Ансия в то время жила у Мурзакана, а жена Мурзакана лежала в больнице... Понимаешь?
— Вот оно что!
Темыр все понял: и его брат Мыта, и Ансия, и старый несчастный Ахмат, и он сам, и Зина — были жертвами Мурзакана. Но не врал ли снова пройдоха Мыкыч?
— Я и до этого кое-что слышал, — продолжал Мыкыч, — как от самого Мурзакана, так и от его жены, как это случилось, что был убит Мыта. Но, кроме того, я еще помню красавицу Ансию...
«Да, ясно, Мыкыч знает даже больше, чем он говорит...», — не выдавая своего волнения, Темыр молчал.
— Ты сам понимаешь, я объединил «одно обстоятельство с другим обстоятельством и сделал вывод. — Мыкыч горячо добавил: — Как видишь, я тебя не обманываю!
Темыр, глядя на ломтик французский булки, небрежно спросил:
— Ну, а заявление о том, будто я растратил кооперативные деньги, ты написал?
Глаза Мыкыча забегали по сторонам, он мельком взглянул на Темыра, а затем произнес с откровенной, холодной насмешкой:
— Темыр, ты человек умный. Я тебе сознался в самом страшном, а теперь вижу: ты решил — раз уж встретил Мыкыча — получить от него ответ на все все вопросы. Или, может быть, ты хочешь заставить меня признаться во всех моих старых грехах?
— Нет, просто так.
— Право, ты попробовал бы икру... Она горьковата...
— Нет, мне хочется знать, не ты ли написал эту записку?
— Куда мне деваться! — Мыкыч развел руками. — Все это в прошлом. Больше запиской, меньше запиской... Факт то, что это не повторится. Смысл нашего времени в том, что...
— Будет тебе, — махнул рукою Темыр.
Они недружелюбно взглянули друг на друга.
...Солнце мягко и ярко освещало Сухумскую гору, когда Темыр и Мыкыч сошли с парохода и ступили на берег Сухуми. Прибрежные пальмы, освещенные ранним солнцем, напомнили Темыру его первое расставание с Абхазией. Мыкыч, что-то промычав под нос и не простившись, пошел на станцию автотранса, а Темыр, вдыхая свежий утренний воздух, решил походить по городу.
XXVII
Мыкыч вошел в село, которое для него как бы не существовало уже несколько лет. Его удивили происшедшие перемены.
Дороги, где прежде стояла непролазная грязь, из которой волоком приходилось вытягивать застрявшие арбы, теперь были ровны, покрыты щебенкой. Никогда не засевавшиеся целинные земли вокруг деревни тщательно вспаханы, и на широко раскинувшихся плантациях, едва колыхаясь под ветерком, высилась обильная поросль табака.
Мыкыч робко огляделся. Казалось, перепахана вся его жизнь. Его существо, его дыхание растворено, уничтожено на этой земле. Угодья, которые раньше считались непригодными для посевов, покрыты молодыми рощами; там, где когда-то рос буйный папоротник, земля огорожена и засажена новыми культурами — чаем, геранью, тунгом, молодыми мандариновыми деревьями, а вот и благовонная лаванда — то, чего Мыкыч раньше никогда не видел на этих землях.
Мыкыч приближался к большим табачным сараям. Он осторожно заглянул в один из них, — здесь могло поместиться триста сушильных рам... А сколько видно вокруг новых жилых домов!
Удивительно пока он томился на чужой стороне, родная деревня как бы забыла о его существовании. Деревья и те стали неузнаваемыми, словно притворились угрюмыми чужаками: «Проходи мимо нас, проходи, чего зазевался!»
Мыкыча охватил внезапный страх, он не узнавал самого себя; он боялся за свою судьбу, и в нем нарастал все тот же испытанный им прилив ненависти ко всему новому.
А тут еще небо покрылось разорванными, медленно сливающимися тучами, заморосил дождик; казалось, солнце ушло с неба, увидя Мыкыча.
Мыкыч накинул пальто, высоко поднял воротник, спрятал в него лицо — и от дождя, и чтобы какой-нибудь знакомый не узнал его.
Он еще недавно держал это село в своих руках, никогда не ходил, а только ездил верхом на скакуне, украшенном наборной уздечкой, в седле, убранном позументами. А теперь он — путник, обрызганный грязью.
Быть прохожим в родном селе — это обидно, горько! В Мыкыче зашевелилась старая спесь. Он мог ходить где угодно, но в своем селе ему нужна верховая лошадь — он должен глядеть сверху вниз на сельскую мелюзгу. Еще кто-нибудь взглянет, молча усмехнется: «Ага, и ты, сын Кадыра, ходишь пешком, как странник, как побирушка!»
Мыкыч почувствовал, что вся кровь хлынула в лицо. Увидев в отдалении надстроенный этаж сельсовета, он свернул с шоссе и направился по проселочной дороге, где светлели новые маленькие мосты над ручьями. Мыкыч вышел к каменистому берегу речки, но и здесь, к его удивлению, уже не было троп, которые он прежде знал.
«Что же произошло? — думал он, подавленный. — Где старая аробная дорога?»
Он огляделся вокруг: неподалеку тянулась стройная линия телеграфных столбов, — это тоже путь к сельсовету. Мыкыч пожал плечами и вышел на шоссе...
Не думал он, что в родном селении придется искать для себя какую-то свою особую тропинку. Здесь были заросли кустарника, а теперь осталось одно старое огромное ореховое дерево. Только это осанистое дерево оставили, словно для памяти о прошлом облике деревни. Да, что ни говори, все изменилось в этом мире...
Мыкыч вздохнул и затуманенными глазами посмотрел вдоль незнакомой дороги, а затем, словно на решетки тюрьмы, взглянул на линию телеграфных столбов, осмоленных снизу.
Для кого — улучшение, а для Мыкыча — это крышка гроба!
Не пересекая реки, Мыкыч пошел мимо наносных пестрых камней берега. Он со страхом приближался к своему дому. Когда он миновал место, которое прежде называлось «бывшим жильем Хапары», до него донесся веселый шум — возгласы играющих детей. Мыкыч вздрогнул и прислушался: звуки, несомненно, шли из дома Кадыра. Кто заселил отцовский дом этим смехом, этим довольством?
Мыкыч встревожился. Кто знает, все ли благополучно в доме отца?
Подкрадываясь к родному углу, он все явственнее слышал задорные детские голоса и, наконец, увидев родную крышу, застыл на месте. Он не мог двинуться по крайней мере добрых десять минут, а когда подкрался ближе, увидел — во дворе резвились школьники, ими был полон двор. На дворе круг для игр, качели. Все чужое, чуждое!
Холод пробежал по телу, в висках заныло, Мыкыч едва устоял на месте.
«Да обойду я, боже, вокруг золотых твоих ступней. Ты взгляни, господь, на веранду, туда, где спокойно разговаривают друг с другом эта незнакомая девушка и этот молодой человек...»
Мыкыч обомлел, глядя на них, но скоро кровью заволокло его взгляд, он вбежал во двор, не помня себя. И после он не мог вспомнить, как очутился во дворе и в доме. Он скользнул мимо девушки в свой дом, в дом отца, Кадыра.
Но где же комната Мыкыча и большая горница, где стояла тахта старика?
Черно-желтые парты и глянцевито-черные доски; на стенах, где раньше пестрели ковры, — карта мира, экономическая карта края, портреты.
И Мыкыч понял, что произошло. Кровь прилила к голове, лицо потемнело. Он стоял чужак-чужаком в доме, где родился. В комнату вошел учитель, его Мыкыч видел на веранде. Молодой человек вежливо спросил, что нужно Мыкычу.
Мыкыч мрачно, сквозь кровавый туман, взглянул на учителя. В голове колокольчиками звенела кровь. Не сказав ни слова, Мыкыч выбежал из дома. За ним, казалось, раскачивались гигантские качели. Он бежал по полю, по пустошам, бежал без дороги, как волк...
Учитель вышел вслед за Мыкычем на веранду и сказал девушке:
— И разговаривать не захотел!
Девушка посмотрела вслед.
— Бежит... Безумный.
— Нет, пожалуй, не безумный, а судя по его растерянному виду, это бывший владелец дома... Я слышал, он где-то в ссылке.
Раздался звонок. Дети собирались в классы.
...Мыкыч, не останавливаясь, бежал к своему «однофамильцу» Швараху. Но в доме Швараха никого из старших не застал; на дворе играли дети. Мыкыч спросил об отце. Малыш ответил, что Шварах в колхозе, на работе.
— Ты, может быть, слышал, братец, где теперь проживает Кадыр?
Мальчик удивленно повторил это имя.
— Да, — торопливо подтвердил Мыкыч, — я спрашиваю про Кадыра, где он?
— А их всех уже прогнали, — беспечно ответил мальчик. — Говорят, Кадыр давно умер.
— То есть как это умер? Не умеешь говорить как следует, так молчи и не болтай глупостей! — воскликнул пораженный Мыкыч.
Мальчишка испугался и, не спуская глаз со странного незнакомца, всем телом прижался к младшему братишке, который стоял так же неподвижно, испуганный, выпятив живот и со страхом глядя на Мыкыча.
Весть о смерти отца пришибла Мыкыча. Он долго не двигаясь глядел на камень, лежавший у ворот, потом сел на него и сам словно окаменел...
В тот же вечер на одолженной у Швараха приземистой толстобрюхой кобыле, беспрестанно обмахивающейся пышным хвостом, Мыкыч с заплаканным лицом въехал во двор сестры Ханифы. Старший племянник Мыкыча Омахь — он сильно изменился, вырос — сразу же узнал дядю.
— Мыкыч... Неужели это едет Мыкыч!? — воскликнул Омахь с восторгом, бросился навстречу и поддержал стремя.
Мыкыч, слабо усмехнувшись, морща лоб, сошел с лошади. Зайдя в дом, он холодно поцеловал сестру и мрачно опустился на тахту. Его лицо дрожало.
— Несчастный наш отец бесславно погиб, никем не оплаканный.
Сестра вздыхала.
— И отец погиб, и все наше добро...
— Честное слово, я совсем не узнал нашего селения... — Сестра, не слушая, вздыхала.
— Пришлось пережить неслыханное горе, Мыкыч.
— Подумать только! Живу я или уже не живу?
Ханифа подперла дряблую щеку ладонью. Мыкыч молчал.
— Даже наш дом... — пробормотал он, как в беспамятстве.
Ханифа внимательней взглянула на брата.
— Как же это ты целым и невредимым ушел от них, нан Мыкыч?
— Так, — ответил он безразлично.
— Но все-таки, как тебе удалось вырваться из их лап? Ох, и не думала я, что увижу тебя живым, — так нам не повезло! Теперь мне уже ничего не нужно, ты со мной.
— А какая польза от того, что я вырвался, если наш дом превратили в эту школу, обезобразили чужими детьми? Что я застал здесь? Мы разорены. Где наша земля, где наши верховые лошади? Наш дом — какая-то дрянная школа.
Сестра протянула руку, но не посмела опустить ее на плечо брата.
— Ты ведь мужчина! Мало чего приходится переносить мужчине?! Бывает еще и не то, когда сходятся два врага. Они нас победили, они забрали наш дом, они поставили на отцовском дворе качели, но придет время, и — да обойду я вокруг золотых ступней господа! — он увидит всю правду и поможет нам победить этих злодеев. Видишь, брат, я не падаю духом, не робею.
Мыкыч взглянул сонными глазами на сестру и спросил:
— Ты, кажется, тоже сидела?
— Сидела. Месяц, как выпустили.
— За что они к тебе придрались?
— Да я травила коров. Жаль, мало...
— А как открылось дело? Кто тебя выдал?
— Кто выдал! — Ханифа злобно воскликнула. — Дай бог, чтоб я оплакивала ее смерть! Как только дела стали плохими и нас прижали, распрекрасная наша кормилица Марика... ты ее помнишь? Только подумай!.. Она пришла в сельсовет и сказала, что это я и она травили скот, — ну ты подумай!
Глаза Мыкыча злобно засияли.
— Хай, чтоб ей добра не видать в старости. Ее, ослицу, тоже посадили?
— За что же ее сажать! Она заявила, что я ее вовлекла обманом, и когда выяснилось, что все дело моих рук, ее и вовсе отпустили. Сейчас Марика в колхозе.
Мыкыч тихо посвистал, сложив губы трубочкой.
— А когда умирал отец, ты была уже на свободе?
— Я тогда еще сидела. — Лицо Ханифы омрачилось. — Бедный наш отец умер, кто прикрыл его сладкие глаза?! Нет ни отца, ни дома, ни лошадей, ни волов, ни земли. — Ханифа со стоном вздохнула и, помолчав, воскликнула: — Ничего!! Мы все-таки когда-нибудь выполним долг мести за отца, за все! «Река следует по своему руслу», все должно идти своим чередом, и не может быть, мой Мыкыч, чтобы наше собственное добро навсегда осталось в чужих руках, чтобы на нашем дворе стояли какие-то качели...
— А кто его знает...
— Как кто знает? Разве эти сопливые чужие дети — хозяева нашему дому? Не может быть того, брат, чтобы мы когда-нибудь не отобрали своего добра.
— Ох, мама, — сказал, досадливо вздыхая, Омахь. — Стыдно тебе, мать, — повторил он с укором. — Опять принимаешься за старое, опять затеваешь гадости!
— Молчи!
— Перетравила у людей скот, бессовестная!
Ханифа с гневом посмотрела на сына.
— Как ты смеешь так говорить с матерью! Кто тебя научил так со мной разговаривать?
— Зачем ты травила?..
— Это не твое дело, я твоя мать! Молчи!
Мыкыч сердито, но с любопытством взглянул на племянника.
— Да, правда, лезешь, куда не следует, друг мой. Ты должен уважать мать, слушаться.
Омахь сжал губы и вышел из комнаты.
Мыкыч рассказал сестре о себе, о том, как отбыл срок и как его освободили. На дворе залаяли собаки.
У калитки стоял почтальон. Омахь взял у него конверт, вбежал в дом; в конверте было письмо из Ташкента от человека, высланного вместе с Махметом. Он извещал, что Махмет долго болел и скончался.
— Боже, скоро не будет в этом доме ни одного человека, который почтил бы тебя!
XXVIII
Темыр вернулся, видел Зину... И ничего еще не решено.
Все, что казалось ясным в Москве, снова спуталось, Что же произошло? Как будто ничего! Темыр был другим человеком в Москве, он знал, что он должен сделать, — вернувшись домой, все перестроить по-новому. И не смог этого сделать.
Когда вечером, сойдя с автобуса, он шел, почти бежал в свою деревню, — так хотел скорее все узнать о Зине, увидеть ее, — он неожиданно встретил ее, но не одну. К одной подошел бы. Зина шла с работы с большой группой женщин, со своими подругами-колхозницами. И он не решился подойти к ней, стиснул зубы, чтобы не крикнуть, не позвать ее. Только взгляды их встретились, и Темыр поклонился любимой, как и всем, и прошел мимо.
Деревня, где он родился, люди, которых он знает с детства, родной язык, на котором он снова стал говорить, горы, освещенные поднявшейся луной, стены его одинокой отцовской пацхи — все напоминало ему о цепкой силе обычаев.
Темыр испытывал жгучее чувство стыда при мысли, что скажут в деревне, если он объявит, что женится на Зине. Может быть, кто-то уже знает, что Ахмат его кровник, может быть, тот же Мыкыч пустил этот слух и люди уже давно шепчутся об этом. Как же он войдет в дом Ахмата его зятем? Что скажут люди?
Нет, это невозможно. И снова гнетущие мысли, снова знакомое одиночество... Нет, его желанная встреча с Зиной не озарится солнечными лучами.
У Темыра не нашлось сил, чтобы порвать со всеми предрассудками, хотя он больше не думал о кровной мести. После разговора в поезде с Мыкычем он от всей души пожалел несчастного, обманутого Ахмата. Как было бы глупо, если бы он убил его!
Явилась одна мысль, которая сейчас утешала Темыра и согревала его сердце. Он думал, что, может быть, лучше всего будет осенью договориться с Зиной и уехать вдвоем в Москву. Пока еще он не говорил с ней об этом. Зина сама избегала встречи с ним.
Темыр побывал в районе, вернулся и пошел в правление колхоза. Двери были заперты. Темыр прошелся по веранде, положил свой портфель на перила и спустился по лестнице.
С другой стороны дома подошли мужчина и женщина и отперли дверь. Темыр, услышав звон замка, вернулся. За столом сидел Миха, а рядом Зина. Перед ними лежал портфель Темыра.
Миха поднялся и задержал руку Темыра в своей руке.
— По этой штуке, — он указал глазами на портфель, — я догадался, — ты здесь...
Приподнялась и Зина с грустным выражением лица. Она еле ответила на его приветствие.
Миха внимательно взглянул на обоих.
— Давно нас ждешь, Темыр?
— С полчаса! Садитесь же, садись, Зина.
Темыр подошел к столу и сел против Зины, глядя в сторону.
— А у нас, видишь ли, тут некоторые затруднения, — сказал Миха. Он бросил карандаш и, выпрямившись на стуле, пристально глядел в лицо Зины, покрывшееся пятнами румянца. — Нашу Мактину отправили на учебу, и женская бригада осталась без учетчицы. Люди запутались при подсчете трудодней, и вот я подумал, что хорошо бы назначить учетчицей Зину.
Зина чему-то растерянно улыбнулась. Вероятно, она сейчас и не думала о предстоящей работе.
— Как полагаешь, Темыр, — продолжал Миха, — может Зина справиться с этим делом?
Зина настороженно вслушивалась. Темыр ответил:
— Я как раз и хотел предложить тебе назначить Зину учетчицей. Недавно я побывал на их участке, и женщины в один голос требуют только ее. Они считают, что Зина прекрасно справится.
Темыр не повернулся к Зине и не спросил, согласна ли она, а Зина сама хотела, как Мактина, ехать на учебу. Но не сказала сейчас об этом и, колеблясь, произнесла:
— Как хотите.
В этот приезд Темыра Зина не могла спокойно видеть любимого и в то же время не решалась заговорить с ним. Она всегда помнила об ужасной преграде, разделившей их. Пусть ей хочется всегда видеть Темыра возле себя, пусть он дорог ей, но он не должен знать об этом. Ведь им надо разойтись.
Вошел счетовод с бумагами. Зина поднялась и вышла в соседнюю комнату. Темыр посмотрел ей вслед и не смог перевести дыхание. Он старался вслушаться в слова Михи, говорившего о колхозных делах.
Темыр на этот раз был даже доволен тем, что в правление вошел Мыкыч: можно, по крайней мере, думать о нем, а не о Зине.
Вопросительно улыбаясь, Мыкыч осторожно присел на стоявшую поодаль длинную скамью. Темыр притворился, что не заметил его, и продолжал разговор с Михой. Мыкыч внимательно прислушивался и переводил вопрошающий взгляд с одного на другого. У него какое-то дело к Михе и Темыру, но они решили его не спрашивать, — пусть сам скажет. Наконец Мыкыч поднялся и так вкрадчиво, словно не сам давал Темыру бумагу, а брал ее, опустил на стол и расправил пальцами заявление с просьбой принять его в колхоз.
Темыр одним пальцем придвинул к Михе бумагу, еле взглянув на нее, а Мыкыч, сдержанно усмехнувшись, тут же со смирением достал из-за пазухи и подал уже прямо Михе документ о работе на Беломорском канале и досрочном освобождении за хороший труд. Миха внимательно его прочитал.
Мыкыч, подчеркивая то, что он проситель, вытянулся во весь рост. Темыр сказал ему небрежно:
— Что ж стоишь, садись.
— Авось не упаду, постою, — угодливо ответил Мыкыч, отошел на цыпочках и сел на соседнюю скамью, но тут же снова поднялся, подошел к Михе и опять стал перед ним словно во фронт.
— Очень и очень перед тобой виноват, Миха, — сказал он почти с благоговением, — но глупого надо образумить, а не убивать. Мне хочется искупить вину, принять участие в коллективной работе, дай мне эту возможность...
Миха сухо ответил:
— Сейчас можешь идти, а когда поставим твой вопрос на собрании колхозников, скажем тебе.
Миха вложил заявление вместе с документами в конторскую книгу.
Мыкыч помолчал и смиренно произнес:
— Поступайте, как найдете лучше, я в ваших руках, и считаю это счастьем для себя.
Он медленно поклонился и не спеша вышел, словно с неохотой расставаясь с Михой и Темыром.
Миха сказал:
— Комедиант!
XXIX
Мыкыч мотыжил в бригаде колхозников, да так весело, будто никто не умирал в его семье и сам он не испытал еще так недавно унижения. Весело затягивал он песню, которую обычно поют, когда мотыжат, и шел своей взрыхленной полосой — вместе с Ахматом — в стороне от других. Остановившись, он скрутил папиросу и положил ее за ухо. Ахмат заметил:
— Да ты присядь, покури, никто с тебя не требует непрерывной работы. Или лучше давай-ка вдвоем присядем вот здесь.
Мыкыч вытер рукою лоб, взглянул на капельки пота на пальцах и присел в тень.
— Отдыхай, Ахмат, — сказал он кротко, — а я не могу. — Он снова стер со лба пот, и крупные капли упали на табачные листья. — Не присяду, пока не закончу полосы. Повырываем все сорняки, бросим под солнце — пускай оно палит сорную траву, кому она нужна!
С папироской за ухом он непрерывно, как машина, двигался вперед, очищая перед собою посевы от бурьяна. Ахмат уселся в тени под кизиловым кустом и закурил. До него доносился голос Мыкыча:
— Подлецом я, конечно, никогда не был, но уж дураком был отпетым, — говорил Мыкыч, мотыжа. — Боже мой, гнать меня надо было, гнать!.. Сколько глупостей я натворил по незнанию!
Ахмат молча докурил, взглянул на окурок и, воткнув его в землю, поднялся. Тяжело, по-стариковски опираясь на мотыгу, он пошел к полосе.
— Ах, если бы я все это знал!
— Именно что, дад Мыкыч?
— А то, что лучше колхоза ничего нет. Ей-богу, мы не знали ему цены, а теперь видишь, как мы дружно, любовно работаем вместе! — Мыкыч вздохнул. — Была пора, когда эта земля принадлежала мне, ее обрабатывали чужие и половину урожая брали себе, не сказав даже «спасибо», а сейчас эта земля — вот чудо! — принадлежит всем. Разве так не лучше?
— Что говорить, дад, ясно, что лучше! Да благословит тебя бог! Ведь вот как странно: когда тебя принимали в колхоз, кое-кто из нас по бестолковости был против, — побаивались тебя люди.
— Боже мой!
— Да, правду сказать, и сейчас еще, дад, тебе никто не доверяет. Но, конечно, если изменишься к хорошему, — ты станешь нашим человеком.
Слова Ахмата были от чистого сердца. Мыкыч, помолчав, произнес:
— Конечно, люди должны иметь время, чтобы узнать меня. Я давно понял, как и ты, что земля, созданная богом, принадлежит всем. Все ее хозяева, это правильно! — Он осторожно посмотрел на Ахмата. — Но только одно неудобство в колхозе: если у кого умрет родственник или заболеет, нельзя будет его навестить, вот что обидно, разрази его гром!
— Что ты! — запротестовал Ахмат. — По-прежнему я родственников оплакивал и больных навещал с тех пор, как вступил в колхоз, и никто меня за это не корил. Все, дад, зря болтают о колхозных строгостях!
— Э-э, Ахмат! Боюсь только, как бы дальше не было строже... не хуже, а строже. Разве что плохое может быть в колхозе? — Он усердно мотыжил. — Пока еще ничего, но вот потом...
Старик умиротворяюще заметил:
— Нет, дад Мыкыч, не тревожь себя, брось об этом думать. Пусть бездельники чешут языки.
На поле принесли обед, и Арсана, мотыживший среди поля, крикнул Ахмата и Мыкыча. Они положили на землю мотыги и пошли есть.
Миха и Темыр не спеша проехали по мосту через бурную речку Дгамыш и свернули, объехав папоротниковые заросли, в местность, заросшую дикими яблонями. Здесь они сошли с коней, чтобы дать им передохнуть. День был очень жаркий, и друзья удалились под густую тень низко свисающих ветвей. Миха скрутил папироску и опустился на землю.
Темыр сел рядом и поделился с Михой своими планами.
Темыр на время каникул работал ответприкрепленным райкома в родном селе.
Заговорили о Мыкыче.
— Не особенно ему доверяйтесь, он оброс еще более толстой корой лицемерия. Разве знаешь, какое зло он принесет колхозу? Конечно, пока мы можем сказать только одно, — Мыкыч старается работать, но человек он по-прежнему опасный, и я замечаю, что среди добрых слов он непременно пропустит и ядовитое словцо.
— Да мы и не полагаемся на него, — сказал Миха, — следим за каждым его шагом, и ты прав — легко ли перевоспитать бывшего кулака! Колхозники его приняли, но глаз не спускают, и если Мыкыч и теперь что-нибудь затеет, — тут ему и голову сложить...
Они помолчали, а затем, поднявшись, подтянули подпруги, вывели коней и тронулись в путь.
ХХХ
Мыкыч работал все лучше и хвалил колхозные порядки.
Однажды из колхозной фермы исчезла пара лучших волов. Искали повсюду — на равнине, среди зарослей мелколесья, среди дремучего папоротника. Колхозники обошли всю округу и нигде не нашли своих животных. Больше всех горевал Мыкыч...
Мыкыч считал пропажу колхозных волов очень большой бедой и со стоном восклицал:
— Нет, все-таки вы мне объясните, как так могло случиться, что наших волов украли! Я все жду, кто мне растолкует: какие люди осмелились совершить такое злодеяние? Ведь мы уже живем коллективной жизнью, а тут... воры!
Не щадя себя ни днем, ни ночью, он продолжал искать, но ничего при всем усердии не раскрыл.
— Это вражеский поступок, — заявил он в правлении колхоза. — Враги загубили наших волов!
Делать было нечего: пришлось колхозу купить пару новых волов.
Подходила осень. Люди были заняты на уборке, сараи ломились от табака.
Колхозники, ожидавшие в этом году хорошего дохода, забыли о пропавших волах и с головой ушли в полевые работы, в уход за урожаем. Кому не хотелось скорее попробовать желтой крутой мамалыги из муки нового урожая! С радостным нетерпением люди ждали и сбора винограда, чтобы попить маджар [29].
Как-то ночью Миха поднялся и пошел посмотреть на табачный сарай. Неподалеку от сарая был плетень, за ним — густой, невысокий молодой перелесок. Еще не дошел Миха до перелеска, как впереди блеснул огонек зажженной спички и тут же потух. Миха заметил его, но не обратил внимания и зашагал к сараю.
Но когда он подошел ближе, ему стало не по себе. Он остановился, пристально вглядываясь в темноту, и прислушался.
В темноте, среди мертвой тишины, не доверяясь ей, Миха вынул из кобуры револьвер и стал пробираться к сараю. Он бесшумно дошел до места, где, по его расчетам, вспыхнул огонек. Вокруг никого нет. Миха все так же медленно подошел к дверям сарая.
Внезапно к стене метнулась тень и растворилась во мраке. Миха вглядывался в черноту немигающими глазами, и ему померещилось, что тень скрылась в глубине сарая.
Тогда Миха решил спрятаться за столбом и дожидаться... Кто-то вскочил на рельсы, по которым двигаются сушильные рамы. Тень вытянулась во весь рост. Какой-то человек, по-видимому, придерживаясь одной рукой за плетеную стену, постоял мгновение, затем осветив себя зажженной спичкой, поднес огонек к сухим связкам табака.
— Стой! Ни с места, стреляю! — крикнул Миха и одним прыжком очутился рядом с человеком.
Спичка выпала из рук нового посетителя. Он молча вспрыгнул на Миху, но тот извернулся и вцепился в горло поджигателя.
Миха тоже ощутил цепкие пальцы на своей шее, а затем неизвестный стал пытаться вырвать револьвер из рук Михи, но это ему не удавалось.
Пыхтя, разгоряченные, они молча, яростно дрались. Один раз Миха ударил противника со всей силы в скулу, но от ответного удара почувствовал, что сердце замирает и плечи слабеют — вот-вот он упадет. В какую-то секунду Михе удалось, однако, выстрелить в воздух.
Сбежались люди — кто с пустыми руками, кто с мотыгой, а кто и с ружьем. Они навалились на неизвестного, молча в темноте связали сначала по ногам, затем крепким узлом охватили руки, и когда сразу зажглось несколько спичек и люди взглянули, все воскликнули:
— Э, да ведь это Мыкыч!
Он лежал, вытаращив глаза, и не смел отвернуться, смотрел на людей молча, с ненавистью.
— Бесстыжий! И мы тебе дали место среди нас... Теперь иначе с тобой поговорим.
На другой день после полудня Мыкыча отправили в Очамчира.
Чихия шел каменистым берегом реки и вспомнил: утром буйвол ударил ногами калитку и оборвал придерживающую ее петлю, свитую из подсохшего хмеля. Чихия решил разыскать прочного хмеля для новой петли и углубился в мелколесье. Он дошел до высоких деревьев и, прокладывая легким топориком путь, пробирался среди упрямых колючих зарослей ежевики. А вон и старое ореховое дерево, его ветви обвиты густым хмелем.
Чихия запрокинул голову, высматривая стебли покрепче, буйно разросшийся хмель длинными плетями тянулся с земли кверху и жилистыми щупальцами цепко обвился вокруг ветвей дерева. Чихия выбрал крепкий старый стебель, сильно потянул его, стащил, словно корабельный канат, на землю и очистил от боковых побегов; затем еще раз посмотрел вверх, шаря глазами, и тут его внимание привлекла гибкая ветка, конец которой изогнулся крючком. Она росла повыше того места, где раздваивался ствол.
Чихия пришло в голову, что эта ветвь может пригодиться в хозяйстве. Он обрубил колючки, обхватил ствол руками и полез, ветка оказалась еще лучше, чем он предполагал. Чихия срубил ее, бросил вниз, принялся искать еще такую же ветвь и вверху, над головой, нашел ее. Он и эту обрубил, затем заткнул за пояс топорик и, разохотившись, полез выше.
Когда он на большой высоте срубил еще одну ветку и ногой толкнул ее вниз, ветвь при падении увлекла за собой целую гирлянду подсохших старых колючек и заросли хмеля, и они упали, как занавес. Перед Чихия открылся широкий просвет, и он увидел небольшую, кем-то недавно вырубленную площадку, о существовании которой никто в деревне и не подозревал. Чихия проворно спустился и полез сквозь образовавшийся проход на площадку...
На стволе молодого дерева болтались две веревки. Вокруг дерева валялись кости. На земле, удобренной навозом, росла высокая, сочная трава. Чихия удивленно осмотрел полянку, заглянул в чащу, затем подошел к веревкам, потрогал их рукой и поднял большую воловью кость, ничего не понимая. Он совсем уже было решил уходить, как вдруг вспомнил об украденных волах. Вероятно, это кости колхозных волов!
Чихия еще долго стоял на месте, рассматривал веревки и кости, затем с трудом влез в колючую брешь, через которую проник сюда, добрался до тропинки и кинулся бегом в село.
Вскоре на поляне собралось много колхозников. Они глядели на кости и тяжело вздыхали, сокрушаясь о погибших волах. Они хотели узнать, как пригнали животных сюда. Люди рассыпались по лесу в поисках тайной дорожки и в одном месте над речкой с крутого откоса увидели уходящую в чащу еле заметную тропинку. Один из стариков сказал:
— Как ежа нельзя держать за пазухой, так и врагов, как бы сладок ни был их язык, нельзя держать в колхозе.
Так вот что проделал Мыкыч! На людях он отирал пот с лица, разглядывая свою натруженную ладонь, а в лесу его же руками были прирезаны колхозные волы...
XXXI
Иногда нерушимая тишина лежит на глади синего моря, и, кажется, конца-края не будет покою, но вдруг, словно беспричинно, смутится гладь и волны закипят на потемневшем море, — так изменчивы были переживания измученного сердца Темыра.
Скоро уж кончатся каникулы, а он еще не говорил с Зиной. Чем больше он думал, тем быстрее шло время, тем труднее ему становилось решить, что же делать дальше? Взять Зину в Москву, увезти ее тайно — достойный ли это поступок? Не вызовет ли это осуждения, и что будет потом? Как трудно бывает решать, кажется, простые для других вопросы. Люди женятся без этих мучительных раздумий...
Плохо то, что Темыр таил горе в своем сердце, не открывая его никому. Здесь не было ни Нади, ни Игната, ни Гафура. А поговорить с Михой он почему-то стеснялся. Наверно, это был ложный стыд. Темыр несколько раз готов был заговорить с Михой, но поймет ли его Миха?
Скоро уже день отъезда. Как-то раз вечером, когда он сидел в доме Михи, Хикур поджаривала на вертеле над очагом мясо, в огонь с шипением капал жир, распространялся аппетитный запах.
Как приятно наблюдать счастье и достаток в доме друга! Миха, протянув руку, брал вертел из рук жены и сам принимался поджаривать мясо, приговаривая:
— Живей, Хикур, скорей снимай с огня мамалыгу. Перед тобой волки, а не люди, так мы проголодались — Темыр и я!
Хикур сняла с надочажной цепи тяжелый котел с мамалыгой и размешала густое варево; затем она выложила мамалыгу прямо на хорошо вымытый узкий столик.
Утомленные и голодные товарищи, усевшись рядом, принялись за еду, а затем, вымыв руки, собрались спать. Темыр остался у Михи.
Миха разделся и погасил лампу.
— А мы хорошо сегодня выспимся, Темыр.
— Дома я плохо сплю, — ответил Темыр.
Его глаза закрылись, и он медленно повернулся к стене. Сон уже начал одолевать его, и снова, как всегда в минуты дремоты, перед ним возникла Зина... Стараясь не раскрывать глаз, Темыр вспомнил, как при всякой встрече в ней он ощущает острую жалость.
Конечно, он не ошибается, — девушке живется нелегко. Ахмат с Селмой состарились, силы их сдали, все работы переложены ими на плечи дочери; она приходит с поля — у нее нет минуты, чтобы передохнуть. Она ищет телок в перелеске, срезает серпом траву, чтобы накормить корову, готовит пищу старикам — все в доме поддерживается ее руками, но ни разу никому не пожаловалась Зина на усталость. В колхозе она по-прежнему одна из первых работниц.
С невеселыми думами Темыр лежал, вспоминая сегодняшнюю встречу в сельсовете. Зина была так откровенно печальна, точно просила снисхождения, а может быть, и помощи. В ушах зазвенели когда-то сказанные ею слова: «Если я понадоблюсь тебе, не жалей меня, пусть мы хоть умрем вместе».
Зина избегала встречи, а как им не встречаться в одном селе, на одной работе! Прикрепленный партийной организацией к селу, Темыр бывал на собраниях, где первой из девушек всегда видел Зину. Вероятно, Зина думает: «Темыр враждует с моим отцом, зачем же мне огорчать его, зачем попадаться на глаза». Темыр замечал, как часто она незаметно уходит оттуда, где он появляется.
Он подумал: почему Зина не выходит замуж? Разве он не сказал ей об этом? Разве она ему не поверила? Неужто, наперекор законам, наперекор воле Темыра и его словам, в сердцах обоих продолжает жить это горячее, упорное чувство?
И ему уже представилось, что если кто-нибудь заговаривает с Зиной о Темыре, девушка вздрагивает и пугливо оглядывается по сторонам. Вероятно, она боится услышать от кого-нибудь о том, что Темыра любит другая или он любит другую. Раз Зине не суждено стать женою Темыра, пусть и он не женится.
«Никогда ни на ком не женюсь, — шептали его губы. — Пусть все останется по-старому, пусть в булыжник превратятся наши сердца, но пусть и после смерти они покоятся рядом, на нашей родной абхазской земле».
Да, он знает, — много молодых людей ухаживают за Зиной, но она отклоняет их просьбы, она не выйдет замуж. Два камня будут веками лежать рядом — их умершие сердца!
Темыр снова — в который уже раз! — подумал, что надо было бы поговорить об этом с Михой.
Миха, кажется, не спит. Может быть, он слышит, как Темыр поворачивается с боку на бок?
Прошелестела простыня — Миха поднял голову с подушки и тихо прошептал:
— Темыр!
— Что? — немедленно отозвался Темыр, будто все время ждал, что Миха заговорит.
— Я подумал, ты не спишь.
— Не сплю.
— Темыр, мы с тобой любим и уважаем друг друга, — сказал Миха. — Ты младший, я старший, и оба как братья, хотя не одной матерью рождены. То ты был в Москве, то я упускал удобный случай. Давай поговорим о том, о чем ты больше всего думаешь.
Темыр почувствовал, что задыхается.
— Я хочу с тобой, Темыр, поговорить о твоем деле, то есть о Зине.
Темыр сразу вскочил и сел на постели.
— Так ты догадываешься, что мы все-таки любим друг друга? Скажи всю правду, что ты думаешь...
— Помнишь, я однажды зашел к тебе, будто по пути, и болтал с тобою, а затем намекнул на плохие обычаи?
— Помню.
— И после этого еще раз... когда ты уже был председателем сельсовета, я заговорил о хороших девушках — Зине и Такуне.
Темыр вспомнил и это.
— Ты мне что тогда сказал, помнишь? Я ведь и тогда очень хорошо знал — ты сильно любишь Зину, но после твоего резкого ответа заговорил о другом, и хорошо понял, что с тобою. Я догадался о твоей вражде к их семье. Ты очень много пережил, Темыр.
— Я действительно пережил много. Но как ты догадался?
— Это было нетрудно понять. Да, ты много испытал из-за своей любви к девушке, которая оказалась по старому обычаю твоим кровным врагом. Ты хорошо сделал, что не отомстил за брата.
— Зачем ты об этом говоришь?
— А затем, что не настала ли пора торжества твоего мужества и разума?!
— Не понимаю...
— Тогда я подскажу: сделай всю эту борьбу с самим с собой, как бы это сказать... сделай это достоянием общественности!
Темыр в ужасе закричал:
— То есть как? Какая общественность? Что я должен делать достоянием общественности?!
Миха старался говорить спокойнее:
— Ты боишься общественного мнения, а ты не бойся его! Наоборот, будь смел, и оно будет за тебя. Да, ты сделаешь большое, полезное дело, если расскажешь людям все то, что на сердце; о твоей славе и чести будут говорить многие поколения.
— Что ты предлагаешь?!
— Тебя никогда не забудут абхазцы, ты для них всегда будешь самым передовым человеком, если ты женишься на Зине, смело предашь осуждению вражду, предрассудки кровной мести.
Темыр чувствовал, что он весь дрожит.
— Ты хочешь для меня хорошего, Миха. Но твои слова ужасны. В кого хочешь меня превратить, что я должен сделать?
— Женись на Зине!
Потрясенный Темыр долго молчал.
— Ты для меня и брат, и отец, и мать... Зачем скрывать — сегодня я не мог заснуть, хотел открыть тебе мою тайну и не решался, а теперь вижу — ты все знаешь.
Он встал с постели. Сердце его было полно томительной радости и страха.
— Да, я хочу жениться на Зине. Это страшно, но я хочу! — Со слезами он внезапно воскликнул: — И если это нужно, то пусть все люди знают о. существовавшей между нами вражде и о нашей любви!
Темыр подошел и прикоснулся губами к виску Михи.
Миха встал и молча зажег лампу, свет озарил его ликующие глаза. Дрожащей рукой он взял свою табакерку и, свертывая папиросу, сказал:
— Ты прославишься на всю Абхазию, как человек большого сердца...
Он повернулся к Темыру:
— А я больше всего тебе желаю: пусть твой благородный поступок принесет тебе настоящее, прочное человеческое счастье. Ведь не жертвы, то есть не только одной жертвы, я хочу от тебя, я хочу для тебя благополучия! — он жадно закурил. — Думаю, все будут радоваться тому, что ты отбросил мысли о мести. Этим ты всем нам доказал — у тебя большое сердце.
— Что ты...
— Да, Темыр! И ты и, смело прибавлю, Ахмат, оба вы люди трудовые. Он человек слабой воли, жертва обычаев, которые и ты с таким трудом преодолеваешь. Будь благодарен твоей молодости и твоей верности нашему новому времени.
Темыр рассказал Михе, что ему открыл Мыкыч.
— Тем более ты должен простить Ахмату то, что он совершил не по своей вине, — он жил не своим умом, а чужим, и был обманут.
— Это так...
— Нет, Темыр, меня больше всего обрадовало то, что ты решил жениться на Зине! Ваша любовь необыкновенна, эта любовь — немеркнущий свет для всего нашего села.
Слова друга глубоко тронули Темыра.
— Благодарю... Раз ты советуешь мне сделать это, непременно так и сделаю.
— Ладно! А я, раз ты дал согласие, сам возьмусь за подготовку к свадьбе.
Миха потушил лампу... Темыр и в темноте видел Зину, и он был счастлив, что обрадует ее. Он, кажется, впервые погрузился в спокойный, глубокий сон...
XXXII
Темыр и Миха вошли в широкий проход между плетнями, и на них набросились собаки.
— Каждый день прохожу здесь много раз, когда же эти звери, наконец, привыкнут ко мне! — Миха замахнулся палкой и ударил пса, подскочившего первым. — Получай!
Пес пронзительно взвизгнул, прижал уши и отбежал в сторону.
— Его я уже давно собирался приветствовать палкой. Всякий раз он первый бросается на меня.
Они прошли под низкими ветвями яблони и по пологому спуску подошли к руслу реки.
Донеслись шум, крик людей, собравшихся у заводи. Они колотили галками по вороху свежих листьев алапана, наваленных прямо на камни, выступавшие из воды.
Слышались веселые возгласы:
— А большие какие!
— Кажется, рыбу ловят, — сказал Темыр.
Они подошли к заводи. Люди бросали в воду примятые большие листья, дурманящие рыбу. Подростки баламутили мотыгами воду.
Темыр приветствовал колхозников:
— Да ждет вас удача!
Миха спросил старика-колхозника, когда они успели отвести в сторону речку, — вода текла по новому руслу. За старика ответил Леварса, он уже приготовился к лову и стоял в воде:
— Вчера! А сегодня собираемся ловить рыбу на обнаженном дне и отмелях.
Леварса направился к противоположному высокому берегу, стал шарить в воде. Из-под его рук на поверхность всплыла рыбы с судорожно раскрытыми ртами и вытаращенными глазами.
Старые и малые, не сводя глаз с бьющейся рыбы, торопливо сбрасывали одежду и кидались к добыче, которая так легко шла в руки.
Чей-то недовольный голос произнес:
— Ишь, какие ловкие, — раньше не помогали, а теперь бросаетесь...
Его никто не слушал. Миха и Темыр скинули сапоги, закатали штаны, вошли в воду, и оба, стоя у края загороженной камнями заводи, хватали рыбу, точно из лохани. Леварса усердно вылавливал крапчатых блестящих форелей, и ловкость, с которой он швырял рыбу на каменистый берег, поражала всех.
— Вот молодчина! — кричали ему.
Леварса неожиданно вместе с форелями схватил и выбросил на берег змею, свившуюся клубком. Змея развернулась и быстро поползла к воде. Ее забросали камнями. Леварса храбро сказал:
— В воде змея никогда не укусит...
Когда Леварса вышел из воды и объявил, что рыбы в заводи больше не осталось, колхозники расположились на берегу, скинули с себя белье, выжали из него воду и разложили сушить на солнце.
Для дележки рыбы все в один голос выбрали Миху. Он охотно согласился.
Солнце перевалило за полдень, когда Миха и Темыр пересекли поле и подошли к грушевому дереву, ветви которого клонились под еще незрелыми плодами. Миха поглядел вверх, заметил одну-единственную спелую пожелтевшую грушу. Он поднял палку с земли и обратился к груше:
— Ну-ка, иди сюда!
Темыр нагнулся над сбитой грушей, а Миха ему крикнул:
— Не тронь! Я знаю, кому дать попробовать первый плод нового урожая.
Он спрятал грушу в карман, и Темыр только улыбнулся, когда Миха повернул к месту, где вместе с подругами работала Зина. Они оба, подойдя к девушке, произнесли:
— Да сотворишь ты хорошее!
Миха вынул из кармана тяжелую желтую с глянцем грушу и протянул ее Зине.
Зина поблагодарила, смущенно взяла грушу.
Она боялась смотреть на Темыра, но они все-таки взглянули друг на друга.
Миха спросил:
— Как поживает наш почтенный Ахмат?
Зина оторопела, с недоумением взглянула на Темыра и низко опустила голову: она не осмеливалась говорить при Темыре об отце; но, может быть, не случайно Миха упомянул при друге его кровника? Еле слышно девушка прошептала:
— Болеет от старости... Очень слаб.
— Он и теперь лежит?
— Папа чувствует себя еще хуже.
Испугавшись слова «папа», она метнула взгляд в сторону Темыра. Миха строго спросил:
— Почему же ты пришла на работу, если он так болен?
— Я могла и не приходить, но мама сама сможет подать ему воды...
— Не волнуйся, — произнес Миха. — Старики умеют болеть, не умирая. Мы завтра приведем к нему врача.
Он сказал «мы». Что это значит? Имеет ли он в виду и Темыра? Девушка бросила на землю мотыгу и, взглянув на Миху благодарными глазами, попросила ножик. Миха захотел узнать, для чего ей нужен нож.
— Разрежу грушу, и мы втроем съедим.
Миха подмигнул Темыру.
— Грушу мы принесли тебе, но раз ты хочешь разделить с кем-то из нас сладость нового урожая, кое-кто и не откажется. Правда, Темыр?
Зина, опустив глаза, медленно чистила грушу. Ее загорелая маленькая рука дрожала... Она очень старательно разрезала грушу на три равных части и протянула на кончике ножа сначала Михе, а потом Темыру.
Темыр был растроган тем, что Зина так аккуратно разрезала грушу, — она будет славной хозяйкой. Ее лицо сияло, в глазах искорками переливался свет. Платок, которым была повязана ее голова, не мог защитить шеи от солнца, и полоска загара блестела на смуглой коже, точно покрытой темным ореховым соком.
Солнце выглянуло из-за тучки и стало припекать, хотя уже клонилось к западу. Миха бросил взгляд на тучу, посмотрел на Зину и сказал неожиданно:
— Сегодня вечером, Зина, жди к себе гостей, собираемся с Темыром прийти к тебе, а заодно проведать и Ахмата.
Зина вся просияла, но радость ее потонула в испуганном взгляде, который она бросила на Темыра. С благодарностью она произнесла:
— Добро пожаловать!
И с трудом добавила:
— Если придете, бог видит, как мы будем рады вам.
Темыр потупился и пошел по полю. Миха нагнал его и только взглянул на друга, потрясенного, лишенного сил.
Темыр никогда не сможет выразить Михе всей благодарности...
XXXIII
Зина торжествовала. Она переживала почти то же самое, что чувствовал Темыр, но, помимо того, она восхищалась и гордилась им. Она глядела вслед Михе и Темыру, и вся природа сияла вокруг нее, хотя солнце уже скрывалось за горизонтом. Зина ничуть не удивилась бы, если б оно снова вернулось в высокое синее небо.
Девушка то быстро взмахивала мотыгой, то, схватившись за кукурузный стебель, замирала.
Она принудила себя работать до обычного часа и по дороге домой раздумывала, что скажет ей Миха и в особенности Темыр.
Дома Зина умылась, переоделась, успела не раз взглянуть в зеркальце. Приготовив матери постель, головой к изголовью больного Ахмата, она прибрала и дом, и кухню и принялась готовить угощение для гостей.
Радостный испуг охватил ее, и она не знала, за что раньше приняться — принести ли воду, вымыть котел или взяться за что-нибудь другое.
Она непрестанно поглядывала на ворота: не идут ли Миха с Темыром? Но вот ворота открылись, и гости вошли совершенно неожиданно для Зины. Казалось, вздрогнули и котел, и сами стены жилища. Зина бросилась навстречу.
Миха встретил ее шутливо-многословно, чтобы скрыть волнение и на минуту отвлечь сияющую Зину от Темыра:
— А вот и мы! Ты, небось, думала — обманем тебя? Нет, раз уж такой человек, как Миха, сказал, что придет, значит, он придет.
Все еще сияя и дрожа, Зина пропустила гостей вперед. Наконец-то Темыр входит в дом ее отца.
Миха сказал:
— Проводи нас к больному.
Они вошли в комнату, где лежал Ахмат. Воздух этой комнаты, казалось, стиснул грудь Темыра, но он, с трудом переведя дыхание, стоял и глядел на больного, а Зина не спускала глаз с Темыра. Все сложилось так, как в мечтах, которым сама не верила! Тот, с кем давно срослась ее душа, стоит в их доме и — страшно подумать! — смотрит на ее ничего не подозревающего отца.
Ликуя и в то же время пугаясь, девушка на цыпочках вернулась на кухню и стала готовить еду.
Миха спросил больного, как он себя чувствует, а потом извинился, что не смог до сих пор навестить его.
Ахмат не ответил. Он вперил взор в потолок и стонал.
Миха заметил, что старик, как-то ежась и натягивая на себя одеяло, старается спрятать свое лицо. Он не смотрел в глаза гостям.
Темыр и Миха удивленно переглянулись.
Миха взял стул и подсел к постели, а Темыр продолжал стоять. Ахмат, повернувшись на бок, бросил украдкой взгляд в сторону Темыра, потом посмотрел на Миху и тихо произнес сквозь вздохи и стоны:
— Плохо чувствую себя, дад, очень плохо... Когда дерево сгнивает от старости, то всякий червь лезет к нему и начинает подтачивать... С человеком тоже так... Постарел, что будешь делать?.. Болею...
Ахмат глубоко вздохнул, заохал и снова лег на спину, натянув одеяло до самого лба.
— Что вы, до старости вам еще далеко! Крепитесь, будете еще долго жить, — сказал Темыр, присаживаясь рядом с Михой.
Ахмат отвернулся к стене и не ответил. Миха и Темыр убедились, что Ахмат не так уж болен, как старается показать. Видимо, приход Темыра в его дом сильно ему не понравился. Действительно, слабосильный старик испугался Темыра. «Что-то Темыр пронюхал? Кто его знает, не пришел ли он, чтобы причинить вред моей семье и мне самому? Что-то он задумал против меня?» — соображал Ахмат.
А Миха собрался сообщить Ахмату то, что они решили сказать ему.
— Ахмат! Мы с Темыром, — начал он, — пришли сообщить тебе правду, которая имеет большое значение и для тебя и для будущности твоей семьи, в особенности для будущности твоей единственной дочери Шазины.
— Что такое, дад? — встревоженно спросил Ахмат, быстро повернувшись к Михе и скинув с лица одеяло. Он испуганно посмотрел на Темыра, а потом на говорившего Миху.
Миха продолжал:
— Безвозвратно ушло проклятое старое время, когда не только ты, но и многие другие хорошие люди становились жертвами бесправия и отсталости. Жестокие богачи безнаказанно совершали преступления, не думая о страданиях беззащитных бедняков...
Ахмат еще более откинул одеяло, которое уже перестал считать своей защитой. Опершись на локоть, он приподнялся. Бледное лицо с вытаращенными глазами выдавало его:
— При чем я здесь? К чему ты говоришь это, Миха?! — вскрикнул он.
— Ты, конечно, ни при чем, Ахмат. Но мы хотим открыть тебе всю правду.
Миха спокойно продолжал:
— Так вот, как было дело: Ансия забеременела не от Мыты, а от Мурзакана. Ты поверил ему, и он твоими руками убил невинного Мыту...
— Неужели это правда?! — воскликнул в исступлении старик, вскочив как безумный с постели.
— Да, это тяжелая правда, Ахмат. Ты был обманут!
— Почему же Темыр не убил меня? Я недостоин жизни!..
— Я знал о случившемся давно, но... — сказал Темыр и, взглянув на старика, осекся.
Ахмат походил на теряющего разум человека, страдающего от невыносимой пытки. Он в одном белье забегал по комнате и требовал от плачущей Селмы ружье.
— Я сам пристрелю Мурзакана! — кричал он, дрожа всем телом. — Я убью этого негодяя сейчас же!
— Эх, Ахмат, Ахмат! — покачав головой, сказал Миха, не вставая с места. — Память у тебя стала совсем плохая. Ружье-то ты сдал, а Мурзакана уже нет на свете. Он поплатился за все свои злодеяния... А вот Темыр и Зина любят друг друга... Наверно, сам догадываешься.
— Да, эго правда... — еле слышным голосом произнес в сильном смущении Темыр.
Ахмат будто окаменел. Он застыл в одной позе, весь согнувшись, седой, взлохмаченный, бледный. Его расширенные глаза смотрели на Темыра, он не мог от него оторвать взора. И вдруг в глазах старика затеплилась радость. Он заплакал.
— Ложись, Ахмат, все будет в порядке! — сказал Миха.
Темыр подошел к Ахмату, осторожно взял за руки и уложил его в постель, как ребенка.
Селма молча стояла в углу комнаты, ошеломленная всем происшедшим на ее глазах.
Зина, готовя еду на кухне, думала, как угостить такого человека, который мог когда-то прийти в этот дом только за кровью! Она приготовила много блюд и, кажется, кое-что пересолила. Когда Зина, еле дыша, вернулась в дом, гости, дымя табаком, сидели, беседуя, в большой комнате. Как встретился Темыр с ее отцом — кто знает? Она никогда не осмелится об этом спросить Темыра, даже если им предстоит чаще встречаться.
Зина начала накрывать на стол. Когда она подошла с тазом в руках и полотенцем на плече к Михе, он сказал:
— Мы доставили тебе много хлопот, Зина.
— Какие это хлопоты? — дрожащим голосом сказала она, несмело протягивая полотенце Темыру, — Что я особенного для вас сделала?
Гости сели к столу. Миха предложил и молодой хозяйке присесть, — она отказалась. Тогда к просьбе Михи, неловко подбирая слова, присоединился и Темыр. Он с улыбкой глядел, как Миха насильно усадил Зину.
И вот они сидят за одним столом, впервые за долгое время так близко. Темыр и Зина то глядели друг на друга, то не знали, как отвести глаза в сторону.
Как Темыр смущается, сидя рядом с Зиной! Как он не похож на того Темыра, который так смело разговаривал с Надей в Москве. Не так давно он получил от нее письмо. Надя нашла отца. Она обещала заехать, чтобы познакомиться с Зиной. Пусть скорей приезжает. Как все теперь будет хорошо. Теперь-то Зина поедет в Москву.
«Как много хороших, честных и благородных девушек, — думал Темыр, вспоминая о письме Нади, — но я люблю только мою Шазину. Но Надю тоже я никогда не забуду, как друга».
Миха шутя говорил о том, о сем — о многом, не касавшемся их дела. Ему хотелось, чтобы они повеселели и чувствовали себя свободней.
Когда ужин был окончен, Зина снова поставила перед ними таз. Затем она убрала со стола, вышла на кухню и там задержалась, не зная, что обо всем этом подумать.
Когда Зина вернулась, Миха, закуривая, подошел к ней и быстро негромко произнес:
— Поговори с Темыром, он тебе кое-что скажет.
И вышел из комнаты. Темыр медленно обернулся к девушке, посмотрел на нее и с бьющимся сердцем взял ее за руку:
— Как-то странно получается, живем в одном селе, а хочется спросить: как ты живешь?
— Что же тут странного?
— Нет, в самом деле, сколько времени мы с тобой не сидели и не говорили гак спокойно...
Ей нечего было сказать, только глаза ее сияли. Она не только любила Темыра сильней, чем прежде, но она гордилась его поступком и знала, что счастье до конца, до самых последних дней будет озарять ее жизнь.
Темыр притянул девушку к себе и усадил на скамью.
— Что с тобой, Зина? Ты печальна?
— Разве это печаль!
— Тебе неприятен мой приход или ты забыла меня?
Она покачала головой.
Темыр, как бы вспоминая что-то далекое, сказал:
— Боже мой, как давно мы любим друг друга! Ведь это вся наша жизнь...
— Ты страдал?
— Да, много тяжелого пережили мы за это время, и все же, несмотря ни на что, наше чувство победило! Я люблю тебя так же, как раньше.
— Иначе ты не пришел бы к нам.
— Да, я люблю тебя, как в первые дни! Пусть сгинут все жестокие обычаи, лишь бы твое сердце было открыто для меня, лишь бы ты приняла меня в свою душу. Забудем все горькое. После того, что мы пережили, мы должны соединить наши жизни в одну. Хочешь?
— Да! Хочу! Но все-таки... Может быть, это Миха заставил тебя войти в наш дом?
— Зачем ты об этом говоришь! Ведь мои ноги перешагнули ваш порог, и что может нам помешать быть вместе, если мы этого хотим?
Зина вспомнила страх, всегда висевший над их любовью. Ее поразила такая развязка. Не безволен ли этот гордый человек? Он женится на Зине, но ведь это... Это совершенно невозможно!
— Ты так долго молчал, — произнесла она, пытаясь говорить равнодушно, — я уже думала... я давно думала, что ты забыл меня. — Она вздохнула: — И не ждала, что ты вернешься ко мне. Но ты, даже после того, как сказал, что нас навеки разделяет вражда, пришел к нам. — Она вскинула глаза. — Меня теперь удивляет твое решение. Помнишь, у тебя бывали такие минуты, когда ненависть к моему отцу ты мог перенести на меня?
— Не будем вспоминать, Зина... Мы говорили только что с Ахматом...
— Как! — воскликнула Зина и побледнела.
— Не бойся, теперь все будет хорошо. Мы открыли ему всю правду.
Зина удивленно посмотрела на Темыра, не зная, что сказать. Она молчала, глубоко переживая. Ее сомнения еще не рассеялись. Вражда все же остается между ними, хотя она уже сильно поколеблена.
— Без тебя, Темыр, у меня нет жизни. «На детей падет преступление их отца», — говорят старики. У отца я единственная, мне и отвечать за его преступление. И если ты пришел, подчиняясь только порыву, не думай, что обязан на мне жениться, откажись от меня.
Зина сжала его пальцы, и ее слова, и ее движения, полные взволнованности, поразили его. Он стиснул ее руки и спросил, улыбаясь:
— Ну, а если это только твой порыв, как же тогда? Что с тобой будет? Ведь я женюсь на тебе.
Она кусала губы, не отнимая рук.
— Неважно, что со мной, лишь бы ты был счастлив, спокоен. Ты мой спаситель, ты моя гордость и моя любовь, моя надежда...
Она освободила руки и нежно обняла его за шею.
Так вот в жизни Зины наступила долгожданная радостная минута! Темыр жарко привлек ее к себе. О чем они сейчас заговорят, о чем они будут мечтать?
Этим вечером свершилось радостное событие: два существа, между которыми стояло убийство человека, дали друг другу клятву любви навеки.
Темыр снял со своей руки часы, долго и неловко пытался застегнуть цепочку на руке Зины, и она помогала ему.
На веранду поднялся Миха, сильно дунул на огонек папироски, точно думая этим потушить ее, а затем закашлялся. Темыр быстро направился к двери и пожал руку товарищу.
XXXIV
В небольшом дворике Темыра — шум, гомон множества голосов.
Во дворе под навесом из свежих ветвей расставлены столы — длинные доски на высоких тонких ножках. Под ольхой на бревне сидят старики и беседуют о старом и новом.
Хатхуа, старик с клинообразной бородой, спросил у Хапары:
— Все-таки, сколько у тебя трудодней?
Хапара вонзил в землю железный конец палки:
— Спрашивай или не спрашивай, но если я был даже мертвым, я заработал бы трудодней не меньше, чем ты! Вот у тебя сколько?
— Сначала скажи ты, потом скажу я.
Чихия рассмеялся:
— О чем спорите, товарищи? Всем нам хорошо известно, сколько у каждого трудодней, и не о чем зря спорить.
— Нет, погоди, молодой человек! Пусть Хатхуа сам скажет, сколько у него трудодней.
Хатхуа вынул из кармана ножик, почистил почерневшим лезвием трубку и вытащил из кармана кисет:
— Брось, старина! Напрасно хвастаешь. Мы с тобой два одинаково прокопченных круга сыра, чего уж спорить!
Хапара вынул из кармана четки и стал потряхивать ими:
— Вижу, что покойники забыли прихватить тебя с собою. Может быть, ты думаешь, что я такой же старик, как и ты, раз со мной уж нет моей старухи? Показал бы я тебе, какой я старик, будь у меня такая старуха, как у тебя.
Хатхуа невозмутимо подмигнул ему:
— Хочешь, я тебе свою сосватаю?
— О, если бы ты был такой решительный и любезный...
Вокруг засмеялись. Чихия смеялся громче всех: Хапара и Хатхуа всегда болтали так и уж непременно до чего-нибудь договаривались.
— А вот я расскажу вам кое-что получше ваших шуток, если только у вас хватит терпения выслушать меня, — сказал сидевший поодаль Хашим.
Хапара предупредил:
— Если не смешно, дорогой Хашим, то лучше и не рассказывай.
— Кто знает, может быть, и заставлю вас посмеяться, — ответил Хашим. — Это случилось давно... Я был в том возрасте, когда пробиваются усики и начинаешь ухаживать за молодыми девушками. В нашей округе в те дни господствовал Мурзакан Гечба, он творил все, что хотел. Меня он любил, работал я у него, выполнял все его приказы — иначе куда мне было деваться!
Лицо Хашима омрачилось, и он глубоко вздохнул.
— Как-то Мурзакан, в сопровождении сорока всадников, собрался ехать в Кабарду и предложил поехать и мне. Он дал оружие, взял в отряд, и я обрадовался: уж очень хотелось повидать новые места, новых людей! Три дня провели мы в горах, миновали голые вершины, перевалы. Кони у нас были добрые, и мы не боялись, что они устанут. Приехали на место, привели себя в порядок, выстроились рядами, как солдаты, и пошли позади Мурзакана. Мурзакан дал нам наставление, как держаться. Хозяин, к которому приехали, владел большим имением.
Хашим затянулся дымом, поглядел в трубку.
— Он устроил большое пиршество, два дня, две ночи мы веселились, а уж сколько скота прирезал наш хозяин, уму непостижимо! На третье утро Мурзакан начал готовиться к отъезду, кабардинец не отпускал, он просил, чтобы побыли еще день-другой, но наш Мурзакан наотрез отказался. Хозяин одарил каждого из нас скотом и дал в провожатые двадцать всадников. Мы возвращались, гоня полученный в подарок скот; здесь были быки, породистые и горячие, как драконы, кони, покрытые роскошными седлами. Добравшись до перевала — границы, отделяющей Северный Кавказ от Апсны [30], — мы встретили каких-то всадников и проехали мимо,
но, отъехав немного, Мурзакан встревожился и сказал: «Куда столько людей едет?» Он догнал всадников, и, когда вернулся к нам, мы сразу по его лицу поняли, что стряслась какая-то беда.
«Живыми нас погребли! — сказал он. — Мы опозорены. У хозяина, где гостили, кто-то умер, и люди едут на оплакивание».
Все были поражены и только переглядывались. Ведь мы только что два дня пировали в доме, и все было благополучно.
Мы оставили пять верных товарищей сторожить скот и, подхлестнув коней, помчались обратно. Всюду во дворе кабардинца было полно народу и слышались причитания мужчин и женщин; душераздирающие крики, казалось, могли потрясти небо. Мурзакан готов был умереть со стыда, да и всем нам было неловко, мы не знали, как поступить. Вот где мы веселились!
Хашим рассказывал с таким увлечением, точно все это произошло только вчера.
Хапара положил четки на колени и спросил:
— Кто же умер у кабардинца?
— Он хоронил единственного сына. В тот вечер, когда мы приехали, как я сказал, было пиршество. В одной из комнат хозяева уложили мальчика спать. Утром он встал с постели, начал ходить по комнате, нашел бритву и, играя, смертельно поранил себя. Когда хозяйка вошла в комнату, то увидела — сын лежит окровавленный. Она в ужасе заметалась по комнате, но, вспомнив о чести хозяев, принимающих гостей, заперла дверь на ключ и вызвала потихоньку мужа, сидящего на пиру. Но и на следующий день в доме кабардинца шел пир горой, продолжалось веселье, и никто не мог подумать, что в этом доме покойник — так владели собой гордые, гостеприимные хозяева.
Слушавшие переглянулись, и Хапара сказал:
— Да, как хотите, а насчет гордости, насчет мужества в старое время было лучше.
— Э, бросьте ради бога! Разве это можно назвать мужеством, — резко возразил Чихия. — Что хорошего в этом показном нечеловеческом мужестве? Одна только похвальба... Слепое подчинение обычаю. Пустяки! Мы наделены новым мужеством нашего времени, и за примером, кажется, недалеко ходить. — Он выразительно взглянул на бедную пацху Темыра. — Есть мужество, которому должен учиться народ...
Разнеслась весть, что ведут невесту. Старики поднялись и пошли к воротам.
XXXV
Сообщение о том, что ведут невесту, оказалось преждевременным: во двор въехал только всадник и сразу же стал гарцевать перед домом. Всадник был одним из верховых свадебных дружек, посланных Темыром, и появление его означало приближение всех остальных дружек с невестой.
Взгляды гостей были обращены в сторону, откуда должны были появиться всадники.
Вот уже донеслась свадебная песня: «О ре-дада-макуа», раздались гулкие выстрелы, все ближе слышались торжественные возгласы. Всадники показались из-за горки, они везли невесту.
Группа верховых бурно ворвалась в ворота и на небольшом дворике Темыра пустились в резвую джигитовку. Остальные спешились, окружили невесту и медленно направились к дому. Мужчины и женщины, ожидавшие во дворе, расступились, давая дорогу.
Встречая гостей, на пороге сакли показалась пожилая женщина — родственница Темыра, она держала в руках большую белую чашку, в чашке просо, смешанное с серебряными монетами. Женщина осыпала голову невесты, прикрытую шелковым шарфом. Дети, толкаясь, бросились подбирать монеты.
Два парня в великолепных черкесках с блестящими газырями, обнажив кинжалы, встали у двери, а затем под тонкий звон скрестившихся клинков пропустили невесту с подругой; за ними последовали девушки. Они окружили невесту, по три раза обошли очаг и направились к месту, приготовленному для Зины.
Сегодня не узнать невзрачной пацхи, бедной хижины Темыра, — как она богато убрана! На стенах висят рукодельные узорчатые коврики; на плетеной стене, против места невесты, постукивают стенные часы; на убранной красивыми вышивками тумбочке стоит патефон с пластинками. Рядом с тумбочкой — новый зеркальный шкаф каштанового дерева. Все — подарки!
Один за другим гости по старшинству проходили к девушке, стоявшей с кувшином и полотенцем. Почтенный Хапара вымыл руки, вытер, первым направился к столу и пригласил за собою гостей, прибывших с невестой, а затем — остальных.
Хатхуа и Хапара усадили Миху между собой. Старики острословили, наделяли Миху шутливыми прозвищами, а он в свою очередь тоже подшучивал над стариками.
— Значит, вы будете весь вечер мучить меня, если я имел несчастье усесться между вами?
Женщины ставили перед каждым гостем различные кушанья. Хапара поднялся и воскликнул:
— Сегодня надо выбрать аталбашем Миху!
Миха качнул головой: нет, он не согласен.
Хапара уперся:
— Как же ты не согласен, если женится твой товарищ, который тебе дороже твоих глаз! Кого же еще выбрать, кроме тебя?
Хатхуа плечом поддал Михе.
— Не слушайте его, ведь он шутит, он просто боится, что мы его не выберем аталбашем.
Миха смеялся. Чего только не выдумают эти старики!
Хапара упирался:
— Кого же тогда выбрать, если не Миху?!
Со всех сторон стола раздались нетерпеливые голоса: что это там путают старики, ведь люди ждут, теряют дорогое время, дайте-ка скорей кого-нибудь в аталбаши.
Хапаре подали сердце и печень, нанизанные на заостренную палочку. Он встал и, держа палочку вверх сердцем, произнес добрые пожелания новобрачным: пусть у них будут пять сыновей и три дочери, да узнают они счастливую старость без горя и печали!
Когда Хапара осушил бокал и сел, все приступили к еде, запивали жирные куски вином и поздравляли друг друга.
Стаканы обошли четыре круга, и Хатхуа, провозгласив Миху аталбашем, осушил стакан и передал его соседу — все выпили за здоровье аталбаша.
Миха поднял стоявший перед ним стакан, полный до краев:
— Вот вы собрались здесь, наши дорогие отцы. Многим из вас уже по семьдесят и по девяносто лет — да будете вы жить с нами долго-долго. Много мук вы перенесли; есть среди вас такие, кто находился в изгнании — махаджиры — и вернулся на родину. Есть такие, кто еще помнит войну между русскими и турками, и все вы — живые книги истории — знаете и старое и новое, много пережили на своем веку. И вот, не обижайтесь, если скажу то, что сейчас услышите. Хоть вы и прожили много лет, для вас неожиданностью будет эта свадьба. Но я уверен, что это глубоко обрадует вас и вызовет ваше одобрение.
Мужчины и женщины, подававшие еду и вино, застыли на своих местах, как и те, кто сидел за столом. Никто не сводил глаз с Михи.
— Может быть, кто-нибудь и догадывается, даже знает то, о чем скажу. Все трудящиеся нашей страны, все, кто живет честной работой, с горячей любовью относятся к советской власти, благодаря которой все мы стали настоящими людьми, забыли наше тяжелое прошлое. Пускай же с сегодняшнего дня навеки будет покончено с одной из самых печальных страниц нашего старого быта — кровной местью. Пусть будет положен конец вражде, которая из поколений в поколение многих из нас губила. Это удвоит и утроит нашу радость, дадраа [31].
Гости жадно глядели на Миху: что он еще скажет.
— Жалею, что на этой свадьбе не может присутствовать отец нашей невесты. Если бы он здесь сидел между нами, это было бы свидетельством особого торжества. — Миха помолчал. — Это он, отец невесты Темыра, на свадьбе которого сегодня присутствуем, убил старшего брата Темыра — Мыту.
Те, кто подавал вино, чуть не бросили кувшины на землю, а сидевшие за столом вскочили с возгласами:
— Хай! Да что же это такое?
— Не может быть! Убил его брата Мыту?!
Миха молчал, и лицо его было торжественно. Боязливо глядя на него, молча опускались на скамьи гости. Громко воскликнула одна из женщин:
— Боже!
Никто не откликнулся на ее восклицание. Чихия, разливавший по стаканам темно-красное, как кровь, вино, тихо опустил кувшин на стол. Никто не мог вымолвить и слова. Молчал и Миха, давая людям почувствовать значение того, что они узнали.
Затем он громко произнес:
— Так что же, по-вашему, это не большое дело, не мужественный поступок, дадраа, народ мой, братья мои? Разве вы не видите теперь, какое славное время наступило для нас! И мы избавляемся от страшных обычаев. Темыр — человек твердый и разумный. Он знает, что кровной мести не быть в наше время. И тот, кто убивает человека, — враг народу, враг стране. Темыр не считает месть доказательством мужества. Он любил, любит и будет любить Зину. Он на ней женится.
— Удивительно все то, что ты говоришь, дад Миха! — крикнул Хапара. — Как же это случилось?
Хатхуа покачал головой:
— Это вам не показное мужество кабардинских князей, о котором говорил Хашим. Ты должен нам все рассказать, Миха!
Миха обвел присутствующих взглядом и рассказал все от начала до конца. Когда он назвал имя черного виновника всех несчастий — Мурзакана, гневные возгласы пробежали по рядам гостей. Миха кончил свое слово и сел. Поднялся Хапара:
— Пусть же выйдут к нам молодой человек и девушка, которые отважились на такой необычный в нашей стороне поступок. Мы должны увидеть тех, в ком храбрые сердца, кто способен на мужество, еще не слыханное в стране души.
Миха вышел из-за стола и вернулся с Темыром и Зиной. Все при их появлении встали и молча поглядели на жениха с невестой: они прочитали на лице Темыра гордую радость, — он одержал победу над самим собой.
Хатхуа поднял стакан, глядя на Темыра и Зину.
— Дай вам бог всего хорошего, дад, и вам, собравшимся сегодня сюда. Этот юноша и эта девушка сделали великое дело. Пусть отныне будет мир среди нас, пусть навеки ляжет в землю кровная месть, вы ей перебили хребет, ей никогда больше не подняться на ноги. Мы все вам желаем долгой жизни, хороших наследников, светлой старости. Живите неразлучно долго-долго, вместе состарьтесь, вместе уйдите из мира.
Хатхуа умолк и поднял стакан. Миха вложил патроны в чье-то ружье.
— Пусть с этого дня не будет позором отказ от кровной мести. Да будет навеки убита этим выстрелом кровная месть и вместе с ней все предрассудки, темные пережитки прошлого, мешающие нашей новой светлой жизни!
Он поднял ружье и дважды выстрелил.
Хатхуа затянул танцевальную песню, ее подхватили мужчины и женщины, и все захлопали в ладоши. Старый Хашим ловко перескочил через стол и, отрывисто, резко выкрикивая и становясь на носки, стал танцевать.
________________________________
[1] По старому обычаю, абхазец не должен был произносить имени жены и обращался к ней на «ты» — бара.
[2] Ласкательное обращение.
[3] Форма обращения жены к мужу.
[4] Асацбал — острый, пряный соус.
[5] Почтительное выражение: «Да падет моя голова вместо твоей!»
[6] Высшая похвала лошади. В старину абхазцы обменивали рабов на скот; лошадь, обмененная на подростка ростом в шесть пядей, считалась наилучшей.
[7] Подрезать полу черкески — большое оскорбление.
[8] Князей в детстве воспитывали в крестьянских семьях — отсюда молочные братья.
[9] Пастух, нанимавшийся обычно на пять лет и получивший за годы работы половину приплода.
[10] Однофамильцы высоко чтили друг друга.
[11] Помощник старшины.
[12] Амхабыста — деревянная лопаточка для помешивания и раскладывания мамалыги.
[13] В знак преданности обходили вокруг человека — символ заклятия от всякого зла.
[14] Нарды — игра, распространенная в странах Ближнего Востока.
[15] Общепринятое выражение вежливости.
[16] Широкая скамья в тени дерева у проезжей дороги, которую ставят в честь умершего.
[17] Восклицание радости, удивления.
[18] Табак, по старым религиозным верованиям, — чертова пища. Отсюда пословица: «Черт свое сено крошил и в огне сжигал».
[19] Пацха — плетёное жилое строение абхазцев.
[19] Аталбаш — председатель пира.
[21] Махаджирство — насильственное переселение горцев Кавказа в Турцию в 60-х и 70-х годах XIX века.
[22] Каамет — светопреставление.
[23] Пословица в смысле: «Поспешишь — людей насмешишь».
[24] Первый автобус в Абхазии появился в 1926 году.
[25] Акуакуар — мучной колобок.
[26] Женщины в знак уважения к старику и к почетному лицу прикладывались губами к его плечу.
[27] Ачапшара — обычай пребывания родственников и соседей у постели тяжелобольного, своего рода дежурство.
[28] Традиционное выражение для обозначения сильной вражды.
[29] Маджар — молодое, неперебродившее вино.
[30] Апсны — Абхазия.
[31] Множественное число от слова «дад», ласкательное обращение.
Перевод с абхазского А. Пасынкова
Перевод глав 11 — 14 в первой части и 21 — 25 во второй части А. Дубровского
_________________________________________________
(Печатается по изданию: И. Папаскири. Темыр. — Сухуми: "Алашара", 1972.)
(OCR — Абхазская интернет-библиотека.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
