Даур Зантария
Мир за игольным ушком
(Поэзия. Проза. Публицистика. Дневники)
Сухум - 2007
ББК 84(5Абх)6-49
3-27
Культурный Фонд «Абхазия — Северный Кавказ»
Составители и авторы проекта:
Владимир Зантариа, Сергей Арутюнов
Спонсор проекта - ЗАО «Аквафон-GSM». Авторы проекта выражают благодарность за оказанную помощь.
Зантария Даур
Мир за игольным ушком. - Сухум, 2007. - 284 стр.
В книгу вошли стихи, рассказы, повести, публицистические произведения, дневники Даура Зантария. Некоторые материалы публикуются впервые. В сборник включены воспоминания о блестящем мастере слова, размышления о нем и его глубоко самобытном и многогранном творчестве.
Авторы проекта работают над более полным изданием произведений Д. Зантария на абхазском и русском языках.
СОДЕРЖАНИЕ
- ВРЕМЯ ПУСТО. ЛИШЬ ПАМЯТЬ БЕЗДОННА...
- Водолей
- Сухум
- Памяти Адгура Инал-ипа
- Ночь
- Айдуду
- Тишина
- Когда ты смертельную пулю поймал
- Дрожащие руки старушек
- Песня о нашем брате
- До боли долгими ночами
- Чайка
- Каприз актера
- Равнение на женщину!
- Люди на причале
- Я не мальчик. Довольно меня донимать
- Дом отца
- Хлеб - не хлеб, и вино - не вино
- Perestrojca & Glastnost
- Стучат вопросы по мозгам
- Тревога
- ЕСЛИ И ЕСТЬ ИСТОРИЯ КАВКАЗА, ТО ЭТО КАК РАЗ ИСТОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОРИИ...
- Енджи-ханум, обойденная счастьем
- Судьба Чу-Якуба
- О линиях жизни и печени
- КАК ОН НЕОБЪЯТЕН, МИР ЗА ИГОЛЬНЫМ УШКОМ!..
- Пожиратели голубей
- Конфетное дерево
- Косуля
- Жеребенок, чье имя я забыл
- Граммофон
- Игольное ушко
- Я ПОПЫТАЛСЯ СКРЕСТИТЬ МОЛВУ С ДОКУМЕНТОМ...
- О долгожительстве
- Три свидания с домом
- Русские горцы
- Японский продюсер у врат зари
- Свято место, почти пусто
- Фарисеи
- МЫ ВСЕ УМИРАЕМ ПОРОЗНЬ, А ВОСКРЕСНЕМ ВМЕСТЕ...
- Из дневников
- Кавказская война и беженцы
- Маргарита Ладария. Роман Даура Зантария «Золотое колесо» как феномен абхазской романистики
- А ВООБЩЕ, СЛОВО КАК ОГОНЬ В ОЧАГЕ...
- Сергей Арутюнов
- Нар Зантария
- Владимир Зантариа
- «... И СВОЮ НЕУДАЧУ, КАК ГОРДУЮ САГУ, ПИСАЛ...»
Размышляя о Дауре и его творчестве...
- Алексей Гогуа
- Андрей Битов
- Мушьни Лашәриа
- Никәала Кәыҵниа
- Екатерина Шакрыл
- Адгур Дзидзария
- Марина Москвина
- Ахра Бжания
- Арда Инал-ипа
- Кьасоу Ҳагба
- Татьяна Бек
- Петр Алешковский
- Валентин Ежов
- Игорь Сид
- Руслан Гуажба
- Владимир Занҭариа
- Борис Джонуа
- Ҭемыр Надараиа
- Адгәыр Ҳаразиа
- Владимир Никонов
- Ермолай Аджинджал
- Василий Авидзба
- Циза Гумба
ВРЕМЯ ПУСТО. ЛИШЬ ПАМЯТЬ БЕЗДОННА...
ВОДОЛЕЙ
Памяти Ларисы
Во влажной я лежу траве.
Война уснула. Соловей –
Войной не тронутая птица
Поет, зовет меня молиться.
И следом из-за туч тряпичных
Над сумраком полей античных
И взрытых бомбами полей –
Восходит нежный Водолей.
Прошу созвездье Водолея,
Чтобы как прежде, не болея,
Вернулась в дом моя жена
И села с чашкой у окна.
А где наш дом? Там сытый враг
Вершит разврат и варит мак,
А вдоль по набережной в ряд
Все пальмы стройные горят.
Но внемлет птахе, не дыша
Моя усталая душа.
Покуда город за рекой
Объял предательский покой.
Но благодушен, счастлив я,
Покуда слышу соловья.
Но забываю я о зле,
Покуда светит Водолей.
И ты вдали молись, жена!
Одна лишь вера нам нужна:
Что с Водолеем, с соловьем
Не просто живы, но – живем.
СУХУМ
Как только проснешься,
явь, как шапка,
надвигается на глаза
и тени снова исчезают.
Но ты видишь, как море накренилось,
ввысь поднимая лодки,
бледно-спокойное,
солнца не видя еще над собой;
как город
спросонья
исходит туманом,
и горка-медведица
спускается на водопой;
как черные чайки
на длинных лучах качаются,
а набережная пронизана
черными кипарисами.
ПАМЯТИ АДГУРА ИНАЛ-ИПА
Сижу под вязами. Никто меня
Не ждет, не помнит.
И тихим трепетом я на исходе дня
Наполнен.
Во влажном воздухе разлит покой.
Так небо низко,
Что до звезд достать рукой.
И будто нет войны, и не бездомен я
На самом деле,
Сижу под вязами, как прежде до меня
Сидели.
И не течет река. И время не течет.
Мне сорок лет. Я отдаю себе отчет…
И так я говорю: пускай года пройдут –
Другие выразить обязаны,
О чем я ведал, сидя тут
Под вязами.
НОЧЬ
Ночь над деревней беспредельна, глубока.
Повсюду тишина – в объеме целокупном.
Что дальний лай собак, что ближний звон сверчка –
Все стало чуждо, и роднее звездный купол.
Так телом я ленив и так душа легка!
Куда спешит душа из оболочки грубой?
А если все – обман, зачем тогда тоска,
И что это за речь невольно шепчут губы?
Душа, ты полетишь по Млечному Пути,
Где множество родных теней обнять удастся
Пред тем, как и тебе, придет пора врасти
В тот мир, где суждено забыться и остаться, –
Откуда и мой дед не захотел уйти,
Умевший из любых скитаний возвращаться.
АЙДУДУ
Когда и выпить неохота
И некуда себя приткнуть,
В кафе заморской птицы входим,
Чтоб отдохнуть, чтоб отдохнуть.
Там птица с аглицким названием
Поет, играет на трубе.
Но сострадания-вниманья
Нахально требует к себе.
В потоке звуков бы умыться,
Развеять бы тоску, как дым! –
Но разве эта злая птица
Споет нам то, что мы хотим!
Стыдиться слез и прятать лица
Ни мне не надо, ни тебе;
Нам бы забиться и забыться.
А птица – только о судьбе.
Лети туда, дурная птица,
Дурная птица айдуду,
Где люди могут насладиться,
Не спариваясь на ходу.
Там эти трели вкуса стали
Желанны и новы для всех.
Они от отдыха устали –
Подай им боль, любовь и смех!
А что по мне: ты, злая птица,
Все б тихо за морем жила,
А та, заморская девица,
За айдуду поутру шла.
ТИШИНА
Белый туман с утра.
Скот выгонять пора.
Но и пара коров
Не идет через ров.
Мины цветут на лугах.
Ходишь – и страх в ногах.
Не разогнаться уже,
Так, чтоб отрада душе.
Здравствуй, однако ж, день.
Где все дома без стен.
Здравствуй, родной Тамыш.
Где все дома без крыш.
Выжил раненый сад.
Вот и плоды висят.
Только, деревня моя,
Где твои сыновья?
Кладбище обновя,
Спят твои сыновья,
И над могилами их
Воздух так странно тих.
Воздух, молчи, не вой
Над моей головой.
Светлое небо без дна,
А внизу – тишина.
О, мой родной Тамыш,
Странно: ты не дрожишь.
А из небес без дна
Капает тишина.
КОГДА ТЫ СМЕРТЕЛЬНУЮ ПУЛЮ ПОЙМАЛ…
Когда ты смертельную пулю поймал
и не в силах ползти,
друг добивает тебя
пулей сострадания.
Когда ты раздет и разут,
присылают братья из-за бугра
обноски милосердия.
ДРОЖАЩИЕ РУКИ СТАРУШЕК
Дрожащие руки старушек
протягивают миски
к похлебке жалости.
А женщина приходит, как дар,
а потом
по минному полю любви
убегает она звонкой нимфой
туда,
откуда все это пришло к нам.
ПЕСНЯ О НАШЕМ БРАТЕ
Ты вези, вези меня,
Бээмпэшка синяя.
Если нас гранатомет
На развилке подорвет,
Обмани мою сестру,
Что уехал в Анкару.
Как садился брат наш Заза
В синей масти БМП.
Рация шипит, зараза,
Что врагам не по себе.
Жаркий бой – его стихия,
Но у ближнего села
Он и спутники лихие
Смерть нашли из-за угла.
Ты вези, вези меня…
Говорят, что брат наш Заза,
Сын отца и бог войны,
По какому-то приказу
Стал виновен без вины.
Мир пришел. Апсны прекрасна.
Но, живя и жизнь любя,
Все же дышим, точно астма,
От свободы без тебя.
Ты вези, вези меня…
Мирно спи, спаситель флага,
Зажигатель всех сердец!
Опустела твоя фляга,
Изрешечен «мерседес».
Ну, а если будет надо,
Знаем мы, что ты опять
Из эдемового сада
К нам вернешься – воевать!
Ты вези, вези меня…
ДО БОЛИ ДОЛГИМИ НОЧАМИ…
До боли долгими ночами
творил я сам себя из снов,
вдыхая музыку молчанья
и выдыхая души слов, –
а как рывком раздвину шторы
и расплескаю синеву, –
придуманные мной просторы
смогу увидеть наяву.
ЧАЙКА
ПамятиЛарисы
Я прижал свою птицу к груди,
Рыбий запах, вдохнув на прощанье,
Но так много погибло людей,
Что не жаль никому этой Чайки.
Свет рассеянный наискосок
По морской рассыпается зыби…
И подальше от глаз и от ног
Я песком свою чайку засыпал.
Но куда теперь, сын мой, пойдем?
(Ведь не думать нельзя о ночлеге)
В оскверненный и отнятый дом,
Где ненадобной пахнет аптекой?
Или будем брести и брести,
То и дело, касаясь плечами,
Чтоб к утру, наконец, обрести
Представленье о рае для чаек?
Я чужую железную дверь
Отпираю чужими ключами,
Кружат мысли в моей голове
О вчера похороненной чайке.
И живу во хмелю и в тоске,
И одну лишь тревогу лелею:
Каково тебе, чайка, в песке,
Иль в созвездии Водолея?
КАПРИЗ АКТЕРА
На премьеру проданы билеты,
Зрителей с наушниками – рать.
Мой каприз, и первый, и последний:
Не желаю Гамлета играть!
Правлена уверенной рукою
Жизнь моя, как школьная тетрадь.
Пусть не в срок, но требую покоя,
Не хочу я Гамлета играть.
Братцы, я играю непохоже,
Прыгаю, хватаюсь за бока.
Гамлеты правительственной ложи
Для приличья хлопают слегка.
Надоело длинными ночами
Длинный текст с купюрами марать.
Я всего лишь скоморох печальный –
Не желаю Гамлета играть.
Я боюсь, сегодня сил не хватит
Падать, громогласен и кровав.
(Завтра рецензент меня расхвалит,
В скобках мои титулы назвав).
Режиссер кричит: «Скорей на сцену!»,
Да коллеги стали напирать,
Но я твердо знаю себе цену
И не стану Гамлета играть.
А помрежи силу применяют.
Вижу: тут упорством не возьмешь.
Зрители отлично принимают!
Для приличья кланяюсь. Но все ж
Вам назло, актеры и актрисы,
Словно звери в чащу – умирать
Уползу нарочно за кулисы –
Не желаю Гамлета играть!
РАВНЕНИЕ НА ЖЕНЩИНУ
«Равнение на женщину!» – лихой сержант орет;
Сам – голову направо и честь ей отдает.
И все помыты в бане, и ждет в столовке плов.
Молодцеват их топот и поворот голов.
Она ж глядит, смущенная, и чем-то машет там,
Как в ожидании выстрела отпрянув к воротам.
Греми о мостовую, чтоб искры зажигал!
Прости прохожим праздность: ведь каждый отшагал…
В казарму строем, рота! Дышите в унисон!
С трехкратного отбоя так сладок будет сон.
А там приснится женщина. Ты начинаешь звать.
Испуганный дневальный трясет твою кровать.
Ты, наконец, проснулся. О, как тебя знобит!
В двухъярусных постелях тревожно рота спит.
ЛЮДИ НА ПРИЧАЛЕ
Люди на причале
еле видны вдали,
Отплывают в море
корабли.
И я стою на палубе,
набитой битком,
А тело мое с берега
машет мне платком.
Я НЕ МАЛЬЧИК. ДОВОЛЬНО МЕНЯ ДОНИМАТЬ…
Я не мальчик. Довольно меня донимать!
Море. Берег. Наряды. Обман.
Мне бы слова всего лишь,
что в силах обнять
Плоть и душу, как утро туман.
Мне не надо любви…только слово одно, –
Пусть неясное, пусть вдалеке.
Я б вцепился в него, как хватает бревно
Утопающий в спящей реке.
Но не надо меня между делом любить,
Мне бросать подаянья похвал.
Червь, питаясь осадками долгих обид,
Мое сердце насквозь пропахал.
Рвется в сердце какая-то слабая нить.
Как надежда, доверчив мой крик.
Отдохнуть бы мне, жажду-тоску утолить,
Мне бы чистого слова родник.
ДОМ ОТЦА
Марине Москвиной
Живу неспешно. Но когда
Доставят с почты телеграмму,
Я, не разыгрывая драму,
Покину этот мир труда.
А помнится: не так давно,
Пока все в сборе и в печали
Меня, с другими заодно,
Живьем оплакать намечали.
Но я, как видите, живой.
Неведомой судьбой ведомый,
Я, вечереющей Москвой,
Бреду до временного дома.
И вдруг представится, что там,
Куда душа взметнуть хотела,
На смену тягостным годам –
Покой вне времени и тела;
Что в суете сиюминутной
Нечасто поднимал глаза
На этот дальний и уютный, –
Весь в звездных брызгах –
Дом Отца!
ХЛЕБ – НЕ ХЛЕБ, И ВИНО – НЕ ВИНО…
Татьяне Бек
Хлеб – не хлеб, и вино – не вино.
Время пусто. Лишь память бездонна.
И свершиться добру не дано,
Где ночлег, вместо отчего дома.
Но однажды пригрели меня
Гневный Ангел и дикая кошка,
А кленовые листья, звеня
Да шурша, залетали в окошко.
И воскресши, пришла нагишом
К нам надежда – ребенок лишь с виду.
Я обрел тут покой… Но ушел,
Разделив с этим домом обиду.
Но ее – ни жену, ни сестру –
Вспоминаю с печалью сегодня.
Не страшна мне юдоль на миру,
Потому что страшней преисподняя.
В подворотнях – и слякоть, и слизь.
Бормочу я в декабрьскую стужу:
«Помолись за меня, помолись,
Лишь одна ты спасешь мою душу».
PERESTROJCA & GLASTNOST
Промчался по льду синеглазый валет…
Надеюсь и жду. Но сдается порою,
(Надеюсь и думаю, разум утроив),
Что вышла свобода, а лиц еще нет
Не только в массовках – у главных героев.
Есть светлые лица, но те, что светлей,
Опять не видны здесь, где булькает омут.
Тем временем, как синеглазый валет
Царапает лед голубой по живому.
А лица бы те – по каналу Москвы,
Чтоб в каждую хату строптивость и юмор.
Досадно, что правите миром не вы,
А дяденьки те же, в суровых костюмах.
Валет продолжает скользить и скакать.
Свобода откинулась, как по амнистии.
Свобода на химии, можно сказать.
Свобода нужна, чтобы высветить лица.
СТУЧАТ ВОПРОСЫ ПО МОЗГАМ…
Стучат вопросы по мозгам,
А дождь по крыше.
И если нет покоя нам, –
Хотя бы тише…
Но как, ненастье переждя,
Вздохнуть приятно…
Беседа крыши и дождя
Мне непонятна.
ТРЕВОГА
Я – цыган с тоскою в сердце и с серьгою в ухе.
Перестали песни петься, что ли с бормотухи.
Хоть за то, что славим Бога в стольких поколеньях,
Примостись, моя Тревога, на моих коленях.
Ай, как выйду при народе я, Мануш-Саструно,
Пальцы верные забродят да по жестким струнам.
Хоть за то, что мы страдали, мялись у порога,
Примостись в кибитке старой ты, моя Тревога!
Я – цыган. Люблю раздолье. Никогда не плачу.
Расскажу я вам о Доле, а Тревогу спрячу.
Хоть я вроде тоже чтобы для чего-то, что ли,
Не бывает доли доброй, есть лишь злая Доля.
Ай, отдам за злую Долю всех своих красавиц,
Коли с этой красотой в таборе остались.
Хоть за то, что Доля злая далеко-далеко,
Ай, живи, огнем пылая, ты, моя Тревога!
Я – цыган с тоскою в песне, старый, одинокий.
И единственный мой вестник – ты, моя Тревога!
ЕСЛИ И ЕСТЬ ИСТОРИЯ КАВКАЗА, ТО ЭТО КАК РАЗ ИСТОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОРИИ...
Енджи-ханум, обойденная счастьем
Судьба Чу-Якуба
О линиях жизни и печени
Гангстер Матута подъехал к базару, вышел из своего «мерседеса» и оглянулся в поисках уларок. Дело в том,что цыганки на базаре подразделены на турих и уларок, то есть на гадалок и торговок. Подобно тому как, по свидeтeльству охотников, у туров есть в горах постоянные спутники - горные индейки-улары, которые предупреждают стадо о приближающейся опасности, за что имеют возможность питаться турьим пометом - так и на базаре торговые цыганки целый день носились туда-сюда, знали, где и что происходит, и вовремя предупреждали гадалок, спокойно стоявших на однажды выбранных местах, о появлении органов, а за эти услуги получали возможность пихать клиентам, пришедшим вопросить судьбу, сигареты, дональды и парфюмерию. Желающих погадать в тревожные эти дни становилось все больше и больше, тогда как курс демократизации постоянно лихорадил цыганский рынок. А мистика у нас всегда строже каралась, чем торговля.
Не найдя цыганок - ни турих, ни уларок - у ворот базара и около остановки, Матута понял, что недавно была очередная облава и органы отогнали цыганок к бакалейному ряду. Горсовет время от времени приказывал органам отогнать цыганок подальше от глаз иностранных туристов, будто не сам он когда-то прикрепил цыган к Старому Поселку Сухума, прервав их путешествие к краю земли под предводительством барона Мануш-Саструно. И это тоже действовало Матуте на нервы, как и все, что он видел в Черноморье по возвращении из Магадана. Так и не найдя цыганок, которых эти органы отогнали по приказу этого горсовета, как будто горсовет, дел де марел три года* (* Крепкое цыганское выражение), обеспечил город сигаретами, Матута был вынужден ступить ботинками на пыльную мостовую базара и пройти к бакалейному ряду.
А вот что было дальше. Вдруг Матута заметил, что в его подсознании нарастает смутная тревога, выражаясь слогом, которому гангстер научился на Магадане. Там ему попалась книжка без обложки, которую он прочитал и усвоил, хотя не смог выяснить ни ее названия, ни кто ее сочинил.
Но зато он научился замечать мысль, как только она появлялась в подсознании и методом фиксации вытаскивать на поверхность сознания. Это постоянно спасало Матуту в трудные минуты. И сейчас жиган тотчас почувствовал хищным нутром смутную тревогу. Она все нарастала. На мгновение ему показалось, что это продолжается его обычное раздражение на советскую власть, но вскоре Матута осознал, что смутная тревога сродни тому чувству, которое наверняка знакомо читателю, если ему приходилось, отмычкой одолев замок, войти в хату, вдруг ясно почувствовать, что хороший товар там есть, только не обойтись без мокрухи. Но, век свободы не видать, что-то другое, более торжественное проклевывалось в смутной тревоге, охватившей сердце, точнее, душу Матуты. Потому что у Матуты не было сердца. Какое может быть сердце у человека, который девятнадцать лет чалился на Севере, где за это сердце вместе с сердцем съедят в первый же день, если уже не съели на этапах.
Смутная тревога такого типа была вообще незнакома ему. Она очень насторожила жигана. Матута весь подобрался, голова заработала, как мотор, он уже готов был ко всему, хотя еще не заметил стоявшую напротив, по его выражению, Чертовски Симпатичную Цыганку. Нечто обобщенно-цыганское он уже видел, но не счел нужным вглядеться. В голове у него была простая задача - купить сигареты «Космос» сухумской фабрики, потому что фирменные он не курил, а в сердце, точнее, в душе - смутная тревога, которую Матута никак не связывал с цыганским миром.
Цыганка засекла его еще раньше, но тоже, в свою очередь, увидела не жигана, а клиента мужского пола, к органам непричастного, с которого надо стянуть пару десятков рублей. Она относилась к высшей касте - касте турих - и была сейчас на рабочем месте. А к высшей касте относилась она не потому, что была дочерью покойного барона Мануш-Саструно, который разработал правила обычного цыганского права применительно к сухумскому Старому Поселку. У барона от семи жен было огромное количество сыновей и дочерей, и никто из них не пользовался особыми привигиями, если лично этого не заслужил. Просто дар прорицательницы цыганке был дан от природы, иначе она была бы, как ее сестры, обычной уларкоЙ. В свои тринадцать лет она успела снискать себе имя, гадая и на картах, и по руке, и по зеркалу, так что покойный барон любил ее не только как дочь, но и как знатока своего дела, хотя не баловал ее, как не баловал никого, потому что это вообще не принято в цыганском мире.
Увидев Матуту, цыганка шагнула к нему, но глядела на него не более чем обобщенным взглядом. Барон не велел цыганкам смотреть на мужчин, тем более на гаджио* (* Нецыган (цыган.)), выше подбородка и ниже пояса, исключая, конечно, право глядеть во время работы в глаза и на ладони, о чем подробнее будет сказано ниже. Барон учил, что опытной турихе, чтобы изловить гаджио, достаточно общим взглядом выше пояса, но не выше подбородка, oпределить егo пол; органы он или не органы; и сколько может выложить за гадание. И только после того, как он был изловлен на гадание, ей разрешалось заглянуть ей в глаза для гипноза, а потом посмотреть на его ладонь. Причем эти два взгляда в запретные области должны быть прицельно точными, но ни в коем случае не скользящими, а тем более не соединенными друг с другом. В те доли секунды, когда взгляд, переключаясь от глаз к ладони, проходит запретные области тела гаджио, туриха обязана была его отключить. Для исполнения этого пункта старшие турихи наблюдали за младшими и наставляли их. Слежка была поручена и уларкам, хотя они в этом мало смыслили. Далее. При гадании цыганкам было дано право помимо гипноза насылать на клиента женские флюиды. Но это делалось только в случаях крайней необходимости, и делалось таким образом: беря руку гаджио в свою, туриха по этому живoму контакту посылала ему токи, чтобы он от волнения раскошелился еще больше. Но при этом строго запрещалось принимать обратное движение токов от клиента, чтобы исключить в работе эмоциональное включение, как сказал бы автор Матутиной книги. И это цыганкам легко удавалось при помощи цыганской порядочности, вложенной в них. Покойный барон разрешал также турихам в крайних случаях пользоваться своим внешним видом. Но это позволялось турихам только после замужества.
Тут, помимо согласия барона, требовалось разрешение мужа. Если муж давал такое разрешение, это означало: он был убежден, что в работе жены исключено эмоциональное включение. Всеобщая взаимная слежка гарантировала точное соблюдение турихами инструкций барона, но конечным пунктом, по которому определялась чистота работы цыганок, был результат, выражающийся в сумме заработанных денег. Пятая часть заработанного уходла в цыганский общак.
Чертовски Симпатичная Цыганка в свои тринадцать лет не была замужем.
Так что об использовании ею в работе своей внешности не могло быть и речи. Но она прекрасно обходилась без этого, отлично владея гипнозом и знанием смысла каждой линии подкожного рисунка руки, а самое главное - тончайшей интуицией. Послушная дочь отца, она вообще была готова скрывать на рабочем месте свою необыкновенную красоту, если бы ее необыкновенную красоту возможно было спрятать. Цыганочка плохо одевалась, причесывалась нарочито небрежно, даже золотые фиксы себе не вставляла, а ходила при родных беленьких зубках. Она как могла старалась вогнать вовнутрь свою внешность, оставляя снаружи лишь ее остов.
Но вернемся к Матуте и смутной тревоге в его душе. Потому что сколько бы мы ни отвлекались, она не исчезнет и не уменьшится. Рассеянно гангстер поравнялся с турихой. Совсем близко от этого места уларки посверкивали пачками сигарет. Если б не смутная тревога, ему бы пойти чуть левее, в сторону комиссионки «Адонис», и тогда бы Матута подошел непосредствено к уларкам, купил себе сигарет и вернулся к машине, а не поравнялся вслепую с Чертовски Симпатичнои Цыганкой. Туриха тоже в свою очередь видела в нем лишь обобщенного клиента, отмечая про себя самое необходимое для работы: он мужчина, он совсем не органы, он платежеспособен и, возможно, щедр.
Гангстер поравнялся с ней и, неведомо для себя и для нее, успел передать ей часть смутной тревоги. Но смутная тревога тут же продемонстрировала свое известное свойство не убывать, а удваиваться от передачи другому лицу, подобно знанию.
- А погадаю тебе, парень! - почему-то помедлив, воскликнула туриха. - Не отказывайся, а то заболеешь раком! И тут же почувствовала странную дрожь в своем рабочетароватом голосе. Наметанным глазом домушника Матута дал ей оценку. Оценка появилась лишь на поверхности сознания, и надо было ей еще нырнуть в подсознание, чтобы случилось то, чего не случиться не могло. Пока же оценка кинулась к входу в подсознание и нашла свое место занятым смутной тревогой.
Смутная тревога не только переполняла своды подсознания, но и, не вмещаясь в них, выливалась наружу.
Матута же бессознательно протянул руку турихе, трепеща в фокусе ее взгляда. Он протянул руку, стараясь унять смутную тревогу, которая могла, пожалуй, еще пригодиться, если бы он шел на дело, но ни к чему была сейчас, рядом с базаром, посреди бела дня, когда, как ему казалось, ничего не угрожало жигану. Он протянул руку не глядя, как просто цыгaнкe без конкретности, и тут же смутная тревога вылетела из души и вспорхнула ему на ладонь. Но и от этого она не утихла, а усилилась, подобно тому как не скудеет рука дающего. Его ладонь тыльной стороной опустилась в теплую, узкую, дрожащую от бега крови долину девичьей руки.
И Матута почувствовал, как на дно его души капнула печаль, отчего неподвижно-напряженная заводь его смутной тревоги встрепенулась и разошлась кругами. Вслед за этим он ощутил нежное покалывание тысяч серебряных игл, словно он вспрыснул в вены опиухи.
Но жиган пpодолжал держаться.
- Элла-мондо* (* Привет тебе! (цыган.)), косуля! - скaзал он бодро, хотя перед ним, как в тумане, стояла не косуля, а самая что ни на есть туриха. Пронзенный серебряными иглами смутной тревоги, давно мечтая схватить ее, эту стерву, и вытащить на поверхность подсознания, он флиртовал бессознательно. Сейчас он взглянул на цыганку затуманенным взором, щелкнул ее по носику и спросил: - Хочешь, косуля, устрою в кооператив? Она, кажется, даже не услыхала его предложения.
- Дай мне руку, парень! - сказала она твердо, и гипноз так и брызнул из ее глаз.
- Не хочешь или барон не разрешит? - сами сказали губы Матуты.
А смутная тревога, войдя в неведомую связь с гипнозом ее плутовских глаз, закипела и поднялась в нем, как молоко.
- Давай полтинку, парень, чтобы правда была, - добивала она его.
Полтинник был слишком большой взяткой даже при тогдашних ценах, но руки бывалого преступника сейчас слушались не его, а цыганку. Получив хрустящий полтинник, она пошептала над ним, плюнула на бумажку и протянула ее гаджио. Он, конечно, отказался брать. Получив деньги, она со вздохом отправила их под кофточку, где у нее был пришит внутренний карманчик, потому что ее девичьи грудки пока не могли служить естественным кошельком.
Туриха окинула привычным взглядом кисть жиганской руки со смешанно-лопатовидными пальцами. Отметила развитый большой палец - свидетельство большой воли, сильно выраженные запястья интеллекта, затем схватила общим взглядом его характерную ладонь и едва успела подавить крик. Цыганка соверeршенно неожиданно для себя нарушила главную заповедь турих: она поддалась эмоциональному включению. Мощные токи, исходившие от гаджио, хлынули ей на ладонь и через руку растеклись по всему тельцу, не встретив ни ома сопротимения. Оба гипнотических конуса ее взгляда опустились долу, на мостовую, залитую пивной пеноЙ. Последними усилиями воли ей удалось убрать румянец, мгновенно покрывший ее от корней волос до босых ног, но у нее кончились силы и румянец вce-тaки местами остался, напоминая аллергические пятна. А потом в глазах потемнело, характерная ладонь гангстера исчезла, и она, лишившись чувств, стала падать на мостовyю бакалейного ряда и скандально была поддержана за талию знаменитым Матутой.
- Совуло, совуло с нашей милой Дарико? - заволновались глупые уларки.
Сейчас объясню, что случилесь, только вы не галдите и не привлекайте лишних глаз и ушей, уларки! Резко вычерченная от Меркурия, делая неожиданный изгиб у Марсова холма и страстно захватывая кольцо Венеры, от линии печени к линии сердца уверенной бороздой тянулась багровая линия судьбы этого гаджио, и эта линия судьбы была сплошь исполосована неподвластными воле хозяина разветвлениями жизненных дорог, полна страстей и томлений в казенном доме. А поближе к Юпитеру, с сильно выраженным честолюбием и жаждой славы, у чувственного и прозрачного бугра Венеры гадалка, оглушенная собственным сердцебиением, увидела то, в чем уже не могло быть сомнения. Здесь явственно были: во-первых, треугольник, вовторых, звезда, в-третьих, круги, наконец, стрела, безнадежно направленная на линию жизни. Туриха заметила то, чего не замечала ни до, ни после нее ни одна туриха. Туриха заметила роковое скрещение судьбы этого гаджио с ее, ее собственной судьбой!..
Ей бы бежать, несчастной дочери отца, но она стояла и стояла, читая на его ладони, что ей невозможно бежать, видя на ней себя, как раз гадающую посланнику рока на самом скрещении своей и его судеб. И у цыганки помутнело в глазах.
Раздраженный, что eму приходится идти за сигаретами вдоль базара, где еще эта замухрышка в обмороке падает ему на руки, Матута, придерживая цыганочку, зло оглянулся, ища, кому спихнуть груз. Но рукам его становилось все приятнее и приятнее удерживать тело, трепетной струей норовящее стечь с рук. А смутную тревогу ему так и не удалось вывести из карцера подсознания, оформив в какую-нибудь путевую мысль.
- Очнись, дура! - возмутился он и дважды шлепнул ее пo смyглому личику. Но много бы дали когда-то урки Магадана, чтобы Матута бил их так небольно. - О, Бара Дэвла!* (* О, Боже мой! (цыган)) - прошептала цыганка, приходя в себя.
Уларки испуганно галдели. Поспешно вынув Дарико из лап гаджио, они осторожно усадили ее на подобие кресла, которое тут же смастерили из двух мешков. А жиган сделал то, чего не сделал в свое время, иначе не чалился, может быть, всю молодость с юностью в придачу. Будучи вором стapoй школы, Матута неоднократно уходил от органов на машинах, но считал ниже своего достоинства чухать на своих двоих, за что и поплатился длинным сроком, когда забрался в дом полковника Коявыстаршего, чтобы унести клавесин, потому что Коява не умел играть на клавесине, который получил в виде взятки, а Матута умел, ибо мечтал стать не жиганом, а композитором. Сейчас же он поспешно удалялся от бакалейного ряда; хотя удалялся - еще слабо сказано. Можно сказать даже: постыдно удалялся. Можно сказать даже - убегал. Хотя при этом его сильное тело сопротивлялось побегу и старалось нестись с достоинством, насколько это возможно, но эта нарочито-степенная поступь еще больше изобличала его побег, потому что походку подделать сложнее всего.
Туриха Дарико отрешенно откинулась на спинку импровизированного кресла рядом с недавно закрывшимся пивларьком, как бы давая возможность наконец описать себя. Ее ножки, закрытые юбками по щиколотку, опустились в тающую пивную пену, как у Афродиты, вышедшей из пены моря. А колени ее... И не знаешь, как подбирать слова, когда перед глазами маячат то свирепый Матута,то ее братья с серпами. Хоть описывай ниже подбородка и выше пояса. Придется вам поверить мне на слово: все было при ней. На ее личике словно застыла мольба, обращенная к суровым братьям, - выдать, выдать ее скорее замуж, от греха подальше! А потом шли ее глаза и прочее.
Очнулась она, окруженная глазами, юбками и звоном металла уларок.
И тут же почувствовала полтину, спрятанную под кофтой. Она не могла ее не вспомнить, потому что бумажка жгла кожу. Теперь, когда с ней случилось эмоциональное включение, деньги, полученные от виновника происшествия, были подобны плате за любовь. Рука цыганочки нырнула в межгрудье и, выловив полтинник среди прочих денег, извлекла его.
С минуту ее рука рассеянно искала, куда бы деть деньги. Уларки услужливо предложили избавить ее от лишнего груза. Но туриха не стала их беспокоить, а убрала полтинник в наружный карман юбок.
Утерев с лица брызги воды, при помощи которой ее приводили в чувство, цыганка сладостно зажмурилась. И вдруг запела песню.
У машины Матута обернулся. И хотя взгляд цыганки был рассеян, как это бывает у поющих турих, он встретился с ней глазами. Она находилась гдето в гуще соплеменниц, но взгляд его случайно нашел ее взгляд. В таких случаях ошибки быть не может.
В тот же миг от скрещения их взглядов брызнули искры, так что собственно глазами ни он, ни она ничего толком не увидели. Матута нахмурился и стал отворять дверь машины. А цыганка продолжала петь.
Оставляя внизу уларок, галдеж, грязь и наглые запахи базара, песня поднималась все выше и выше в вечернее сухумское небо, откуда открывалась необычная картина: не только «Жигули» и «москвичи», но и грузовые, и автобусы, и даже черные «Волги» с антеннами шарахались в стороны от обезумевшего «мерседеса», который вдруг выехал против течения.
Бессознательно руля, он доехал до двора любовницы и остановился под ее окнами. Раньше он себе никогда этого не позволял. Обычно он звонил Джозефине или подсылал мальчишку, а сам ждал в машине поодаль. Появление знакомого всем «мерседеса» вызвало во дворе переполох. Взрослые оставили свое домино, дети волейбол. Во всех четырех домах двора любопытные подбежали к окнам. Подтверждались слухи о том, что Джозефина изменяла мужу с бандитом Матутой. Хотя Матута не подал никаких сигналов, Джозефина почуяла его приход, прокралась в лоджию и выглянула в щель между шторами. Увидав возлюбленного, она сказала себе, что Матута совсем обалдел, порадовалась, что хоть мужа дома не было, но решила не открывать, чтобы вконец не засветиться. Однако до этого не дошло. Очевидно опомнившись, Матута тотчас уехал.
Ехал он медленно. Смутной тревоги уже не было. Вместо смутной тревоги он ощущал могучее волнение души и тела.Такого рода волнение гангстер испытывал всего несколько раз в жизни. Первый случай Матута втайне считал своим единственным грехом: однажды в лагере в Коми АССР он потребовал гитару и спел, провожая глазами клин улетающих журавлей. Второй раз он сильно разволновался, когда, вернувшись домой на волю, застал в родном городе и повсюду беспредел и беззаконие. Тогда Матута ворвался в Черноморье как чума. На первой же сходке он семь душ оставил не ворами. Раз и навсегда Матута сломал установившиеся в его отсутствие правила. А то воры здесь совершенно деградировали, сидя в доле у коммерсантов и проводя время в безделье и роскоши. И вот сейчас, как ни странно, эта замухрышка-чавела смогла вызвать в его душе бурю.Матуте вдруг стало жаль себя. Он вспомнил, что он бездомный. И решил поручить ребятам подыскать ему подходящий дом.
Все это были лишь обрывки мыслей. Первая ясная мысль оформилась в его мозгу, когда он, уже выйдя из машины и открыв калитку, шагал по двору к большому, но обшарпанному дому в цыганской слободе Старого Поселка.
«Мануш-Саструно путевый был, а сын его - чистый фуцан. Но тем не менее с ним придется поговорить» - такова была эта мысль.
Свирепый пес хозяина кинулся было на него, но тут же попятился назад, сдутый мощными флюидами Матуты. Поджав хвост, пес ушел за дом, где заскулил, чувствуя, что как раз с этим незваным гостем он должен был проявить характер.
Матута шагнул на крыльцо.
- Вообще уйду я от вас к дусеньке на кар! - услыхал он за дверью.
Вслед за этим появился цыган. Он хлопнул за собой дверью что было сил и быстро пошел, чуть не столкнувшись лбом с Матутой.
Матута хмуро остановился. Цыган смутился и обошел гaнгстepa, прихрамывая на одну ногу. Матута был сейчас в таком настроении, что ему дела не было ни до этого цыгана, ни до правосудия, которое свершилось в гостиной барона. Ни до мальчика, который был в зале, только что очистил лезвие финки от крови и положил за голенище сапожка.
Барон Саструно-младший сидел в кресле у камина.
Он только что свершил третейский суд. Если вкратце, то дело было такое. К нему с жалобой явился этот пацан, сын того цыгана, который как раз вышел, хлопнув дверью. Отец требовал от сына часть его дневной выручки, на что сын однажды ответил отказом. Тогда отец в гневе проколол сыну бедро серпом.
Жалобщик-сын настаивал на своем, говоря, что ему уже восемь лет,женитьба не за горами, так что надо собирать деньги на caмостоятельную жизнь, к тому же он и теперь помогает матери, скромной уларке. Отец же женился на русской, на стерве Дусе из Маяка, пропадает у нее, пьет и ни кара не делает. Барон постановил, что мальчик может получить удовлетворение, что тут же и было исполнено - мальчик пырнул в бедро ножом непутевого батьку.
Увидев Матуту, барон издал радостное восклицание, встал и напрaвилcя навстречу, успев цыцкануть пацану, чтобы тот убрался. Цыганок положил свой подарок - серебряную медаль, выдаваемую отличникам по окончании средней школы, - и вылетел из комнаты. Барон пошел с распростертыми объятиями, как вceгдa при встрече с гангстером, собираясь в последний момент сузить эти объятия до сердечного пожатия руки этими двумя руками. Но по дороге он оценил обстановку, тут же догадался, что гангстер к нему не с требованием, а с некоей просьбой, и потому, подойдя к нему, решительно обнял и прижал гостя к груди. Сухо, но терпеливо Матута позволил барону эту фамильярность.
Покончив с обычными расспросами про житье-бытье и выслушав жалобы барона, что цыганы теперича как бы не цыгане вовсе, Матута уселся у камина и спросил: - Где твоя сестра? - Которая сестра? - насторожился барон.
Чертовски Симпатичная Цыганочка, чей взгляд пьянит.
Чертовски Симпатичная Туриха, виновница моей смутной тревоги.
О, мне нужна дева, чьей косой можно стреножить жеребца, чьи глаза темнее налитого винограда, чье тело матово, чьи плечи покаты, а шея как росток, чей стан гибок, а бедра упруги.
О, спеши, я хочу взглянуть на деву, которой суждено иметь надо мною власть.
Нечто вроде этого заклокотало в Матуте, но вслух он произнес: - А которая на базаре гадает.
- Дарико? - нахмурился барон.
На его лице, как мыльная пена, когда в бане вдруг кончается вода, все еще оставалось дружелюбное выражение. Он имел дело с Матутой и желал иметь дело и дальше как с паханом преступного мира, но, когда речь заходила о семье, тем более о самой ценной сестре, тут же Матута превращался в глазах барона в презренного гаджио, одного из тех, от которых тысячи лет цыганство отгораживается, не желая с ними смешиваться, и изобрело для этого самый лучший способ - жить таким образом, чтобы у самих гаджио не появлялось желания смешиваться с цыганами. Тем не менее он произнес с мягкостью, чтобы сразу не идти на конфликт: - Она ребенок еще, Матута.
- Хорош! у тебя жены есть помладше.
- Оставим этот разговор, а? - Будет лучше, если поговорим по-деловому, - предложил Матута с известным в городе спокойствием. Он тоже не хотел идти на конфликт, но проявить жесткость надо было.
С презрением жиган проследил за рукой барона, нащупавшей оружие за поясом. Барон стал приподниматься.
- Короче, сядь! - приказал Матута голосом, от которого барон покорно сел, но руку продолжал держать за пазухой, что, впрочем, не оказывало на Матуту никакого воздействия.
Барон вздохнул. Матута заговорил спокойным и деловым тоном. Он сделает так, чтобы сухумская табачная фабрика закрылась на ремонт, пока цыгане не реализуют свои запасы «Космоса» И «Примы». Это первое.
В ближайшее время бывшие комсомольцы привезут партию «Мальборо», и он даст возможность взять оптом полмиллиона пачек лишь за три рубля сверху. Это второе. Третье: отныне в двух главных точках - на базаре и проспекте Мира, кроме главпочтамта, - рэкет не станет беспокоить цыган. Четвертое: на этих объектах долю будет брать сам Матута, причем снизив налог до десяти процентов. И пятое: он сделает дело у верховного прокурора за 100 тысяч, а также выпишет адвоката, который обойдется барону в 40 тысяч, чтобы брат барона, сидящий за убийство, пошел не по 104-й, а по 105-й статье, где он получит только шесть лет, сидеть будет в Гегуте, где зону кнокает чернота, и выйдет на волю за два года.
И наконец, шестое: пацанка нужна Матуте не как бикса, а почти как жена, и она будет жить в доме Матуты и рожать ему детей.
Барон заволновался. Барон просто обалдел. У него глаза на лоб повылезли от предложенного. От радости Саструно-младший чуть не нажал на курок пистолета за пазухой. Он чуть не сделал то, что сделал с собой Коява-четвертый, который три месяца тому назад, то ли случайно, то ли сердясь на него за неверность, прострелил свой кар. Барон встал и заходил по комнате.
- В натуре, Матута? - барон поправил серьгу в ухе и застенчиво заглянул в глаза Матуте, тоном вопроса выражая свое абсолютное согласие.
Он знал, что с Дарико на базаре случилось эмоциональное включение. Об этом ему доложили уларки, которые час назад шумно влетели к нему во двор, ведя отрешенно улыбающуюся Дарико. Но барон не подозревал, что причиной тому был всемогущий Матута. Он почесал за серьгой. Саструно-младший знал, что Дарико - необыкновенная чавела, и собирался продавать ее недешево, но предложенные Матутой условия превзошли все мыслимые для барона пределы. Он тут же прикинул выгоды, которые сулили ему покровительство Матуты и его конкретные предложения, и пожалел про себя, что деньги так стремительно портились.
- Но, Матута... - пробормотал он.
- Веди ее сюда, - приказал гaнгстер.
Барон решительно выхватил из-за пояса никелированный браунинг калибра 7,65.
- Матута, это я дарю тебе! - сказал он и протянул браунинг будущему сродственнику.
Матута принял оружие без эмоций, как ритуальный дар.
Барон хлопнул в ладоши. Жена его тут же зашла: она, безусловно, стояла за дверью. На яростно-мелодичном цыганском наречье барон стал давать ей распоряжения. Матута, тогда еще не понимавший этого языка, только и разобрал «Дарико» и «юбка». Было ясно, что барон приказывает ввести Дарико, нарядив в лучшие юбки табора. Звеня настоящими драгоценностями, жена послушно удалилась.
Цыганку привели. Она появилась в дверях, и рассеяный взгляд ее скользнул по Матуте. Десятки любопытных голов выглядывали из-за ее спины.
Матута остолбенел. Она не узнала его! Лишь в первую секунду, но не узнала! Да и как она могла узнать гаджио, когда его в действительности не видела! Она видела его ладонь и глаза - и больше ничего, если не считать того, что при первой встрече на базаре окинула его обобщенным взглядом.
Но получилось так, что смущенная цыганочка и тут не уследила за своим взглядом. Глаза ее встретились с глазами гостя. И она узнала в Матуте того самого гаджио по искрам, посыпавшимся от скрещения их взглядов.
Барон что-то сказал сестре по-цыгански властным тоном. Потом, обратившись к Матуте, добавил демократично:
- Поговори с ней сам, - и удалился за ширму.
Дарико побежала к брату.
- Ступай к нему! - приказал барон из-за ширмы.
Цыганка вернулась и направилась к Maтyтe. Походка ее была угловатой от растерянности и смущения. А когда подошла к нему, она проделала то, на что сам Матута в эту минуту не дерзнул бы. Приподнявшись на цыпочках, она обняла ручонками его шею. И заглянула в глаза. Взгляд ее не излучал ни плутовства, ни гипнотического конуса. Казалось, он был от стыдливости повернут вовнутрь. И движения ее были какие-то неестественные, словно она старалась добросовестно повторить задание, как юная студийка.
Однако природа тут же вступила в силу. Хрупкая, дрожащая, она прильнула к нему.
Матута замешкался. Обнять девчонку он мог, в этом не было проблем. Но дело было в том, что, сукой я буду, Матута никогда в жизни не целовался.
Жиган суровых нравов, он считал, что это западло. Никогда он этого не делал ни с одной из своих женщин. Даже в лагере, когда он воображал Любку Орлову из кино «Волгa-Волга», он не воображал себя целующимся с ней. Еще недавно он катком бы переехал любого, кто смел предположить, что Матута способен на это. Но так бы его и послушалась сейчас природа, властно завладевшая его волей! Подчиняясь ей, он позорно отворил свою пасть навстречу ее губам. Поцелуй оказался головокружительным, как утренний чифир с сахарином.
А потом Дарико, не отрываясь от жениха, приникла головой к его груди, вместо желанного покоя найдя внутри нее гудение сердца, точнее, дyши.
- О, Бара Дэвла! - прошептала она еле слышно.
...Когда на улице, где Матута не помнил, как очутился, пес снова оскалился было на него, жиган даже не успел шлепнуть его по морде флюидами.
Весь табор, собранный во дворе барона слухом о сватовстве, накинулся на пса, громко кляня его за то,что рычит на родственника. Было решено, что детали обговорят назавтра, и Матута уехал домой. Точнее, не домой, дома у Матуты не было, - а на свою квартиру, где он проживал с матерью. Отперев дверь ключом, Матута на цыпочках прокрался в лоджию, чтобы не разбудить маму. Единственное, что ему хотелось после целого дня волнений, - Этого Самого. Конечно, стоило ему позвонить, как ему все принесли бы немедленно. Но телефон был в комнате, где спала мама.
Матута уселся на кушетку, уставившись в полку книг напротив. Он отлично помнил, что как-то закладывал в книгу один пакет. Но попробуй найти нужную книгу. А книг у Матуты было много: и тех, что были собраны мамой, и тех, что он брал в книготорге из принципа.
От внезапного одиночества состояние у него было прескверное. Надо было непременно выловить нужную книгу из рядов на полке и найти пакет Этого Самого.
Почему-то Матута поднял ноги на кушетку и скрестил их под задницей.
Потом он выправил осанку, вытянул руки, поставил их ладонями на колени и так и сел. Закрыл глаза и расслабился, как последний идиот. Дышал медленно и размеренно. Так он просидел очень долго, сосредоточась на чем-то бесформенном, бессодержательном и бессмысленном. И мгновенное озарение посетило его.
Он встал, уверенно подошел к нужной полке и вытащил искомую книгу.
Пакет аккуратненько лежал между обложкой и титульным листом. Но в следующий миг его больше заинтересовала сама книга. Это была она. Он и не знал, что эта книга есть в его собственной библиотеке. Это была та книгa, которую он штудировал на Магадане, не зная ее названия и автора. «3. ФРЕИД. ТОТЕМ И ТАБУ», - прочитал он.
Восемь состояний составляли сущность Матуты: порядочность, справедливость, решительность, честь, зловещее обаяние, обостренное чутье, радостное предчувствие и смутная тревога - как восемь лучей Звезды жигана.
КАК ОН НЕОБЪЯТЕН, МИР ЗА ИГОЛЬНЫМ УШКОМ!..
Пожиратели голубей
Конфетное дерево
(Май 1986 года)
Немного о прокуроре
В деревне моей все еще жизнь полнокровна, пусть даже в этой крови поприбавилось заразы. Она, деревня моя, все-таки есть, хоть в результате недавнего оползня соскользнула с того места, где когда-то я ее полюбил; хоть много людей уехало на поездах и уплыло на плавкранах (и если кто вернулся, то вернулся не совсем таким, каким уезжал); хоть колхоза уже нет, хоть море придвигается, – все же жизнь существует, к которой можно обратить прощальные слова. И местность тоже можно назвать живописнейшей, но описание природы я оставлю.
Я из тех, кто, описывая село, опасливо живет в городе. Сейчас у нас летние каникулы, деревня же наша приморская, и я пойду по проселочной дороге в сторону моря и стану рассказывать всяческие истории о людях, которых вспомню, глядя на дома вдоль дороги. И если ты, читатель, согласишься быть моим спутником, в конце недолгой дороги мы выйдем к замечательному пляжу.
Расскажу историю кого-нибудь из дома справа, потом, пропустив следующий дом, оглянусь налево – расскажу о ком-нибудь из первого дома слева, потом, пропустив следующий дом, обернусь направо – и так далее. Именно такой метод описания целиком и полностью оправдал себя на практике тамышского филиала, о котором речь пойдет ниже.
Надо сказать, что деревня наша была когда-то селом. А деревней стала с того самого дня, когда наши отцы разнесли церковь с юным пылом, который позже созрел в строительстве колхоза, ныне распроданного по частям.
Итак, первый дом справа.
Но в этом доме живет прокурор. Не хочется начинать с прокурора, хотя ничего плохого сказать о нем не собираюсь, как раз собираюсь о нем только хорошее, да и плохого сказать о нем нечего, и не потому, что он прокурор, а потому что хороший человек, но все же не хочется начинать именно с него, именно с прокурора. Начну с первого дома слева.
Но и тут – одинокая старушка, живущая в старом деревянном доме, когда-то самом лучшем в нашем селе – эта женщина неинтересна. Интересен был ее отец. Когда он, офицер, историк и дворянин, женился на простолюдинке, его чопорные сестры, возмущенные этим обстоятельством, состарились в девах.
Очень ругательная эта старушка и прозвище у нее Фонтал. Она воюет со всеми соседями, но соседи пустяк: она затеяла тяжбу с пионерами из-за шума барабанов и звона горна, а что за пионеры без барабанов и без горна; она победила ВИА при сельсовете, а сельсовет без ВИА – как бы и не сельсовет вовсе; пост ГАИ перенесла на версту от своего дома, вернее, не сама перенесла, а мешала дорожным стражам сидеть в засаде, вот они сами и перешли на другое место; полностью запретила отстрел дроздов, а другой дичи у нас нет. Но меня она никогда не тронет; сам не знаю, благодаря чему, может быть потому, что народ все еще любит своих летописцев.
– Почему ты напустилась на филиал? – спрашиваю я ее. – Разве для нашей деревни не честь, что у нас – филиал. Да нас же весь мир, таким образом, узнал, даже понятие есть «тамышский эффект»!
Она догадывается, что я демонстрирую, как не боюсь ее.
Чудовищным усилием воли старуха сдерживает свору слов, рвущихся из нее, а голос так и трещит от насильственного смягчения.
– Нечего их начальнице кофе пить.
– Что из того, что она кофе пьет?
Фонтал догадывается. Внутренний взор ее ищет в тайниках души, чтобы найти улыбку, которая там была, она точно помнит, что была, и извлечь ее на поверхность лица, сейчас багрово-синего от усилия сдержаться. Но улыбка появляется, вся какая-то зажмурившаяся, словно ослепла от света. И я вспоминаю, как старуха одинока. Уж лучше бы она и меня осыпала своими проклятиями, думаю я, удаляясь.
– Иди своей дорогой, – говорит она вслед. – А то я тебе не забыла, как ты потерял бумагу моего покойного отца!
Дело вот в чем. Как-то я застал старушку, когда она закрывала банки с аджикой и вареньем. Среди множества тетрадей ее недолгого ученичества, которые она пустила в ход, я обнаружил затесавшуюся к ним тетрадь, исписанную красивым дореволюционным почерком. То были записи ее отца, в которых он, как оказалось, исследовал итальянские фактории на черноморском побережье. Я отобрал у старухи записи. Фонтал даже согласилась распечатать несколько банок с пущенными в ход страницами труда. Я сдал все это в Абхазский музей. Старушке же, когда она одумалась и стала требовать бумаги отца назад, я поклялся, что потерял тетрадь спьяну, чтобы уберечь от нападения государственный музей. Конечно же, она дорожила всем, что осталось от отца, даже в голодные годы не продала его оружие и вещи, но отец погиб, не успев дать ей образования, и мудрено ли, что она не знала цены его записей.
Эти спасенные от аджики были первым исследованием трехсотлетнего пребывания на нашем побережье факторий из вольных городов Венеции и Генуи. Даже в нашей деревне итальянцы успели построить белую крепость, окрестили ее Санта Таманча и торговали оттуда с местным населением. Они привозили предметы роскоши, всякие там зеркальца да пудру, покупали корабельный лес, самшит для отделки соборов, тис для Страдивария, а также воск и барсовы шкуры, но в основном прелестных рабынь и будущих воинов, поставляя их на невольничьи рынки Востока. Итальянцы привезли диковинные деревья, например, конфетное дерево; вот один экземпляр его стоит у развалин церкви. Эти деревья сохранились как в нашей деревне, так и повсюду, где были фактории. Прошло время, оно старательно смело следы итальянцев, как сметало следы многих пришельцев до и после них, и даже обломки старой белой крепости потонули в море на глазах еще живущих. Только то там, то тут, в лесу, неожиданно в зарослях ольхи, граба и бука, оплетенных лианами и колючими ползунами, вдруг попадается конфетное дерево, семя которого носит ветер в окрестностях белой крепости. Да еще остались в Абхазии род Ванача и род Джения, что соответствует Венеции и Генуе, и фамилия автора сих строк есть сокращенное Санта-Мария. Бытует также много имен, как то: Сандро, Джотто, Джанваз, а прокурора, так его вообще зовут Гвидо Джоттович. Соседние с нами мингрельцы тоже сохранили имя Лаврентий.
Но не будем отвлекаться. Пропускаю следующий дом справа и оборачиваюсь к первому дому слева.
Именно на просторы чистых рассуждений, потому что сейчас откроется обезьяний филиал, как только мы минуем Дубовую рощу. Только не стоит искать глазами дуб. Дуб вырублен, одно название, а на его месте поднялась чахлая, мутирующая ольха. Ольха, как я недавно выяснил, из семейства березовых. Повсюду, где вырубили благородные породы, растет у нас ольха. Примерно так, как в России береза. Ольха – обыватель наших лесов, всех переживший, неистребимый и небесполезный, как и все обыватели.
Я люблю людей. Природы не люблю. Если выразиться проще, я достаточно люблю людей, но недолюбливаю природу. В этом смысле я – гуманист, подобно тем итальянцам, которые построили в моей деревне когда-то прекрасную белую крепость и завезли к нам конфетное дерево. Ведь был у них как раз тогда художник Ботичелли, которого и звали-то Сандро. Так вот, этот самый Ботичелли Сандро любил писать людей, а природу – нет. Позже итальянские мастера если и стали писать природу, то опять как вид из окна Мадонны. А это еще куда не шло. А сегодняшний Феллини в Италии, которая, как известно по карте, полуостров и отовсюду омывается морем, снимает море в павильоне. Крашеный целлофан, колышется как надо, и все в порядке.
Природа была к человеку добра, когда человек был как бы ее частью. Но как только он не захотел быть ее частью, ее дитятью, природа открылась ему иной, чем она видна из окна Мадонны. А быть дитятью человек не может, потому что он наделен волей. Гордостью и страстями.
Человек умеет разгадывать тайны природы. Каждый раз, угадав очередную тайну природы, человек убеждается, что она, оказывается, была довольно проста и к тому же плохо припрятана. А насколько сложнее сам человек со своими волей, гордостью и страстями. Просто он молод и до многого еще не дошел.
А за каждый разгаданный свой закон посрамленная природа мстит человеку. Мстит мелко, но жестоко. Но и к этому надо быть готовыми. Бог не оставит человека в беде и не позволит, чтобы человек выглядел жалким.
В тысячелетней войне с человеком природа идет на все новые и новые уловки. Одна из ее уловок такова: природа-дьявол в борьбе с созданием Божьим сама научилась принимать его внешний облик. Вот и ходят среди нас с вами лже-люди. Нам кажется, что они то же, что и мы. А они – самые что ни на есть дети природы.
Дети природы умеют внушать, словно и они заняты, а то только они и заняты разгадыванием тайн природы, но вот открытые ими законы понятны им и им подобным. «Как прекрасна природа», – скажут они как бы невзначай. «Из окна Мадонны?» – спросим мы. «Нет, отовсюду!» – аккуратно вложат они нам в голову.
Их открытия не приносят народу радости. Только злорадное тщеславие узкого круга посвященных. А ведь каждый, в самом деле, закон, открытый, в самом деле, человеком, тут же становился понятен любому гимназисту. Что ни на миг не умаляло ни величия первооткрывателя, ни величия открытия.
Еще ухищрение вытекает из первого: человеку навязывается мысль, что природа гибнет, причем гибнет по вине человека. Уничтожить природу – разве это возможно? Уничтожить можно только человека. Бог поселил людей на земле, чтобы они плодились, множились и питались дарами земли. Природа послала на землю своих детей. Не они ли достали из недр земли и из расщелин скал испражнения своей, когда-то хозяйничавшей здесь родительницы? Не они ли соединили, а потом расщепили эти самые экскременты на погибель человеку?
Надо освободить человека от груза вины пред природой. Но сначала следует избавить его от восторга перед ней. Если никак нельзя человеку, который молод и эмоционален, без восторгов, вот он сам, со своими волей, гордостью и страстями.
Да что уж говорить! Давно ли я сам купался, фыркая, брызгаясь в горных потоках, дышал воздухом во все легкие, молодые и глупые, играл в снежки и подставлял лицо дождю. Теперь я этого не делаю. Если мне невозможно не дышать этим воздухом, чёрти чем начиненным, уж по крайней мере, не стану обманывать себя, будто это – удовольствие.
Воля – моя вера, гордость – моя надежда, а страстями я люблю. Искать дитя природы, любоваться им, Дерсу Узалой – увольте! В якобы щемящести этой темы есть затаенная халтура.
Нам говорят, что всеми силами надо защищать природу. Но нельзя всеми силами защищать то, что не любишь всеми силами.
С раскаянием, например, вспоминаю, как на подступах к затерянному в наших горах ледяному озеру Мзы я присел отдохнуть, вернее, рухнул от усталости на закинутый на плечо вещмешок. Отсюда – перспектива простора, отсюда – в небе орлы.
Хочешь ручья – он журчит слева и справа, хочешь безмолвия – вот оно. Вдруг я захотел, чтобы время, которое сейчас замерло, никогда не включалось снова, а если невозможно ему не включаться, тогда мне умереть и остаться здесь навсегда.
Но достойно ли сыну крестьянина, одного из основателей колхоза, желать себе смерти вдали от родной деревни! Ведь потому я с недавних пор стал жить неторопливо, что понял: только смерть моя очистит воздух, разгонит с криком обезьян, вернет все утраченное, даст мне времени, чтобы успеть; и только в моей деревне может быть мой рай, где я сяду под конфетным деревом, знакомя живших здесь когда-то с теми, кого мое воображение поселяло с ними рядом.
Впрочем, почему я заговорил о горах? Точно! Даже там, на высоте, куда тропы должны знать только отважные браконьеры, даже там я набрел однажды на ржавый остов какого-то механизма. И там уже побывали дети природы. Наверное, искали испражнения родительницы, чтобы потом их расщепить. А что касается браконьеров, сейчас уже охотников нет, есть одни браконьеры. Сейчас природу так берегут, что уже горцу нельзя заняться своим любимым ремеслом – охотой с риском. Отстрел туров строго воспрещен. Можно подумать, что тура может достать каждый. Мне кажется, что из-за этих запретов, а не наоборот, гибнут все виды зверей один за другим. Они заждались охотника, их существование потеряло смысл. А вы можете представить себе заповедник, который кишмя кишит редкой дичью, где лань научилась не только трепетать, но и лазить по скалам.
Но довольно о горах. Горы далеко, а мы подходим к морю. Наша аробная тропа ведет нас через ольшаник, через болото, – и вот пустырь, заросший папоротником. Только не стоит искать здесь папоротника, равно как старшину с соседской вдовой.
Папоротник огорожен, как полигон, высокими стенами обезьяньего филиала. До самого моря. Там процветает шимпанзе Боря, которого открыто сводят с самками, чтобы вызвать у их самцов инфаркт в научных целях.
И болото, и папоротники были давно, еще задолго до нас, в годы динозавров. Я согласен с тем, что и динозавры не лишены красоты и величавости. Но рисунки, где они изображены на фоне зелено-желтых пейзажей, навевают на меня лишь тягучее уныние, словно живопись фантастов или снимки с космоса.
Ибо этот пермский мир, хоть именно человеком и воссоздан, мертв и ложен этот мир, потому что как раз его, человека, в нем нет. Что такое природа вне, а тем более без человека кишение молекул, и не более. Только человек наделен способностью придать абрис себе и окружающему. Форму творит только человек, его представление, а не природа сама по себе, прекрасно, как и он сам, как его воля, гордость и страсти. Но мы подошли к морю, а это конец нашей маленькой прогулки, а стало быть, и повести. И хорошо, что в море не советуют купаться. Хотя, с другой стороны если посмотреть, уж лучше бы здесь стояли дома творчества и санатории, а то видишь: отсюда – бастион обезьяньего филиала, отсюда – пасутся какие-то общественные клячи. Единственное утешение – строится дом отдыха прокурора.
Море я воспринимаю только в городе, где, как я уже говорил, постоянно живу. Я люблю просиживать на кафе-терассе «Амра», маленьким пирсом входящей в море. Оно, т.е. море, там и воспринимается как декорация. Как крашеный феллиниевский целлофан или вид из окна Мадонны у старых итальянцев. А тут, в моей деревне, море – всамделишнее море, как говорится, прямо в лоб. Вот оно где плещется – услада отдыхающей братии. Мало того, море придвигается. Море вгрызается в землю, море захватывает землю, за которую, кстати, уже уплочено. И вот уже волны бьются не в белый песок пляжа, как еще недавно они это делали, а подкатываются к красным попкам шимпанзе.
А подойдешь к самому краю глинистого обрыва: там действительно обрывается, заканчивается моя маленькая родина, а дальше, а в других местах, куда не пойди, у кого не ищи сочувствия – больше нет ее нигде…
Уж лучше бы я рассказал о прокуроре Гвидо Джоттовиче.
Косуля
Жеребенок, чье имя я забыл
Граммофон
Когда мои родители переехали жить на дачу, я, студент, остался в городской квартире с тетушкой. Тетушка была старая, но вполне на ходу и даже работала в каком-то учреждении. На работе тетушка была исполнительная и замершая, оживала только дома, где ее ждал старинный граммофон.
Граммофон был старинный, старинней самой тетушки Анны Михайловны, пожившей еще до революции и еще как пожившей! Назывался граммофон «Лондонская собачка». Такому названию он обязан эмблеме, вправленной в корпус: изображению собачки у граммофонной трубы с надписью «His masterly voice» (его мастерское звучание) старой фирмы, существующей до сих пор – RCA-Victor. Корпус у него из синей карельской березы, уголки инкрустированы медью, труба раскрашена семью цветами радуги в природной последовательности, а сверху покрыта лаком. Лак уже мелко потрескался бледной сеткой, какой покрывается старая живопись. В комплект входил и стульчик, тоже из карельской березы. И большинство пластинок у старушки были фирмы RCA-Victor. Как давно они крутились под иглой, тем более, что граммофон у нее постоянно работал, но пластинки не износились, не утратили «своего мастерского звучания». Только вправленные в корпус часы вышли из строя, но тетушку это не беспокоило.
Как она служила своему инструменту... Медную инкрустацию она чистила пастой Гойя. Иглы точила сама. Трубу не чистила, а обтирала особой бархоточкой. Это был целый ритуал.
А как она присаживалась к нему! Что-то в этом виделось мне неприлично-моложавое во всем облике обычно до смешного подтянутой и правильной старушки: в том, как она идет к граммофону, даже раскачивается на ходу и про себя напевает, накладывая слова любимой песенки на другой мотив: «О, майне лийбе Аугустин!», например, напевала как «Фигаро».
А когда, держа на коленях ушастого той-терьера Жужу, старушка усядется в кресло и, глядя на экран телевизора без звука, слушает граммофон, даже я при постоянно ироническом к ней отношении посчитал бы бесчеловечным ей помешать. Как нельзя помешать молящемуся. Впрочем, я все это подсмотрел, а обычно, зная время ее уединения, заблаговременно удалялся.
Слушает, бывало, тетушка свои старые песни, которые с характерным хрипком вырываются из трубы, а сама все смотрит на глухой экран, который как бы визуально подтверждает убогость современности, которую она в нем видит, по сравнению с тем временем, откуда храпела-шипела старая музыка, словно несла в себе шум времени.
Жизнь моя, когда я остался без непосредственной родительской опеки, конечно же, стала лучше. Например, мог вернуться домой, когда хотел. Тетушка слегка пожурит меня, но родителям не жаловалась: забывала мои проступки. В общем-то, ей было мало дела до меня: она жила воспоминаниями. Она была из бывших. В советское время судьба ее обошлась без драм, но обошлась и без самой жизни. Она когда-то, говорят, прекрасно музицировала, знала французский, но это в жизни ей не пригодилось ни разу и выветрилось из памяти со временем. А вообще, от прежней жизни у нее осталось всего ничего. Граммофон заменял ей все.
Что может нарушить такую идиллию? Конечно, скажете вы, должен сломаться граммофон.
Да, однажды граммофон сломался. Порвалась пружина, будь она неладна. Впрочем, что тут удивительного: пружина добросовестно прослужила почти век!
Пружина порвалась, когда пластинка была на половине, когда мелодия успела захватить старушку и собачку. Раскатистый звук с грохотом умолк. Жужу соскочила с колен тетушки, вся дрожа. Старушка осмотрела со всех сторон граммофон. Но граммофон молчал, глухонемой и холодный. Она к ручке – та легко крутилась в гнезде. Она к головке – та лежала на пластинке, как змея в обмороке. Старушка оглянулась, ища помощи – в глазах мужчины на телеэкране она прочла, что и то, что он говорит, и его улыбка предназначены так же, как ей, еще миллионам, и если бы в них была теплота, то ей бы принадлежала одна миллионная часть.
Я был этому свидетель. Я стал убеждать тетушку, что непременно починю граммофон. И слово сдержал: старый грек-мастер так соединил порванные части пружины, что она проработала еще двадцать лет, по крайней мере. Кстати, и часы на корпусе он починил.
Но тетушка охладела к граммофону. Он ей изменил. Вскоре она окончательно рассчиталась на работе и согласилась уйти к родителям (отец мой приходился ей племянником). Она ушла, прижимая к груди той-терьера Жужу, ушла, даже не оглянувшись к граммофону, который, кстати, уже был в рабочем состоянии.
Она не переселилась с родителями сразу, потому что знала, видимо, что тот искусственный мирок, который она тут как-то создала и в котором только и могла существовать, – этот мир невозможно транспортировать и восстанавливать в другом месте. Граммофон сломался, и мир этот был разрушен. Наверное, мне не следовало починять еще и часы. Может быть, они символизировали искусственно остановленное время.
Тетушка жила еще долго, лет семь. Но часто болела. Но зато ваш покорный слуга загулял! Мне было двадцать неполных лет. И я живу один в хате, без предков. В квартире моей на Сухумской горе не было отбоя от гостей. Точнее, в квартире моей часто бывали гостьи. Еще бы: у меня помимо всего прочего дома была такая приманка: настоящий старинный граммофон фирмы RCA-Victor. «Лондонская собачка». Послушаем, бывало, старые пластинки. Еще друг из Прибалтики привез целую пачку настоящих граммофонных иголок. Он нашел их в каком-то сельском магазине. «О, майне лийбе Аугустин». Мелодия выливалась из трубы, лак, которой потрескался, как на старинных картинах. Но тут кто-нибудь скажет: «Давайте, включим маг!» И граммофон, сделав свое дело, на время умолкал.
Когда у нас была война, граммофон унесли, как и все, что я имел. Но его вряд ли выбросили – вещь-то старая, раритет. Кого ублажает теперь «his masterly voice».
Игольное ушко
Я ПОПЫТАЛСЯ СКРЕСТИТЬ МОЛВУ С ДОКУМЕНТОМ...
О долгожительстве
Шахан-Гирей и Мустафа
С Рождеством, дорогие читатели!
Сегодня хочется поведать особенную такую историю, потому что Рождество Христово. Ведь, берясь за перо под Рождество, каждому хочется быть добрым сказочником. Сказку мы придумаем какую угодно, и, если надо, еще и былью ее сделаем, для того и рождены. Только хватит ли этой самой доброты на весь текст!
Теперь, значит, вот, как говорил наш учитель географии.
Послушайте меня, вернее, почитайте! Сегодня мне хочется пожелать вам того, чего желают на Кавказе добрые люди добрым людям:
– Многая лета!
Многая лета! Все хотят жить долго. Поговорим же о долгожительстве. А почему бы и нет! Столько ничего не значащих, звонких слов наслышался каждый из вас за эти праздничные дни, не так ли? Все хотят выглядеть веселее, чем есть на самом деле, однако каждый из нас в отдельности знает, что любой этапный день, – будь он общий праздник, или собственные именины, – всегда несет в себе печаль, потому что ум и сердце невольно подводят итоги.
Жизнь становится по-настоящему дорога, когда она начинает уходить. Это только про мудрого Саади сказали современники, что когда он рождался, все радовались, а плакал только он, а когда он умирал – все плакали, радовался он один. Все хотят жить долго. Если даже жизнь давно не в радость, человек предпочитает влачить ее тягость, потому что перевешивает страх от неведения того: что же за чертой? Поэт сказал: душа не ищет роскошных жилищ, она хочет лишь жить и не умирать. Терпящий зубную боль не желает идти к цирюльнику именно из страха большей боли. В боязни смерти заложена жажда бессмертия. Теперь, значит, вот…
Абхазское долгожительство когда-то было темой. А пик всемирной известности Абхазии как уголка уникального долгожительства пришелся на шестидесятые годы. Помню в детстве, как приезжали в наше село журналисты со всего мира. Живописные старики наши в живописных черкесках изображались на обложках красочных журналов мира, как звезды Голливуда.
Этот бум вскоре схлынул. Как объясняют геронтологи Запада, феномен при тщательном изучении стал вызывать сомнения. А я считаю, что эти патлатые сами сглазили наших патриархов. Ведь они заставляли их внеурочно делать то, что старики позволяли себе раз или два в жизни: фотографироваться. Снималка высасывает из человека тень.
Нынешнее же поколение нашей молодежи предпочитает столетней жизни в уединении бурную жизнь на миру.
Чемпионом долгожительства в Абхазии считается поляк, в Кавказскую войну, в начале прошлого столетия перебежавший на сторону горцев. В тридцать каком-то году, когда к нему привезли гостившего в Союзе Анри Барбюса, имени своего от рождения, равно как польского и русского языков, он уже не помнил (или не помнил, помнит ли). Знал только фамилию – Шапковский. Звали старика Джидж, и было ему 164 года. Барбюс его зафиксировал, и он вскоре умер.
Другого долгожителя, Шахан-Гирея Бжания на 147-м году жизни посетил Джон Пристли. «Три года понадобилось мне, чтобы научиться говорить, и сто лет, чтобы научиться молчать», – признался он англичанину, который при этом кадр за кадром выкалачивал из старика тень.
Конечно же, и он умер, как только отъехал именитый гость, как те жители потаенной таежной деревни, погибшие после того, как их нашли и к ним хлынули журналисты, орудющие снималкой.
Джон Пристли проделал это в сорок шестом году, откуда читатель может вычислить, что Шахан-Гирей родился в один год с Пушкиным. Историю Шахан-Гирея я знаю хорошо, потому что он был нам родственник. Его первая жена приходилась родной сестрой Софьи Григорьевны, моей бабки по отцу. От нее у ШаханГирея была дочь. Когда Андрей Битов гостил в Тамыше, старушки уже не было в живых. Писатель увидел траурную вывеску на доме, на которой значились даты ее рождения и смерти: 1880-1982, подивился, что старушка родилась в один год с Блоком, и вывел ее под именем «Блоковской старушки» в романе «Оглашенные».
В первые годы советизации старик Шахан-Гирей овдовел. А было ему так много лет, что страшно сказать. Он остался один, и родные решили женить его на вдове, чтобы она присмотрела за стариком, пока он жив. А после его смерти ей бы досталось его нехитрое добро. Вдовья доля тяжела, в особенности, если у нее нет детей. Возвратившись в отчий дом, она застает свое место занятым: там хозяйничает сноха. И потому в деревнях вдовы, даже в пожилом возрасте, часто выходят замуж, оговаривая порою, чтобы новый муж не бесчестил их неуместным постельным молодечеством.
Теперь, значит, вот… Решили родственники: женить старика, чтобы жена в те несколько лет, что старику осталось жить, послужила ему как бы санитаркой. Но сам Шахан-Гирей думал иначе. И потому, отправляя всадников за молодой, он позвал моего отца, которому было двенадцать лет, и отправил его на скакуне впереди процессии, потому что у отца моего Бадза Тамшуговича была добрая нога. Так оно и оказалось. Вдова родила старику двух сыновей, младший из которых был директором сельской школы, которую я заканчивал. Теперь, значит, вот, год рождения старика вам известен, а директор школы родился в 1922 году. Посчитайте!
А Мустафу Чачхалия я хорошо помню. Школа, где я учился первые годы, до революции была церковно-приходской и потому окружена могилами. Перед школой растет кипарис и под ним – пять одинаковых пирамидальных гробниц. Очистив камень от хвои, можно прочитать надпись: четыре брата и сестра, родившиеся в разное время и умершие в один день (точнее, в одну ночь). Их взяла испанка. То был обычный грипп, при отсутствии антибиотиков он уносил миллионы жизней.
Свирепствовал он в Абхазии в 1918 году. В одну ночь старик потерял пятерых детей. Представьте ночь, когда они с женой, бегая от ребенка к ребенку, до рассвета сложили на груди руки всем своим детям. И никто ведь не пришел бы на помощь: все были или больны, или боялись заболеть.
И Мустафа не сломался. С той же женой он потом произвел на свет дочь. Рассказывали, что рядом с кладбищем, на лужайке, предназначенной для игрищ, он играл в кеброу, что-то наподобие крокета.
В последние годы он иногда жаловался на нездоровье.
Проходя мимо нашей усадьбы, зайдет, бывало, потребует колодезной воды и посидит с четверть часа с нашим отцом под шелковицей, чтобы поговорить о том, о сем. Он вообще до конца своих дней не прекратил дальние прогулки по селу. Опасаясь за старика, дочь прятала от него обувь, но это его не останавливало: он выходил на прогулку в носках. Шел посередине дороги, не признавая обочин. Машины, которых в те шестидесятые было еще немного, раздраженно сигналили, но старик не сворачивал, и им приходилось объезжать старика.
С тех пор, как впервые автомобиль позабавил стариков тем, что мчался без упряжки (еще рассказывали: когда Шахан-Гирею показали автомобиль – вон, гляди, дескать, самоходная арба, о которой мы тебе рассказывали, – старец поднял голову и ясно взглянул на автомобиль, но при этом взгляд его от долгой жизни и приобретенной с нею мудрости, был таким тяжелым, что от него, от его взгляда, тотчас диво-машина заглохла и из открытого лимузина, чертыхаясь, вышли совнарком Нестор Лакоба, комиссар по культуре Баграт Зантария и шофер Борислав Стоянов), – так вот, с тех пор, как появился автомобиль на нашей дороге, прошло полвека, но никого еще из прохожих, он, походя не задел. Это в Тифлисе случилось такое, что Камо ехал на единственном в городе велосипеде и попал под единственный авто, принадлежавший председателю грузинского ЦИКа Махарадзе. Так что Мустафа гулял как раз по середине дороги, не зная за автомобилем такого качества, как способность сбить человека.
Кстати о совнаркоме Лакоба и комиссаре культуры Зантария: пока Борислав Стоянов чинил дровяное топливо мотора, их пригласили в дом. А старика спросили, какого из козлов забить для гостей, чтоб стыдно не было. «Вон того!» – сказал старик, и взглядом сшиб козла с ног, ловить не пришлось. При этом учтите, что козы сами с нечистой силой знаются и очень крепких нервов четвероногие.
Теперь, значит, вот… В последние годы жизни какие-то сбои в работе организма стали привлекать внимание Мустафы. «Как посижу с полчасика и встаю, то порой что-то кольнет тут, у поясницы, – жаловался он отцу. – С чего бы это, Бадз?» И не было тут старческой рисовки и кокетства; напротив, Мустафа был встревожен: колет в бок, с чего бы? Неужели он умудрился прожить сто тридцать из страха смерти? Кто знает!
И вот о гробнице, возле которой Мустафа играл в крокет, точнее кеброу. В новогодние каникулы, чтобы верхушки сосен, которыми была окружена школьная усадьба, не срубили на елку, школьникам поручали дежурить в школе по ночам. Какие это были счастливые ночи! Ночи без родительской опеки! Мы пили вино! Мы валялись на диване учительской! У нас было ружье сторожа Виктора Цаавы!
Я выпил вина и вышел на улицу. Лег на одно из надгробий, закутавшись в плащ и вглядываясь в небо, в Млечный Путь, где трещали золотые искорки звезд. Я лежал, хмельной, вдохновенный и радостный. И, конечно же, думал о нашей старшей пионервожатой.
Я лежал на гробнице и думал о пионервожатой, дочери сторожа, которую звали Циала. Она была грациозна и носила множество украшений: в волосах, на шее, в ушах, на пальцах. Я думал и мечтал о ней, сильно выражаясь про себя. Конечно же, я влюблен был в нее страстно. Но любовь моя выражалась в нецеломудренных эротических фантазиях, основанных не на опыте, разумеется, а на россказнях моего кузена-балбеса. Точно так в детстве, когда была неуемная энергия, любовь к деревьям выражалась в желании залезть на это дерево. Уже в городе, останавливаюсь под раскидистым камфорным деревом и оглядываю его снизу доверху, воображая детально, за что держаться и куда поставить ногу, чтобы залезть на макушку. А сам в белоснежной нейлоновой рубашке, техасках и туфлях фирмы «Цебо» – нельзя! Теперь я понимаю, что таким образом я обнимал дерево: я объяснялся ему в любви!
А тогда я думал о плутовке и, наверное, со мной был дух одного из парней, чью жизнь унесла испанка в такую же ночь.
Эх! А мне так хотелось рассказать вам особенную рождественскую историю. Но, как говорится, хотелось как лучше, а вышло как всегда. Послушайте стихотворение. Точнее, прочитайте.
Ночь над деревней беспредельна, глубока.
Повсюду тишина – в объеме целокупном.
Что дальний лай собак, что ближний звон сверчка –
Все стало чуждо, и роднее звездный купол.
Так теплом я ленив и так душа легка!
Куда спешит душа из оболочки грубой?
А если все – обман, зачем тогда тоска,
И что это за речь невольно шепчут губы?
Душа, ты полетишь по Млечному Пути,
Где множество родных теней обнять удастся
Пред тем, как и тебе, придет пора врасти
В тот мир, где суждено забыться и остаться, –
Откуда и мой дед не захотел уйти,
Умевший из любых скитаний возвращаться
Три свидания с домом
Русские горцы
Путевые заметки с историческими справками
и некоторыми рецептами народной кухни
Наш корреспондент побывал в Абхазии, где специально вылетел в затерянное в горах и окруженное со всех сторон горными перевалами село Псху. Трудности, которые испытывает равнинная Абхазия, изнуренная войной и последовавшей за ней блокадой, именуемой в народе «козыревской», вынудила многих жителей покинуть этот живописный оазис посреди Главного Кавказского хребта. А совсем недавно Псху был густонаселенным местом. Осталось чуть более пятидесяти семей. Это потомки дворян и вольного казачества, бежавшие от советизации. Они сохранили свои обычаи и веру. Вместе с тем тут вывелась редкая генерация русских – русские горцы. Русские, которые ходят по пересеченной местности, исповедуют горский этикет, охотятся на туров (я выдал вас, друзья!). У которых чачи – море разливанное, но пьют ее только в большие праздники, или когда гости.
Эта обширная цветущая долина, к которой подлетает наш вертолет, когда-то гордо именовалась страной Псху. Есть даже книга с одноименным названием. Со всех сторон окруженная горными перевалами и отдаленная от ближайшего населенного пункта на десятки километров, долина вся представляет собой сад. От населения, покинувшего край в прошлом столетии в результате Кавказской войны, остались седые от старости, могучие грецкие орехи, груши и яблони, сорт которых абхазы называют зимним, а остальные народы – абхазским (первую пробу плодов эти яблони дают на сороковом году!). Притоки реки Бзыбь текут по середине села, орошая каменистую, но жирную почву лугов. Но люди пьют воду только из родников, которых тут в изобилии. На окраине села – святилище, которому поклоняются абхазы, в чьих религиозных представлениях много язычества античного образца.
Еще недавно тут жили абазины, но они уехали. Когда-то они бежали в Абхазию вместе, абазины и казаки, в большинстве своем дворяне. Общая беда советизации заставила их забыть вековые распри. Прибыли в Сухум к кунаку, которого считали абреком, а тут выяснилось, что их кунак не кто иной, как председатель Совнаркома СССР Абхазии Нестор Лакоба. И в прежние времена, когда беженцы у себя на родине помогали ему и укрывали его, он был не абреком, а экспроприатором. Тем не менее кунак посоветовал гостям пробираться на Псху, где, по его предположениям, лет десять они могли быть спокойны.
Равнинные русские имеют шанс оформить российскую пенсию и выезжают за ней в Сочи, прихватив с собой тачку-вторую мандарин. А жителю страны Псху еще надо добраться до большой земли. Но жители не унывают, надеясь, что Русь-матушка сама к ним придет через присоединение всей Абхазии к Российской Федерации.
Первое письменное упоминание о Псху принадлежит эффенди Эвлия Челеби. Этот турецкий Марко Поло сопровождал, приходясь ему родным племянником, Мелик-Ахмет-Хана, абхаза по происхождению, вновь назначенного великим везирем Блистательной Порты, то есть Турецкой империи, когда последний объезжал вверенные ему провинции. Население урочища Челеби определяет характерно: «Девять тысяч буйных мужей». Ночь выдалась для путешественника тревожная: ему пришлось наблюдать битву в небе кавалерии абхазских и черкесских джинджиков, то есть, попросту вампиров. Кавалерии, потому что джинджики были верхом на мертвых быках. С неба на испуганного ученого падали сломанные копья и даже вырванные с корнем пни. Но когда землепроходец, стряхнув с платья пыль от дубовых пней, вернулся в саклю, его ждал ужин с «красным вином отличной доброты», кашей из проса (мамалыгой) и бараниной, которую эффенди макал в острую подливу «асадзбал»: деталь, придающая правдоподобность и остальной части рассказа летописца XV века. Князь Маршан вызвался проводить делегацию до Чечни и Дагестана, и Челеби подчеркивает его учтивость и предупредительность. Впрочем, как-то выйдя из себя, сей предводитель буйных мужей санджаком (булавой) выбил несколько передних зубов ученого, но тут же раскаялся и преподнес ему в дар трех прелестных рабынь и ятаган отличной работы. Так что дальнейший путь к Самарканду и Бухаре землепроходец проделал уже в сопровождении дев, прекрасных, как гурии, но увы, щербатым.
Летом сюда можно добираться на двухведущих машинах. За Рицей и расположенными над этим озером серными источниками Ауадхара, дорога идет по ущелью, взбираясь и огибая два перевала. Но уже в начале сентября тут выпадает снег, и Псху оказывается оторванным почти на полгода от «большой земли». Связь с большой землей осуществляется только воздухом. Каких-то двадцать лет тому назад здесь было не менее тысяч хозяйств. Летом сюда гнали стада. Прибывало огромное количество отдыхающих и туристов. Тут кипела жизнь. Сейчас это просто село, где осталось пятьдесят семейств. Разница, конечно же, впечатляет.
В царские времена жителей этого края называли псхувцы, нынче их называют псхинцы. Первое, очевидно, правильнее по законам языка. Но мы не станем нарушать установившихся в новое время традиций и последуем совету одного партийного деятеля, который на вопрос, что правильнее: «абхазцы» или же «абхазы», ответил, что надо говорить «Трудящиеся Абхазии».
В Кавказскую войну Псху так и не был взят. В 1858 году отряд свиты Его величества генерал-майора Будберга на триста ружей, семь пушек и двенадцать единорогов в сопровождении милиции владетеля Михаила Шервашидзе (на которую, впрочем, надежды было мало), поднялись к подступам к Псху среди зимы, их встретила депутация местных жителей во главе с князем Маршаниевым, потомком учтивого князя, подарившего турецкому путешественнику рабынь, встретила их с изъявлением покорности и просьбой не входить в селенья. Старейшины присягнули на верность и выдали аманатов (заложников). Список аманатов сохранился. Двоим из них было по два года. Но тут случился казус. У экспедиции не оказалось Библии, на которой горцы должны были присягнуть. Пришлось предлагать объемистый фолиант од, драм и стихотворных сочинений Ивана Андреевича Крылова. По свидетельству участника похода, будущего кутаисского генералгубернатора Николая Ивановича Колюбякина, князь Маршаний вдруг спросил по-французски генерала Будберга: «Это издание Смирдина, мусье?». Именно в тот миг Николай Иванович пришел к заключению, которое позже в своих мемуарах сформулировал таким образом: «Вся тайна управления кавказскими племенами в том, чтобы угадывать и поддерживать людей, коих нравственное влияние и энергия могут способствовать тому, чтобы быть им посредниками между правительством и народом, и не должно оных жизнь подвергать опасностям и случайностям войны».
Трудящиеся Псху не жалуются ни на что, они как бы опасаются, что любое сетование на судьбу прозвучит как жалоба на невнимание властей Абхазии, патриотами которой они являются. Все, кто способен носить оружие, воевали. Глава администрации Василий Кодзба имеет боевой орден. И сегодня Псху считается пограничной зоной, и люди официально имеют оружие по домам. Но жизнь тут, конечно же, трудная. Как результат разрухи, которую принесли война и последующая блокада абхазской границы с Россией, называемая в народе «козыревской», из сухумского аэродрома могут присылать на Псху вертолет только раз в месяц. Он привозит продукты и медикаменты и увозит больных. Когда в ущелье внеурочно застрекотал вертолет (который, согласовав с редакцией, мы попросту зафрахтовали), со всех сторон кто на лошадях, кто бегом, поспешили люди. А улетая, мы увезли женщину с инфарктом. Несмотря на то, что на Псху два врача, один из которых вылетел в сопровождении больной, при отсутствии средств они бы ее не спасли.
Подвиг энкавэдэшника, который в 1931 году поднялся на отвесную восьмидесятиметровую стену, чтобы стащить с площадки на ее вершине схимника, я повторил из любопытства. Я поднялся по этой стене. Мне было интересно вживе представить следующую картину.
На самой вершине горы, на которую можно взобраться только по отвесной 80-метровой стене – грот, а перед гротом – небольшая площадка. В гроте живет схимник. Уединившийся от мира. Вот он сидит у порога своего жилища. Он тут и живет в молитвенной аскезе. Пища его – дикие фрукты, ягоды и съедобные коренья. Тут же – родник. Вода течет тонкой струйкой, точь-в-точь как чача из самогонного аппарата, за день едва наполняя сосуд, но этого как раз ему хватает. Зато отсюда перед отшельником открывается панорама – гряда величавых гор, особенно волнующая тем, что делает неприступной для властей его уединение.
И вдруг на краю уступа появляются пальцы, наливающиеся кровью от напряжения. И следом – кокарда, а затем и лицо, тоже багровое от напряжения. Это прибыл энкавэдэшник, чтобы стащить схимника с горы. Очевидцы рассказывают, что чекист мужественно поднялся вверх, но при спуске пришлось воспользоваться помощью монаха, смирившегося со своей судьбой. Зато потом, сделав специальный крюк, он проконвоировал по околотку Псху. И поняли люди, что в этот сентябрьский день 1931 года не осталось на территории уже бывшего СССР ни одного белого пятна: советизация была завершена.
Пасечник К. сам по себе персонаж очень интересный. Он не только абсолютно русский человек, но носитель когда-то знатного и знаменитого рода; называть эту фамилию я не стану, но, поверьте, что она из тех, что многие считают уже не существующими. Сам К., как и положено представителю рода древнего и вырождающегося, в некотором роде – блаженный. В силу обстоятельств он никогда в школах не учился, и все, что знает, знает от знаменитого богатыря-абазина Балты, в том числе и русский язык. Вместе они строились, вместе пастушили, ну, и коней угонять приходилось из-за хребта. Но последнее стоило таких трудов, как-то: далекие и трудные переходы, ожесточенные погони вооруженных до зубов захребетных жителей, у которых угоняли не только средство верховой езды, но и пищу, что моральная сторона деяния сама собой отступала на второй план. В самых труднопроходимых местах Балта попросту поднимал и брал двух лошадей под мышки, а К. преодолевал участок, держась за их хвосты – представляете! Итак, К. говорит по-русски без родов и склонений. И то ли его патрон внушил ему это нарочно, то ли сам находился (что маловероятно) в приятном заблуждении, но представления о России и русских у К. таковы: столица России – Киев, а сами русские по отношению к абазинам представляют собой меньшинство, испытывающее со стороны большинства угнетение и произвол. «Но Балта мене никогда не обижал», – справедливости ради присовокупил мой собеседник. А собеседником его я стал таким образом. Глава нашей партии археолог Мушни Хварцкия (во время войны стал героем, а впоследствии погиб), в сопровождении ленинградского спелеолога, но тоже без снаряжения, взобрался к пещере, расположенной на скале, подобно пещере Схимника, но гораздо более труднодоступной, расположенной на отвесной скале. Я же благоразумно остался внизу, в шалаше пасечника. К. подошел, между нами завязался разговор. О том, что мои друзья наверху, он еще не знал. Итак, русские в рассказах доброго пасечника представали изобретательными в своем свободолюбии. Вот на эту скалу, где обещали ему, что если он достанет оттуда мед, то ему с сестрой будет дарована свобода. Юноша добыл золотистые соты. Поднялся он по стене. Проделывая в стене дыры и втыкая в них кизиловые палки. Действительно, дыры с палками, кизил не гниет сотни лет, были видны на этой отвесной стене, что вряд ли делает правдоподобной остальную часть рассказа К. о малочисленности русских на фоне абазин. Но абазины обманули юношу. Все это рассказывалось на редкость красочно. Но, повторяю, с полным пренебрежением грамматики языка. «Кушай ветчина», – то и дело с горской учтивостью перемежал он свой рассказ. Абазины расхохотались ему в лицо. И тогда юноша взобрался снова на скалу и бросился вниз. А сестра его, пользуясь суматохой, бежала, перепрыгнув на другой берег бурной Бзыби на том месте, где берега сходятся так близко, что сейчас несколько валунов, сваленных в каньон, создают Каменный мост (так и называется), а прежде, когда была опасность нашествия, берега соединялись сплетением диких лоз, росших на обоих берегах.
К. кивнул головой и вдруг увидел две головы, высовывающиеся из той самой пещеры. Это были мои друзья.
«Свят, свят, свят!» – прошептал наш аристократ.
Друзья вынесли черепа пещерного медведя, отлично сохранившиеся. Пещера, в которую проникли наши друзья, – кладбище пещерных медведей. Пещерные медведи, даром что верзилы, очевидно, интеллектом с нынешними бурыми соотносились, как неандерталец с хомо сапиенс. Они входили в пещеру, делали несколько шагов в темноте и падали в пропасть.
Смешно, но именно тот работник аэропорта, который нас встретил в тот раз, когда мы возвращались с медвежьими черепами, и решил, что мы его разыгрываем, потому что череп пещерного медведя внешне больше похож на лошадиный, чем на современный медвежьий, – встретил нас и сейчас.
«Помнишь, как ты разыграл меня до войны, показывая лошадиный череп и выдавая его за медвежий», – вспомнил этот маловер и упрямец.
Японский продюсер у врат зари
Валентин Ежов, подаривший нам сценарий к «Балладе о солдате» и «Белому солнцу пустыни», был моим учителем на Высших курсах. Однажды он приехал в Пицунду в сопровождении японского продюсера, который ездил по всему миру, любуясь закатами, оттенки которых были ведомы ему одному. Восход его интересовал меньше: он на рассвете еще спал.
Я, писатель, сидел у окна в столовой писательского дома творчества на Пицунде и, попивая утренний чай, рассеянно разглядывал входящих в столовую. А они, пролетарии, входили поспешно, будто боясь, как бы кто не съел их завтрак. А еще говорят, что им, пролетариям, нечего терять. На столе типа шведского овощей всегда мало, и кто не успел, тот останется без бурака и капусты. Была середина осени, а в такой сезон в доме творчества было писателей всего лишь с десяток, и то, таких же незначительных, как я. Остальная публика – сплошь они, из Донбасса. Это явное большинство недружелюбно косилось на нас, членов Союза писателей. Юноша из Свердловска надписал стихами и раздарил полсотни своих книг, но труженики мягче не стали. Налицо было социальное неравенство: писатели, какие-никакие, но в номерах жили отдельных, их же селили по три человека. Да еще постылые ревновали нас к женам, для которых, простых, но читающих женщин глубинки, каждый писатель интересен, в особенности, когда живой сидит в двух шагах и ест запеканку с творогом. Мы, в свою очередь, отвечали им взаимностью, за исключением того взлохмаченного юноши из Свердловска-на-Волге, писавшего драмы в стихах, как Уильям Шекспир из Стратфорда-на-Эвоне: тот еще больше взлохматился и расплылся в умилении, узнав, что кто-то где-то, то ли в забое, то ли в выходные, его трагедию читал. Это Ельцин позже заигрывал с шахтерами, и кончилось тем, что они расселись под его окнами, стуча касками по брусчатке Горбатого моста.
Постылые как раз и спешили на завтрак, неуверенно шагая по поверхности земли. С утра становилось скучно. И вдруг в предбаннике столовой как будто засияло. Сам Ежов, Валентин Иванович, известный кинодраматург, мой учитель по сценарным курсам, встал в дверях, щурясь и оглядывая зал. С ним – его красавица-жена и спутник, которому и щуриться не надо было, потому что это был товарищ восточных кровей. «Конкретная помощь Москвы братским республикам Средней Азии и Казахстана», – предположил я. А минуту спустя, когда я помчался к ним, Ежовы объяснили мне, что их спутник не кто иной, как богатейший продюсер Японии. Провинциального визга восторга я не издал; совсем еще недавно, с месяц назад, на крыльце сухумской интуристовской гостиницы я пил чачу с самим Грэмом Грином. У моего учителя – гость, а я тут. Я вызвался повсюду их повезти и все показать, только попросил, чтобы при знакомстве япошка не стал немедленно дарить мне жвачку или розовую зажигалку. Ежовы объяснили мне, что гостя никуда особенно везти не надо, потому что его цель – полюбоваться закатами, о чем ниже. – Яби-сан, – сказал японец (а может быть, просто Яби, без «сан»), все же протягивая мне незаправляемую газовую зажигалку.
Это был важный гость. Шахтерскому большинству велели стушеваться и не путаться у него под ногами. Полного имени гостя нашего называть мы тут не станем. Ну да, скупал он акции некоторых голливудских кампаний и охотнее всего «Paramount» и «MGM». А после того, как противостояние коммунистического и западного мира фактически сошло на нет, и неугомонные американцы (см. «Тихий американец» Г.Грина) стали всерьез отрабатывать вариант нового врага в лице Японии, в газетах и журналах замелькали карикатуры на Яби-сана. Продолжалось это до тех пор, пока янки все же не остановились на более дешевом и удобном противостоянии исламскому фундаментализму. Даже в России пару раз перепечатали шаржи на моего японского приятеля, сопровождая их текстами такого примерно пафоса: «Наше дело – сторона, но зачем ему тоже в бутылку лезть, Ябисану-то!» Можно себе представить, как разыгрывалась бы карта Курильских островов, если бы Америка остановилась на первом варианте врага и, безусловно, навязала бы его России. Но нам, повторяю, не следует в это вмешиваться. Достаточно и того, что бытового имени япошки мы не меняем: его действительно звали Яби-сан.
То было в разгар горбачевских инициатив, perestroika&glasnost одним словом. Яби-сан как раз спонсировал фильм в рамках советско-японского культурного сотрудничества. Сценарий, разумеется, писал Ежов. И вот, в очередной приезд японца в Москву Ежовы привезли его на неделю в Пицунду, чтобы он мог полюбоваться местными закатами. Именно закатами. Яби-сан явно предпочитал их восходам, а еще сын Страны Восходящего Солнца, да и название фильма, который делался на его иены, помнится, было связано с восходом: Аврора и что-то еще.
Восходов Яби-сан вообще не видел: до одиннадцати он преспокойненько дрыхнул. Официантки, ворча, подогревали ему завтрак, и Яби-сан дарил им жвачку и зажигалки. Зато закатами он любовался основательно. Запасшись пледом, сигаретой и дешевой зажигалкой, продюсер устраивался в плетеное кресло на открытой мансарде восьмиэтажного Дома творчества, где располагалась библиотека.
Наташа, жена Ежова, сопровождала гостя и каждый раз слегка нервничала. Но, кажется, зря: дни стояли ведренные, и закаты тут были превосходны. Яби-сан, в общем, был доволен. Море, обозреваемое отсюда как с птичьего полета, казалось замершим и оттого очень далеким. Справа Гагрский мыс, слева – Пицундский, а берег, где заросли реликтового самшита плавно переливались в заросли реликтовой пицундской сосны, тоже выглядел бы замершим и совершенно пустынным, если бы не дюжина корпусов цвета слоновой кости, фаллически таращившихся из этой первозданной дикости. Яби-сан фыркал и хмурился. Наташа, сидя рядом, тоже любовалась красотой опускавшегося в море солнца, может не столь профессионально, как заморский гость, но не менее эмоционально. Иногда, не сдержавшись, она обращала внимание на какое-нибудь там особенно красивое облачко, но Яби-сан обрывал ее почти невежливым жестом: «quiet!»
Для экскурсии по достопримечательностям решили ждать дождя. До сих пор не понимаю, к чему эта сложность: ведь закат бывает повсюду. Но вот, наконец, выдался дождливый день, и как раз была суббота. Я решил повезти гостей на абхазскую свадьбу. Осенью свадеб много повсюду, а случайным гостям на торжествах бывают только рады, тем более присутствие таких именитых людей, как Ежовы с экзотическим спутником, молодые воспримут как подарок. Проблема была в транспорте, потому что в то время был очередной бензиновый кризис. Пришлось обращаться к местному мафиозо. Мафиозо прибыл вовремя, из учтивости выгнав из своих гаражей именно японскую машину. Гостя, еще не знающего, что хозяин наш – якудза, мы посадили впереди, рядом с ним. Яби-сан признался, что у себя дома ездит точь-в-точь на такой «Тойоте». И стал нахваливать свою машину. Он хвалил ее не как миллионер, а как-то по-шоферски. Но не успели мы отъехать и полверсты, как знаменитая японская техника вдруг дала петуха: сломалась на корню педаль тормоза – такое я видел впервые. Между тем дождь лил как из ведра. Все кто проезжал, – а в этот день пол-Пицунды ехало на различные свадьбы, – останавливались и выходили из машин, беспощадно подставляя дождю свои нарядные костюмы: не надо ли нам чего. Наш якудза предложил нам пересесть в одну из предложенных ему машин, распорядился свою лайбу отогнать на прицепе в свой автосервис, и мы поехали дальше. Яби-сан обратил внимание на то, что никто не проехал мимо, и пришел от этого в восторг. «Настоящие самураи – это вы», – сказал он искреннее. Мне было приятно это слышать. Хотя в данном случае внимание оказывали авторитету, но и мимо простого человека у нас не проедут; только в плащи облачатся неспешно, а не повыскакивают в элегантных костюмах под дождь.
Свадьба была пышная, из тех, какие обычно устраивают у нас на Кавказе даже небогатые люди, потому что хозяевам помогают всем миром. Я был гидом, Наташа переводила. На английский, разумеется, не на японский. Узнав о наших сложных обычаях (ни жениха, ни невесты на свадьбе нет: жених скромно прячется по соседству; невеста, накрытая фатой, стоит в отдельной горнице), Яби-сан еще раз сказал, что мы – самураи, если не хуже. Он признался, что сам – из самурайского рода. В Японии, полагаю, нет обыкновения, как на Кавказе, каждому второму представляться князем. Тамада объявил застолью, что свадьбу почтил своим присутствием большой мастер кино, который научил своему мастерству двух абхазов. Все, кто сидел за столом, – а сидело человек триста, и молодых, и старых, – дружно встали и подняли бокалы за Валентина Ивановича. Не успел Яби-сан в третий раз сказать, что видит самураев, как наш друг-мафиозо-якудза не удержался и произвел салют из своего «Парабеллума». В разных уголках пиршественного шатра ему ответили выстрелами же. Что стало с нашим гостем! Хорошо, что я пишу на русском. В японском письме вряд ли найдутся иероглифы, которыми можно было бы выразить его реакцию. Таких иероглифов не создали, полагая, что они никогда не понадобятся.
Одним словом, самурай побледнел от страха.
– Надеюсь, он стреляет только в воздух? – спросил он Наташу.
На обратном пути закат, как ястреб, настиг нас на трассе. Наш кормчий слегка удивился желанию гостя, но свернул на обочину. Пока гость уходил в состояние покоя и созерцания, я отвлекал якудзу расспросами о Магадане и Коми АССР.
Вскоре как раз случился праздник урожая, который устраивается каждую осень в древней столице Абхазии, в Лыхны. Яби-сан согласился ехать без колебаний, несмотря на то, что день был погожий: случится закат – отсозерцаем его и там. На празднестве нас нашел первый ученик Ежова из абхазов. Он решительно повел нас под крепостную стену, где был накрыт стол не по-простецки, как в остальных местах, а с цветными салфетками и сервировкой. Нас встретили и учтиво повели к столам. Столы были расположены как раз на таком возвышении, оттуда выпивая и закусывая, можно было наблюдать за скачками. Шумный первый ученик, с гордостью представляя учителя, чуть было не переборщил. «Это же не гости Озгана!» – прошептал кто-то, но его остановили: «quiet!» по-абхазски. Выяснилось, что этот стол велел приготовить тогдашний хозяин Гудаутского района Озган для других своих гостей. Но под стенами крепости места было много: мы остались.
Скачки были великолепны. Закат мы поймали, хмельные, за столом.
А когда я вез гостей на озеро Рица, расположенное (для тех, кто не знает) в горах, уже в зоне альпийских лугов, кризис с бензином достиг такой степени, что якудза прислал нам человека на «Икарусе» (солярка еще была), а сам не явился. Осенью дорога к озеру особенно живописна. Листва еще не опала, зато сияла всеми цветами радуги. Хотелось молчать, что мы и делали, лишь время от времени в молчаливом вдохновении отхлебывая из фляги. Сам Валентин Иванович, которому жена после сердечного недуга воспрещала прикасаться к спиртному, – и делалось это не без его согласия, – тоже под молчаливое вдохновение (чуть было не сказал: под шумок), потянулся было к фляге, но Наташа была начеку. И только у маленького Голубого озера, которое встречается по пути к большой Рице, отстоя от нее, как часовенька от храма, когда мы сделали привал и человек-мафиозо расстелил на траве на коврике прихваченный с собой обильный завтрак, Яби-сан вдруг произнес:
– Абхазия похожа на Японию, какой я застал ее в детстве.
Я не понял. Яби-сану пришлось пояснить, что Абхазия ему напоминает Японию, какой она была, пока не загубили живую природу. Странно было это слышать. По моим представлениям, в Японии хранили и пестовали каждый кустик, а над Фуцзиямой вообще – некое поле, то ли электрическое, то ли био, чтобы и птичка не пролетела над горой, не нагадила: ткнется птичка о стенку биополя – ничего с ней не случится, но поворачивай-ка, пташка, назад от Фуцзиямы. – Да, это так. Но начали это делать поздно, когда природа была почти уничтожена. Ваше счастье, что леса тут государственные, а не частные.
Мы поскучнели. Помните, почему-то любое упоминание о преимуществе социалистической ситемы навевало тоску, как научный коммунизм. А преимущества эти были в том, что вся дорога, кроме замечательного серпантина, была нетронутой и дикой.
Японец все говорил. И в Японии, и повсюду, где он побывал, а путешествует он восемь месяцев в году, этнография осталась лишь на карнавалах. А тут люди, мол, живут этнографической жизнью. В его мозгу что-то зрело.
Мы поехали. Красота продолжалась. Мы отхлебнули из фляги.
– Не сметь! – сказала Наташа Валентину Ивановичу.
И вдруг японец зарыдал.
– Он не только бизнесмен, но и поэт, – стала оправдывать его Наташа.
Японец плакал, что Абхазия похожа на Японию, какой она была, пока алчные якудзы все не срубили, не продали янки. Но вскоре он утешился: мы прибыли на Рицу. Он увидел, как захламлено прекрасное озеро, он увидел, как по нему шныряют моторные глиссера.
– У нас такое не разрешается. Только электрические, безотходные лодки, – сказал Яби-сан.
Так что, забегая вперед, скажу, что и обратную дорогу Ябисан плакал, но при этом приговаривал просто: «Абхазия похожа на Японию».
Выше Рицы еще на 16 км находилась Ауадхара, место, где бьют источники. Но громоздкий автобус не мог подняться по дороге, не столь удобной, как широкий серпантин до Рицы, входящей в общую инфраструктуру черноморской курортной империи. К тому же, там, на Ауадхаре, уже лежал снег. Я только рассказал. Яби-сан очень оживился. Он стал объяснять, что главное преимущество этих мест – близость моря к горам. А у японских богачей излюбленный отдых – это горы, где есть минеральные источники. Если при этом и море близко, чтобы в неделю раз спускаться к пляжу – за это платятся большие деньги. Есть у него дочерняя фирма, которая, без ложной скромности, известна тем, что строит курорты в реликтовых местах, не повредив при этом ни одного кустика. В отличие от американской фирмы, которая все вокруг напортит (не стану называть фирму янки, о которой он сказал с раздражением, как не называл японскую, – не наше это дело!).
Важно другое. Вдруг я осознал: богатейший человек делает мне деловое предложение. И это меня позабавило. Тем не менее, когда мы прибыли в Пицунду, я поехал с водителем «Икаруса» к нашему якудзе и рассказал ему о том, что японец заинтересовался Рицей, и, очевидно, готов в нее вложить деньги. Наш якудза навел справки и на второй день позвонил мне.
– Один госчиновник уже договорился об аренде на 20 лет, – сообщил он.
И назвал американскую фирму, ту, что строя, все напортит. Не стану говорить, какая это фирма. Она – очень известная. Тем более, что ничего она у нас не испортила и не попортила. Впереди нас ждала война, перечеркнувшая все планы, что американцев, что их врагов японцев.
Свято место, почти пусто
Фарисеи
Совесть, отсвет Веры, возвращается в родной себе дом, который есть человеческая душа, и находит дом свой занятым партийным сознанием. Последнее ворчит и мнется у порога, не желая покидать свое трофейное жилище, точь-в-точь как министерство культуры, когда от нее требуют убрать из храма глупую библиотеку.
И вместе с воскрешением веры появляется пламенный неофит. Тревоги и страха, прежде мучивших его, как не бывало: сердце не колотится с утра, и руки не дрожат. Но ты беги при виде его, потому что неофит, как схватит тебя за лацкан пиджака – и давай живописать тебе пользу молитвы и ритуала. Казалось бы, как же иначе: обретя истину и благодать, как не поспешить поделиться ими с ближним. Однако характерная черта неофита: он путает проповедь с пропагандой. И ты его не услышишь, озабоченный тем, чтобы он не рвал твой воротник и не дышал в лицо.
Впрочем, от того неофита, который забежал в храм, спасаясь от тревоги и страха, то есть того, кто беден, ты еще убежишь: он пеший. Труднее с неофитом богатым, ибо он на скоростях. И то дело, что материальное благополучие у него уже есть. Иначе именно его он первым долгом стал бы требовать от Господа. Добычу (то бишь: доход) он делит по процентам между подельниками (то бишь: компаньонами), ментами, ворами и, наконец, Богом. Первых еще можно бортонуть, то есть кинуть, но последние три инстанции – ни-ни. С ментами – вредно для дела, с ворами – для тела, а с Богом – для души. Душа – это главное, усвоил он, надо для нее отстегивать. То-то будет досада, если выяснится однажды, что души нет! А пока, думает богатый неофит, рисковать не стоит. Тем более что когда не отнимали и не просили, а сам отдал безвозмездно, добровольно – даже приятно. Господь, которого он любовно называет «Боженькой», в его представлении – нечто среднее между батюшкой и паханом: надо время от времени умилостивлять Его жертвами, да самому жить по понятиям. Он Его боится, но только в течение светового дня. Вечером же, по его представлениям, когда темно, то и с небес ничего не видно. Потому наш неофит в сумерки входит в «GOLDEN PALLASE», аки лев алчущий и лютый. А утром придет к храму, и так размашисто швырнет пачки баксов на стол трапезной, что Ангелы в страхе разлетаются в разные стороны.
За ним следует ханжа. Он озабочен не столько укреплением веры в собственной душе, сколько контролем над другими душами. Не успеет он перешагнуть порог храма, как взгляд его, что игла терновника, вонзается в прихожан, которые плохо молятся. От этого они смущаются и молятся еще хуже. А если какой-то малый из молящихся в сосредоточенности не замечает взгляда его, страж молитвы еще пуще гневается на остальных, возмущенный тем, что малый этот молиться может, а те самые лишь зазевались на образа. Уж коли не могут внимать ему, ханже, чья душа иссохла от гнева на маловерных, то хоть бы смотрели на малого того, созерцая живой предмет для подражания. Повсюду, во храме ли, или вовне, ханжа видит намеки на свою правоту. Даже в лучистых взглядах икон, когда на них на мгновение останавливаются его холодные глаза, он ищет и находит сочувствие своему негодованию. Ты беги его, ханжи; да убежишь ли? – он везде.
Но страшнее всех фарисей, который ловит Бога на его же словах, но может при желании выступить и как поверенный Его. Когда фарисей увидит рядом с собой того, чьи рожки на солнышке отсвечивают янтарным блеском, он смущается в сердце своем, забывая, что никто не защищен от искушений. Так же, как и ханжа, он подозревает небо в куриной слепоте и потому поспешно прикрывает лукавого краем своего плаща. При этом полу плаща откидывает он так артистично, таким впечатляющим ораторским жестом, что у лукавого, которого он пытается спрятать, от беззвучного хохота слезятся глаза. А наш фарисей, боясь, что непрошеный гость голосом выдаст себя из-за полы его плаща, начинает говорить. Таким он пересыпается мелким бесом, что крупный бес из-за полы давится от беззвучного смеха. А речь его полна смысла, потому что он говорит то же, что написано в Книгах, спущенных нам с небес. Народ соблазненный, слушает его, и называет его всеблаженнейшим и наимудрейшим, отчего лукавый так затрясется в беззвучном хохоте, что рожки его то и дело высовываются из-за укрытия.
Ты беги их, фарисеев, беги более, чем кого-либо, потому что сам Спаситель в бытность свою человеком сказал им: «Горе вам!». Но правильно спрашиваешь: а как их распознать? Как распознать их среди сонмища говорящих правду? Как не соблазниться дурным медом их слов? Разве только: дождаться, когда они начнут делать, потому что делают они нечто противоположное тому, что говорят.
Или же спросить самого себя: а я-то сам, кто я? А я, собеседник твой грешный, я-то кто? Хочется надеяться: ни первый, ни второй и ни третий? Или же, как раз, и первый, и второй, и третий?
МЫ ВСЕ УМИРАЕМ ПОРОЗНЬ, А ВОСКРЕСНЕМ ВМЕСТЕ...
Из дневников
1998 год
8 октября
четверг
Сегодня ходил на пресс-конференцию депутата Зорина по Чечне. Это в Центре международной торговли, перед офисом в лужковском стиле – памятник Гермесу. По дороге, выйдя на Баррикадной, я завернул за угол и пошел пешком в сторону набережной. И вдруг, совершенно неожиданно – ветки деревьев увешаны черными и красными тряпками, венки на месте, где были убиты из Белого Дома люди. Сотни портретов убитых. Я ужаснулся. Телевидение торжествует, что люди на митинге арестованы. Вчера обратился в редакцию некий Евгений, у которого похищен брат в Ингушетии. Просит помощи.
28 октября
среда
Зарплату получим «на той неделе» и причем по курсу 9,3 руб. за $, тогда, как $ стоит официально 17 рублев минимум. Так что, я получу практически $ 325, или около него, вместо 600. И все сразу придется Л. отдать «на счет в швейцарском банке». И так второй месяц, а сыну не могу выслать денег, чтобы приехал.
Кстати, ей понравилось то, что я сказал: что зря Кириенко уволили, надо было и его оставить, чтобы когда Примаков войдет в Европейский поезд просить милостыню : «Дорогие товарищи, я сам не местный», при нем был бы для пущей жалости мальчик.
В десять вечера приехал на свою ночлежку в Ховрино. Несчастная старушка совершенно беснуется. Она требует от меня, чтобы я пошел и прогнал каких-то людей, которые якобы ее облучают из машин. Господи, скорее бы отсюда. Она что-нибудь с собой сделает. К врачам обращаться не хочет, ее убедили, что все заодно. А между тем месяц лечения ее бы вывел из кризиса. Бедняжка.
Завтра надо к Чу Биргюль, чтобы позвонить в Стамбул к Эролу, или отправить факс. Принять какое-нибудь решение по поводу пекарни.
Кстати, сегодня звонил я к В. К нему приехала дочь с ребенком, на работу он не ходит, все болеет, а там даже телефон отключили. Говорит, что из-за памяти Мюмтаза старается, но все им недовольны. Это бывший партфункционер, он не умеет работать. Там все налажено, только бы ему чуток почесаться по поводу сбыта. Надо мне этого армянина, Сано, он хочет работать, но придется тогда самому контролировать, не то споется с Манвилом. Сумею ли? Тогда надо оставить редакцию и засесть в пекарне. Ну что ж, были поэты-академики, поэты-философы, а я буду первый поэт-пекарь.
Хотел писать, потому приехал, не то остался бы на Прос пекте, хоть бы фильм посмотрел по телеку, но старушка своим безумством настолько сбила с толку, что уже и башка не работает.
Сейчас 12 ночи. Она все ходит и будет ходить до утра.
Писано 7 ноября.
Кстати, к утру я настолько продрог от проветривания Ариадны, что в 5 часов утра оделся и вышел на улицу и уехал. Она мне перед выходом: что я еще ей должен денег. Приехал, конечно же, к Л.
14 ноября
Целый день просидел в квартире, в тоске. Хорошо хоть что утром позвонил Саске. Договорились, что приедет 23, самолетом из Бомборы в Чкаловское. Он, по-моему, так был счастлив. Хочется ему со мной, но страшно: сможем ли прожить, снимать квартиру, не голодать. С жильем-то мне явно не везет. Смогу ли платить 200 дол.?
Сергей Ар. утром звонил и хотел ехать ко мне. Я его прождал, так никуда не уходя. Но в этой квартире даже хуже, чем у Ариадны. Тоска. Я пошел в магазин и купил чикушки. Ее уже нет.
Смысл истории в том, что мы все умираем порознь, а воскреснем вместе.
Давно замыслеваемая:
«Некая богемная дама»
Опять звонит и извиняется. Я ей: перезвони через 15 минут. Вот, перезвонит – и снова начнет свое канючить. Сейчас проверим.
Подтекст: ты должен. Должен ей копейки, двести долларов, да и то потому, что я не считал, да и то сама спровоцировала, сказав: давай зарплату и буду давать тебе по частям. Звонит, потому что ревниво относится к моему уединению, опасается, что могу сбежать, но при этом сполоборота переходит на оскорбления.
При ее известном неуважении (даже признаваясь в любви, даже хваля как писателя, делает это с праздностью, как Фамусов, который сказал: он славно пишет, переводит, на что Чацкий: и похвалы мне ваши досаждают.).
Оскорбить ее невозможно. Как бы грубо не прервал разговор, это при том, как она умеет пользоваться твоей деликатностью и нежеланием говорить нелицеприятные вещи в глаза, вскоре звонит как ни в чем не бывало, «милый, прости», если бы была полная замена, то, не мешкая, забыла бы и только иногда напоминала бы о себе, отравляя жизнь. Но пока замены нет – не уйти от нее. Она всерьез рассчитывает, что будет и меня, как и Гарик, третировать оставшуюся жизнь. Пока ей это удается: нельзя от ее телефоных перехватов никуда спрятаться, и я уже невзлюбил свое новое логово. Стараясь себя убедить в своем же сердоболии, и собаку возьмет в дом, чтобы потом попрекать в неласковости, кормить скверно и не выгуливать, и за то возьмется, и за другое.
Больше всего досталось ее сыну. Антон – отчаявшийся сын.
Но и о моем она говорит, якобы он ел самое вкусное.
Все превращает в тусовку: и церковь, и похороны бывшего мужа. Впрочем, бывших мужей у нее нет, но В. все-таки бывший, потому что спился.
А как она ссудила деньги на букет, как торговалась из-за каждого рубля уже ссуженных денег, покупая последний дар мужу! Возлюбленному …
Обкладывается иконами, но в церковь ходит к концу службы, чтобы пообщаться с подругами и потусоваться. В ейную, около Арагвы, где протестанты от православия…
Полное отсутствие привычки к труду благородному. Так что непонятно, чему она учила своих учениц, как она говорит, к которым сбегали ее мужья.
Внутренняя неуверенность, потому что все сама разрушает, приводит к некоторой депрессухе, легко преодолимой еще более праздной болтовней.
Все хочет одновременно: и все, и сразу, ни от чего не отказываясь.
21-22 ноября
(с субботы на воскресенье)
Вечером был в гостях у Джона. Посидели, вкусно меня накормили, голодного. Пришел в логово и писал да правил Феохариса. Неплохо. Скомпоновал сцену, где «я» видит «я» прежнего. И вообще правил, но не так, как обычно, когда не пишется, а с результатом.
Седьмого я освобождаю это логово. Хозяйка, тбил. армянка, называющая Параджанова «покойным Сережей», редактором была в издательстве «Искусство». Гордится правильным, как лекало, русским языком. Мужа затуркала настолько, что он в растерянности спалил хату. Потом отремонтировал. Сейчас она новенькая, но нежилая. На днях позвонила, ведя разговор к тому, чтобы как лишнюю плату, на случай побега (предоплата)… Объясняла так:
Бедная Маша (это ее дочка), франк то ли вырос, то ли упал… Она голодная, говорит мне ее матушка, которая никак не может понять этих неискренних французов. Звоним, а ее нет. Машеньки то есть. В отчаяньи бродит по этому темному Парижу. Бродит она, Машенька, по темному Парижу, в парах абсента и тонком дыму опия, губы … шепчут Леконта де Лиля. А я за это плати, богач!
С 22 на 23 ноября
воскресенье–понедельник, 2 часа
…Еще не знаю, удастся ли мне вылететь в Абхазию во вторник. Пока еще денег нет не только на поездку, но чтобы Саске отправить на проезд.
Пол-сцены суда вовсе не плохие, теперь надо придумать, когда. «Я» берет гитару («Журавли улетели...»), надо сделать, что джазовая импровизация, в которой себя найдут и Кант, и Хафиз, и Бах, и современник наш Клэптон.
Сегодня днем, перед моим выходом позвонила ММ и сказала, что собирается через свою подружку вывесить в храме, куда она, убежденный последователь Шри Раджнеша, не ходок, что я в качестве Сергея и замечательного писателя-журналиста собираюсь снять квартиру.
25 ноября
среда
Без 15 двенадцать ночи. Позвонил в Сухум. Гена говорит, что самолета еще нет. А Саска у бабушки на Фрунзе. Набираю к Ващенко, чтобы у родных или кто там дома, узнать, в чем дело. Оказывается, что он не улетел. Сам взял трубку, говорит: из-за погодных условий Абхазии. Это для военных-то самолетов. Облачность сильная и прочее. Может быть, я и нашел бы денег, коли знал, что не улетели.
Надеются завтра.
Сегодня после работы зашел в магазин «Летний сад». Продано книги несколько экземпляров всего. В «Гинее» – вообще не продались…
Пошел в «Новый мир» относить стихи, а их, выведенных на принтере специально, забыл. Обнаружил уже у выхода из метро. Но все же зашел. Сидит красивая дамочка, счастливая, что ее стихи взяли. Мне эти радости недоступны. Хотелось бы, чтобы платили деньги. Впрочем, эта красивая дамочка, может и не очень-то и красивая, наверняка знает, как по полной программе пользоваться фактом напечатания в останках некогда престижного журнала. Я-то этого не умею. Роман мой печатали в «Знамени», несколько лет назад это был бы всесоюзный и даже европейский имидж, а сейчас никто не знает меня и даже в снобистских книжных магазинах книгу не берут.
10 декабря
среда
События, так сказать, последних дней. Шестого числа заканчивался срок моего проживания в квартире на Медведково. Из-за торопливости, хотелось поскорее от мымры этой куда-нибудь… Я снял ее наспех, слишком дорогую для сегодняшних дней: далеко, квартира необжитая, холодная, никаких удобств, даже холодильника нет, еще хозяйка, умудряющаяся даже издалека создавать ощущение своего отвратительного присутствия. 200 баксов. (А сейчас Маринин родственник предлагает, Маринка нашла… стабильная квартира в престижном районе между университетом и Юго-Западом, за $150, а я раздумываю, не взять ли в Мытищах, где дают за сто…).
Все время болею. Почти ничего не ем, ослабел донельзя. Компьютер мой от транспортировки опять сломался, не работает дисковод. Згуы итаз згуы итапсыз, зшьамхы иалаз зшьамхы иалапсыз… За него сажусь впервые за эти несколько дней. В последнее время редко это себе позволял.
Словом, надо было съезжать. Не помню, записывал ли я в дневник, что хозяйка пятого распорядилась, чтобы ее муж и отец ее дочерей, которого, прежде чем они развелись, превратила в такое ничтожное создание, что читай ниже, распорядилась, чтобы он приехал откуда-то далеко, где телефон начинается на 310, и под видом, что чинит трубы и.т.д, проследил, чтобы я не чухнул, не оплатив счета за междугородку. А между тем прошлой ночью у него умерла мать, с которой он все возился в последнее время, она была прикована к постели. И, наверное, очень любил, как вообще принято у московских евреев быть к матерям особенно привязанными. Видя, как он несчастен, я ему: что у них есть мои адреса, знаю-де, почему вы здесь, но не беспокойтесь. Но он-то обеспокоен не тем, что я сбегу, а тем, что с ним эта тбилисская армянка сделает, ежели я сбегу. А если вы заболеете, говорит эта сама доброта. Да, я могу заболеть, могу умереть, так что у вас есть доля риска залететь рублей на сорок. Жалко было его. Чуть не сказал ему: досуг ли тебе, олух, когда только что мама умерла! Неужели и это обстоятельство не освобождает от того, чтобы выполнять нелепые капризы бывшей жены?
…Съехали шестого. Температура у меня и обострение бронхита. Снова помог Андрюша Чернаков. Приехали к Руслануплемяннику.
издалека
28 декабря
понедельник
Сегодня третий день, как мы вселились в новую квартиру в 9-м микрорайоне Теплого Стана. $150. Вместо предполагаемых нескольких дней мы прожили у Руслана больше полумесяца. Квартира новая, но не ахти какая. Совершенно не дали нам хозяева никаких постельных принадлежностей. Есть диван с подушками, мы на них и спим с Саской. Ни подушек, ни одеял, ничегошеньки.
Деньги какие-то были, еще на презентации книги заработал, но племянники, беря по 500 рублей, в конце концов, не вернули ничего. Сколько я нервничал, чтобы найти плату за квартиру. Пользуясь кризисом и всеобщим обнищанием, даже те, кто их имеет, отказывают. Выручил Андрей Битов. Дал сто баксов. Остальные 50 я и сейчас не уверен, что Саска привезет. Он поехал за ними к племянникам. Седьмой час, а его еще нет.
1999 год
8 января пятница
Быт наш как бы устроился: сняли квартиру и.т.д. Комп. стоит на кухне, чтобы работая по ночам, я не мешал Нару, тем не менее, пока его включает Нар, чтобы играть ночи напролет на преферансовой игре, а я вернулся к своему дневнику только сегодня. Сегодня – второй день Рождества Христова. Между тем в жизни за эти дни произошло много примечательного для меня, что стоило бы занести в дневник. Но вовремя не занес. Теперь уже вряд ли напишу…
9 января
суббота
Проснулся в двенадцатом часу. Вчера спал плохо. Разбудил меня телефонный звонок. Сначала думал – от мымры, но звонок был настойчивый, похожий на междугородний. Звонила Римма. В общем, там у них все нормально.
Саска уже ушел на Щелковскую. Чувствую себя лучше. С утра сходил в магазин и на последний полтинник купил продуктов.
Выпил кофе и за комп. Сначала что-то не поступали сигналы от клавиши. Я было растерялся: неужели опять поломка? Но оказалось все в порядке.
С. пришел из Щелково, куда ездил с другом. Денег ему не дали. Денег нет совсем.
18.32
Кажется, закончил «Клио». Теперь надо добивать Клинтона. Сделать это раньше, чем сенаторы.
К 9 вечера и этот материал закончен вчерне. В 23 часа фильм Иоселиани «Охотники на бабочек». Собираюсь посмотреть. Несмотря на то, что презираю его после угоднического и бесчестного документального фильма.
Завтра буду звонить Битову.
10 января
воскресенье
Точнее, уже утро понедельника. Пять с половиной. Так и не заснул. Встаю и сажусь за работу. Раскрыл роман про кремняков, потому что, как кажется, в середине еще надо бы добавить нечто, где Мушни как-то мистично появляется. (Также придумал вчера, смотря триллер, что в «Феохар.» тоже надо в противовес темным силам придумать еще и светлую. Может быть, «иаршышу»?)
Вчера был у Битова. Произошел очень хороший разговор. На тусовки обещал вывозить меня и еще стипендию в Дейчланде, на родине Майстера.
Придя домой, многих обзвонил. Посмотрел «Американского оборотня». Люблю ужастики, ничего с этим не могу поделать. С. остался у Руслана на Щелк. Только 200 руб. дали. Еще выпросил столько же у Джона Гул. Во вторник надо заплатить за переговоры на прежней хате. Потом как жить и на что – не ведаю. Авось, что-нибудь да пошлет Господь. Не слишком ли меня точит эта забота… С другой стороны, у меня осталось-то около двух рублей мелкой мелочью.
В «Новый Мир»:
«Лишь месяц...»
Дом Отца
«Хлеб – не хлеб...»
Предчувствие разлуки
Страх
Весы под акрополем
Беда
Россия
24 января
воскресенье
Вчера и сегодня у меня была чудовищная температура: 39.9 так и держалось. Сегодня – то же самое. Вызывали врачей. Молодые, парень и девушка, книжку им подарил. Сделали мне укол. …Когда-то я сочинил реферат для поступления в аспирантуру на тему поэтического перевода, но московский профессор, чьим мыслям следовал, не в силах более выдерживать тоталитарный режим, отъехал, и реферат мой сгорел вместе с аспирантурой. Кандидатом наук я не стал и, слава Богу, а из реферата в памяти остались похвалы переводов народного поэта Абхазии, выполненных Бэллой Ахмадулиной. Я предвижу ухмылку, которую вызывает у многих понятие Народный Поэт на Кавказе и в Средней Азии, но в Абхазии было два НП: основоположник Дмитрий Гулиа и Баграт Шинкуба, ставший им после кончины первого.
2 февраля
вторник
Вернувшись с работы, Руслан отправился на Коньково, купил шампанского, ананас, бананы, апельсины и виноград, чтобы отпраздновать день рождения Нара. Мы убрали комнату, сервировали стол по мере возможности и посидели за бутылкой шампанского. Фотографировались, и я не смущался внешнего своего вида. В общем, импровизированный праздник получился. У всех поднялось настроение. Его не испортило мне и то, что только что (21.30) звонил участковый, сказал, что никак не может нас застать и обещался зайти завтра. Фактически я, конечно, – нелегал, потому что ни прописки, ни регистрации. Надеюсь показать ему публикации свои в журналах и смягчить ему сердце заслугами перед русской культурой, в самом существовании которой сомневается дагестанский националист Магомед Т.
4 февраля
четверг
Сижу целый день дома. Даже на работу в «Экс.» не позвонил.
Сейчас восьмой, очевидно, час вечера. Включил по привычке комп. Перепечатал полстраницы «Конфетн. Дерева». Будет вместе с идеей в «Бразде» о том, что не все двуногие без перьев суть люди. И что Спаситель призывал к гордости, а не самоуничижению.
Позвонил в Питер Ман. Гв., чтобы она вышла на Наташу Битову с тем, чтобы если говорить будет с Андреем, кот. в Германии сейчас, напомнила бы ему об обещании выхлопотать для меня стипендию. Она, Ман., оказалась в Москве. Звонил ей. Провожала каких-то гостей, потом обещалась перезвонить, но не звонит почему-то. Она тут до понедельника. Поручу ей это дело. Или узнаю сам телефон Наташин. Сейчас половина двендацат. вечера. Выключу комп. и пойду смотреть перед сном телек.
По живому писать не могу, так слаб. Не физически, а больше 10 дней на улицу не выходил и все болею. Но перепечатываю кое-какие старые вещи. Сегодня закончил «Конф. дер.» А сейчас о махаджирах, написанное в 1990 году. Многие мысли мне нравятся, по крайней мере, там дана оценка правильная войне и мохаджирству, такая, какую тогда по крайней мере никто не делал. Да и сейчас это актуально. Можно продолжить, углубить для книги о Кавказе, фундамент которой уже можно закладывать. Так же и «Бразда» (недаром это едва ли не первое, что я написал по приезду в Москву, еще на Беговой, в Петиной квартире, которую я снимал). Из нее должен получиться философский опус. Иншалла!
12 уже февраля
1 час ночи, четверг
…Однажды некий гость нашей солнечной Абхазии спросил Ермолая Кесуговича, как звучит по-абхазски то, что в русской литературной речи ошибочно называют во множественном числе «прелести». Причем гость спрашивал его не как ученого, а как первого, кто попался ему под руки, когда этот самый отдыхающий, каким-то образом отстав от группы, забрел в музей один, как отбившийся от отары барашек. Тем не менее, Ермолай Кесугович сначала задумался, а потом ответил:
– Существует несколько версий для обозначения интересующего вас предмета.
12 февраля
четверг
Сейчас 21.20 вечера, причем нынче не Четверг, а Пятница. Так что зря пришлось мне сегодня ехать на работу в «Экс». Приехал, смотрю – пусто, даже верного идеалам журналистики Хисамова нет с Шумилиным. Спрашиваю у секретарш Харатяна, а они: Хар. редко бывает по пятницам. Нашел все-таки макет – мой текст не идет этим номером. Всё же беспокоился, что какую-нибудь глупую отсебятину вставят в текст, а потом мне ответ держать. Все-таки о чеченском шариате.
Сегодня закончил с регистрацией. Окончательно. Зарегистрировали на полгода, все готово, и в паспорт фото вклеили. На это и на все прочие траты, в том числе штрафы да прочее, все деньги ушли. Но, по крайней мере, теперь, заходя в метро, не буду водиться, шоркаться ментов. Например, с каким удовольствием вышел я сегодня без этого вещмешка, одного из атрибутов моей мимикрии. Проходишь мимо лягавого: вещмешок за плечом, в руке газета: обычный москвич, которому дела нет ни до милиционера, ни до кавказцев. А тут иду себе самым что ни на есть ЛКНом. Пусть остановят: заглянут в листок регистрации и молча протянут назад – ступай, дескать. И этим должны быть заняты мои мозги. И в этой обстановке во мне должны расти и переливаться волны внутренней правоты!
Даже теперь влечет меня душа
В столицу ядом дышащей России…
Верно сказано.
Интересно, поднималась ли у кого-нибудь рука, чтобы написать, что есть народы глупые. Так-то: делавары – народ чрезвычайно усердный, но глупый, и потому то, что ирокезам достается с легкостью, они вынуждены бывают достигать лишь в результате громадных усилий и т.д. Между тем, народы глупые есть, точно также, как и люди. Глупые есть и изначально, и обреченно. Есть и такие, которые поглупели, или ситуация поставила их в положение, где совершили они глупые поступки. Историю если бы этнисты рассматривали именно с этой стороны: не кичась, что то или иное деяние имело быть в таком-то веке нашей эры или вообще до нашей, а оценивая, нормально-заурядно (или глупо повели их предки себя в чрезвычайной ситуации). Вместо этого какая-то уютная вера в то, что произошедшее – всегда мудро, а может быть, так оно и есть. Время обыденно только в сию минуту, очень редко бывает, когда миг значителен. Но когда он прошел, пыль истории делает его культурой, облагораживает. И на поверку оказывается, что не все так безнадежно.
13 февраля
суббота
Руслан утром ушел на работу. Воля ушел тоже куда-то. Сейчас Нар вышел за сигаретами для меня, потом тоже уйдет. Я останусь один. Поработаю, быть может. На улице солнышко, погода зимняя, чудесная. Солнце льется в окно.
На комп. что-то я вчера напутал, но сейчас только-что выправил. При этом так и не запомнил, что выправил и как.
(продолжение) 23.45
Включил комп. скорее по привычке и даже в дневник писать сейчас нет охоты. Спокойной ночи, малыши!
Ночь с 15-го на 16 февраля
с пон. на вт., 12.45.
Сегодня пошел на работу, как говорится, мучимый абстиненцией, был там в 12 с чем-то. Спрашиваю Хисамова, чем, дескать, заниматься. И он мучительно так: Кир. Хар. сказал ему, что про шариат – мой последний материал про Кавказ, а теперь буду заниматься – и не уточнил, чем. Молодец, Кирилл! В общем, теперича татарское иго кончилось, как я и хотел. Но на сердце тревожно чуть-чуть. Я никогда не научусь уже работать в коллективе. Ну и не надо!
Но:
Вот и в «Эксперте» ни с кем не стал накоротке. Другой бы на моем месте занял бы какую-то позицию, имел бы свой круг. А я в целом коллективе – самый рассеянный. Моей фамилии единственной нет в списке телефонном. Я не значусь в списке на второй странице журнала. Я один не знал, что давали мобильные телефоны. Даже зарплату получил сегодня, случайно узнав от Горячкина, а получают с четверга прошлого. Мне одному не дали сотового телефона: не знал, что дают.
Кстати, будучи совсем без денег, получил неожиданно зарплату – часть получки за декабрь. 4 тысячи. Еще должны дать чуть меньше этого. Но или в конце месяца, или уже пойдет на начало следующего месяца. Из расчета 9,3 руб. за бакс. Теперь думаю, сколько отдать хозюку. Платить надо 25 числа, а не сейчас, но будут ли тогда деньги.
Прочитал, что Влада Арсеньева имеют как одного из кандидатов на пред. Госкино, вместо Армена Медв. Причем – это кандидатура Михалкова, то есть он и будет. Противостоит канд. Медведева, которого самого ушли. Арсеньев, если для меня будет какой-нибудь интерес в кино, Арс. лучше, он, по крайней мере, меня знает, дружбу прежнюю оставим. Все зависит от того, как-то прозвучит мое имя в ближайшее время, или нет. Прошло время, когда я мог быть юным просителем. И то время тоже было упущено.
Успех дает уверенность, а без уверенности нет легкого дыхания в творчестве. Неужели где-нибудь мне не прифартит: в литературе, в кино, в театре, хоть бы в той же журналистике. Надо собраться, завязать, составить план дальнейших действий и зря времени не терять. К какому-то берегу выйти. Для «Дружбы» текст готов. Что скажет Чухонцев про подборку – узнаю завтра. Вечером позвоню ему домой или, если забуду, зайду в среду в «Новый Мир». Надо наведаться и в «Знамя». Давно там не был, очень давно. Кажется, и книги не дарил никому. Надо вечерком завтра-послезавтра позвонить (научиться бы пользоваться на комп. блокнотом; комп.-то включаю ежедневно, чтобы пользоваться как памяткой) Лене Хомутовой. Сказать ей о «Феохарисе» – его хочу им отдать. Может быть, она мне и прочитает ( а удобно ли, когда ей по работе столько приходится читать, еще и мой сверхурочно?)…
Кирилл пьесу матери еще не отнес. Когда отнесет – тоже неизвестно.
3.40
Теперь я устал и хочется спать, чего, к сожалению, так давно со мной не бывает тогда, когда все нормальные люди ложатся спать. Я, как мне кажется, утратил то замечательное ощущение предвкушения сна, которое так приятно входит в человека, когда он принимается за привычную подготовку ко сну. Иногда и днем я лягу и незаметно засыпаю, могу и сидя, но стоит только лечь в постель, как сна как не бывало. Может, надо обратиться к психиатру, гипнотизеру или кому еще там, чтобы взяли и включили снова этот инстинкт. Но я никогда не обращался к таким людям и вряд ли найду к ним дорогу сам, если кто за руку меня не сведет.
С 24.40 сижу за машинкой, правил текст, шлифовал Феохариса. Но это же лучше, чем совсем ничего не делать. Скоро определюсь и начну работать по-настоящему. А может быть, это и несправедливо по отношению к себе, что я только сочинение романов считаю творчеством, так или иначе, я все время сочиняю и, кстати… про Монику с Клинтоном и в особенности про историю вампира не так уж и плохи, хотя не завершены.
Повесил на стенку листок-памятку, где записал, кому надо завтра позвонить. Если дозвонюсь хотя бы некоторым, кое-что выясню. Планирую позвонить, кажется, девятерым. Кроме хозяина, всем остальным – по писательским делам. Ложусь и буду баиньки. Спокойной ночи, моя добрая машинка!
17 февраля
среда, 17.00
Сегодня, вообще-то, у рода Зантария амшшяра, тем не менее целый день провалялся на диване, угнетенный тем, что надо было непременно нынче подготовить, по крайней мере, три, а лучше четыре материала, по которым гл.редактор решал бы, давать мне что-то вроде рубрики или нет. Конечно же, ничего пока не написано. Но сейчас я позвонил Кир. и попросил отсрочки. Получил ее до понедельника. До понедельника уж чтото непременно придумается, все-таки это как конкурс, хочется сделать вещи. В случае, если это начальству понравится, то я оказываюсь на некоем кайфовом статусе: буду писать что хочу, сам предлагая темы, а от меня будет требоваться, чтобы они были легкими и интересными. А то обидно – сколько я написал всего для «Экс.» того же, многое и не напечатано. А между тем я не могу переключаться, как машинка, что-то писать по всамделешнему, а что-то через пень-колоду. Во всех этих очерках (и напечатанное по прошествии нескольких дней уже никому не нужно, не говоря уже о том, что те, кого я хотел бы иметь в читателях, об «Экс.» чаще всего и не слыхали) что-то есть, хотя бы хорошее выражение. Все, что пишешь, особенно в моем уже немолодом возрасте, надо «в контексте своего творчества», надо себя уже экономить.
Я поведу эту серию таким образом, чтобы она слагалась в книгу. И тогда моя работа в «Эксперте» будет продолжением моей «настоящей» литературы. Ведь в «России», ведя рубрику, я в итоге написал, по крайней мере, два неплохих очерка и придумал серию «Слово о...», которое можно продолжать. Есть ритм, мысль, стиль.
Серия «Эксперт»;
Серия «Слово о...»;
Серия «Порабощенные бразды»;
Серия «Кавказ и Абхазия».
У каждой из них уже скелеты есть, есть и написанные страницы, а то и главы.
20 февраля
суббота, 15.00
Пока еще практически ничего не написано. Ездил к Гадк., только сейчас оттуда. На улице – слякоть. Снег тает, не холодно. Наше месторасположение, как выразился один мой земляк, находится «на конце географии».
…Пушкин был настолько первым, что всамделишних вторых стало немало. То там, то тут возникая и подавая голос вокруг каменной твердыни, они натыкаются друг на друга, но первенство у Пушкина оспаривать даже в голову не приходит никому, после того студента, который с толпы выкрикнул Достоевскому, что Пушкин «не рядом, выше, выше!», но там Достоевский сам спровоцировал этот по-русски максималистский выкрик, поставив в каком-то качестве Некрасова рядом с Пушкиным. Пушкин любвеобилен и добр, не страдает соревновательными инстинктами с современниками (такие беседы у него шли с Дантом, Шекспиром и Гете). Лермонтов, действительно, второй после Пушкина поэт на Руси. Гоголь, бесспорно, второй писатель (в смысле прозаик). Да и Толстой, почему-то, в этом Гоголю не мешая. Да и Достоевский, почему-то, Толстому не мешая. А в данном случае Гоголь и забыт. Д. и Т. в качестве второго после Пушкина писателя земли русской (одновременно и одинаково, как-то, будучи вторыми) спокойно умещаются на тесном квадрате пьедестала, что при жизни вряд ли классикам удалось бы, словно судьба на них цыкнула: «Стойте там спокойно, а то вслед за Пушкиным сразу!». Смирись, гордый человек, и много ли человеку земли надо… Фразы можно менять местами, очередности нет – оба одновременно вторые.
Лермонтов обречен быть заместителем Пушкина в вечности. Заместитель тут не в смысле зама, а в его старом досоветском смысле (у Набокова в предисловии к Лолите: про Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида). В случае отсутствия вечно куда-то пропадающего Пушкина он может заменить его достойно...
24 октября
воскресенье
Ничего примечательного в этот воскресный день со мной не произошло, и слава богу. Почти целый день пробыл у родственников. Придя домой (сейчас уже пол-третьего ночи), я пытался посмотреть по нашему черно-белому телевизору какой-то триллер, но он не пошел, и Нар все хмурился: вернулся к себе в комнату.
…Писал какие-то глупости про Ахм.Ев.Воз, пригодится в статье про советское. Но дело не в Ахм., Евт., или же Воз-ском, надо начинать с Пастернака и Ахматовой. «Советский» надо воспринимать не эмоционально, как нечто отрицательное (совок), а историческую реальность, которая тем более несомненная реальность, что уходит. Именно лучшие образцы, как вышеназванные, есть воплощение советского. Они жили в нем и отразили его, и отразились в нем. Надо подать без эпатажа, что и талант-то – что Паст., что Ахматовой расцвел в советское время. Сначала они были досоветскими, потом антисоветскими. но это не меняет сути: они оставались советскими и жили внутри этого. В этом отношении исключение – Мандельштам. Вот о нем и собираюсь написать: как гения, запущенного в будущее, чтобы вернуться в нормальный мир и рассказать, что там на самом деле было. Этого не мог сделать Блок, потому он и умер на, так сказать, рубеже: только успел сначала благословить в романтическом декадентском контексте, а потом, отрезвившись, ужаснуться и проклясть. Всю же тяжесть на себе вынес Манд., этот тщедушный еврей, получивший европейское образование и начавший уже гением, подобно Лермонтову, с ним параллель нужна. Чувствую, что сейчас бы расписался, но лучше отложить и лечь и пытаться заснуть.
Много хороших планов, именно очеркистских, но прочно не засел никак. «Лермонтов» имел успех по-своему. Я это чувствую и знаю, не только потому что все в «Экс». хвалят. Собственно элита литературная «Экс» не читает, но там мне напечататься надо было, хотя я мог отдать его в более престижное в этом плане издание.
Это выгодно. «Лермонтов» интересен, и текст о нем будет прочитан. Сейчас надо о Мандельштаме, может быть, и о Михалкове надо доделать, а там к мысли, что советская лит. и искусство не только были как реальность, но и воплощена лучшими (как вышеназванные), а не худшими, как Фад. и т.д.
P.S.
После записи, где приглашал себя спать, чтобы облегчить себе работу завтра, оставив то, с чего начать писать, – после этого пишу еще с часик и, разумеется, плохо. Завтра должен приехать ко мне Горячкин, попросил помочь в сочинении заметки про кого-то для «Алфавита», журнала, который платит якобы неплохо и куда мы потом поедем с ним. Просто он сдружился там с фотокором, у кот., кстати, взял поносить, как куртку, патриотизм, на днях даже заявил, что намерен войти в Грозный вместе с войсками, а когда вернулся из Дагестана, из Каарамахи, тоже рассказывал байки, которыми пестрят все СМИ, отчего и его фотографии воспринимаются как вычитанные из газет. Всеобщий патриотизм. Дима – еврей-либерал (таковым он является по определению, и дело тут не в обычном для полукровок отсутствии среднего возраста: из русского юноши в одночасье превращаются в старого еврея с его одутловатостью; просто у него нет других убеждений, кроме того, что он убежден: ему надо зарабатывать, к тому же он склонен к многоженству). Когда еврей-либерал становится патриотом – это как звезды зажигают ночью.
Когда Козырев не стал МИДом и надо было выбираться по Мурманскому округу в презренную Госдуму – резкое б выражение о мамах тех избирателей, кто там за него проголосовал! – он тут же заговорил об отце-юристе Жирика – обычное клише в стиле Проханова. Когда Полторанина ушли и он стал рукавом, который надо было пришить, – он тут же о «криминальном иврите».
Опять заболтался! Пятый час. Спокойной ночи!
2000 год
20 февраля
воскресенье
Снова не обращался к дневн. неделю.
За это время мне отточили зуб и сейчас я, как вампир. Работаю в «Рос». Получил пока в конверте 300 баксов. Не семьсот, как ждал, но редактор подчеркнул, что это за январь, когда я там еще не работал. В «Эксперте» тоже пока не уволился, но надо сделать это, пока не упрекнули: ведь там я ничего не делаю столько времени.
В «Рос.» я был взят как спец по Кавказу, но разумется, пришлось согласиться на это из нужды. Не хочу опять про политику. Сейчас я несколько материалов предлагал нейтральных. В частности, на неделе с фотокором Сергеем ходили в кабак «Золотой дракон» на так называемое караоке. Об этом написал. Кстати, там раскололи на три тысячи рублей. Первый зам, или выпускающий, или как его там, Максим, очевидно, бывший хиппи, не понравилось ему то, что я написал. Однако, в конце концов, редактор ее похвалил. Сейчас только что я закончил материал про Мелитона Кантария. Если так пойдет, может быть, буду вести раздел – чтиво или что-то более гуманитарное.
Все эти недели, кот. я работаю в этой будущей газете, вперемежку бегаю к зубному. Расположено далеко, аж в Солнцево. Относительно дешевле мне делают, за тыщу баксов. Пока заплачено 350 и 100 за лечение.
С 27 на 28 марта
с понедельника на вторник
Вчера были в гостях у Сида. Парень с женой, ростовчанкой. - сам он из Крыма, когда-то приезжал ко мне в Сухум, а сейчас нашел, предлагая литературнй вечер. Ездили к нему в Марьино с Таджигулькой. Он и жена – большие энтузиасты. Дома еще ее сын, да сын того самого с армянской фамилией, который рубил иконы. У них литературный клуб. Успели получить соросовские гранты. Да, Сорос сворачивает программу. Почему я не встретил их год-два назад! Они организовывали три Боспорских конференции в Крыму. С привлечением Искандера, Аксенова и Битова. Пригова и Рубин тоже обожает с Кибировым и Гандлевским. Я им тоже по душе. Кажется, те, кто мне когда-то был нужен, а как махнул рукой – они тут как тут, предлагают сайт мне открыть. Я говорю – сайта Абхазии бы. Сказал, что можно англичан Хьюита и Рэйчел – использовать, чтобы найти благотворителей. Сиду идея очень понравилась. Еще зажегся он, и Анна тоже, идеей провести дни культуры в Абхазии. Можно, если составить проект, найти деньги, они это умеют, а для Абхазии, так нуждающейся в контактах с внешним миром, где наша молодежь страдает от недстатка общения, это было бы здорово. Тем более, и Вова Зантария, и Кес помогут. Надо сделать чтото для того, чтобы прорвать ту изоляцию, в которой пребывает наша Абхазия. Ребята, кажется, могут посодействовать. Надеюсь и молю Господа, чтобы на этом пути не постигло б меня разочарование: ребята, кажись, что надо.
Сегодня я, графоман этакий, сдал очередной очерк Подшивалову про Углич. Самому нравится. Кажется, и он разделил со мной это чувство. Сказал, дескать, почему былинный мотив, высокопарность. Я ему – что это прием. Так и поговорили. 15 января написал в дневник, а сейчас попалось мне на глаза следующее: «Я становлюсь журналистом, причем политизированным». По-моему, этого удалось избежать. Потому что заставил себя ценить именно как стилист. Теперь, когда в ежедневной газете мне предстоит выполнять негазетную часть работы, то есть писать «загонные» материалы, – как состав лишний, который на все узкоколейки загоняют, пропуская более важные рейсы поездов, – фактически занимаюсь новым для себя жанром – жанром очерка о живых людях и всамделишних ситуациях, что само по себе мне интересно. Все, что я пока написал, а написал я не менее шести очерков, все это можно и в сборники включать, они не злободневные, то есть, как опять журналюги, мои новые друзья, поговаривают: не тухнут. При этом, если мне действительно это надо, я могу организовать отдел, нечто вроде литературного (и прочее), уже собираюсь привлечь Пьецуха, потому что, хотя и он с неба звезд не срывает, однако есть забавные вещи у него, а так и не припомню другого с юмором. У всех только вымороченный юморец и стеб.
Кавказская война и беженцы
Доклад, прочитанный на конференции молодых историков Кавказа в Абхазском государственном университете
От всей души приветствую вас, молодых историков Кавказа, хочется надеяться, что именно вам, которые живут в обстановке широких реформ, когда время уже не ставит ученого в ситуацию, когда надо изловчиться, чтобы дать знать намеком о малой правде, именно вам удастся сказать всю правду о самом болезненном периоде нашей общей истории. Я попытаюсь высказать несколько своих соображений, но тут же должен оговориться, что я не историк, а литератор, может быть черпающий информацию больше из беллетристики, нежели из источников. Но и в документах мне приходилось копаться, кроме того, я дружу со всезнающим Русланом Гожба, с которым вы, надеюсь, познакомились. Но самое главное – каждый кавказец обречен постоянно возвращаться к теме, которую принято называть махаджирством.
Нет ничего проще, чем делать выводы задним числом. Браво тем царькам и князькам, которые на исходе позапрошлого столетия поспешили прильнуть к сапогам русской империи. Так оно и оказалось, что Россия и Турция были перманентные враги. Россия набирала мощь, тогда как Турция, эта Блистательная Порта, дряхлела. И народы, которые в эту столетнюю войну оказались за гранью дружеских штыков, теперь, многочисленны, сыты и вершат наши судьбы.
Однако, если рассуждать на примере Абхазии, на протяжении веков она, если не считать нескольких столетий, всегда была вынуждена искать союза с какой-нибудь империей. Но именно союза, а не подчинения. То же самое было предпринято Келешбеем в начале прошлого века по отношению к России. Но как трагично это произошло на самом деле. Так получилось, что именно властелины сделали свой выбор, а не народ.
Турция лучше России знала, что такое Кавказ. Иначе и быть не могло. К этому времени Россия не имела опыта затяжной вой ны с народами, пользующимися своим удобным для обороны географическим положением, каковыми являлись неприступные трущобы Кавказа. Турция же для склонения горцев на свою сторону умело пользовалась торговлей и идеологией, то, в чем тщетно пытался Раевский убедить Николая Первого. Ограничившись номинальным себе подчинением горских племен, Турция не препятствовала местному самоуправлению и свободному отправлению собственных адатов. Если в колониальной Венгрии, например, власть на протяжении многих веков осуществлялась пашой (среди которых было немало адыгов и абхазов), то в Абхазии паша выполнял лишь роль консула, а наследственное владение принадлежало роду Чачба, династия которых существовала и до турок. Они даже не были мусульманами. Абхазы, как и остальные горцы Кавказа, всегда бывали патриотами империи до той поры, пока империя не наступала на их вольность. Тут мимоходом хочется сказать, что утверждения, будто начиная воевать с Россией, горцы не представляли могущества и многочисленности противника, совершенно необоснованны. Наши предки не были глупее или невежественнее нас. Будучи близки к турецкому и египетскому двору, они прекрасно знали политику и конъюнктуру. По крайней мере, Кабарду нельзя заподозрить в незнании России. Уж она-то на кои веки была в союзе с Россией, что не помешало ей стать непримиримым врагом России, как только последняя посягнула на ее вольность. К этому я еще вернусь, а теперь о том, какой была Абхазия к моменту прихода русских. Усилиями трех владетелей, сменивших друг друга в течение XVIII столетия – Джигетии, Зураба и Келешбея – Абхазия к этому времени консолидировалась и укрепилась. Келешбей, по всеобщему утверждению, при случае мог выставить 25 тысяч конницы, имел флотилию, и его намерение принять подданство России было не актом отчаяния, а желание еще более укрепиться под покровительством более мощного из двух соперничающих держав. Его послание императору Павлу – это не просьба о покровительстве, а предложение равноправного союза. Но, очень скоро разочаровавшись в своем намерении, о чем свидетельствует прямой конфликт – нападение на форт Анаклию по левую сторону реки Ингур, Келешбей сделал Абхазию совершенно независимой. А разочаровался он, главным образом, потому, что вскоре понял, что Российская империя не так скоро приходит на подмогу, как прижимает под сень своего знамени. А убедился он в этот момент, когда Турция решила наказать его за сепаратизм и выслала к нему войско, которое, однако, не решилось вступить с ним в бой. История, как всегда, повторилась: подобно тому, как тысячу лет назад Леон Абаз, при нашествии Мурвана Глухого не получивший подмоги от своего покровителя и кузена (Леон Абазг и византийский кесарь Леон Хазар были сыновьями двух сестер – дочерей хазарского кагана), справившись с врагом сам, тут же объявил себя независимым, так же поступил и Келешбей. Таким образом, семь и более лет Абхазия была абсолютно суверенной, пока сын Келешбея от простолюдинки не подписал трактата о присоединении к России. Ни юридически, ни фактически договор этот не был правомочным, потому что этот князь, который уже носил два имени и две фамилии: традиционное Сафарбей Чачба и христианское Георгий Шервашидзе, не был престолонаследником. И договором, который он подписал, кажется, в Зугдиде, он вырвал власть у Асланбека. Еще один курьез истории: Келешбея постигла та же участь, что и императора Павла, с которым он вознамерился иметь дело. Оба они пали жертвами заговоров, в которых принимали участие их сыновья.
Хотя у нас принято называть и этот шаг Сафарбея исторически прогрессивным, однако он не был согласован ни с политическими силами собственной страны, ни с союзниками – убыхами и черкесами, в ней Сафарбей преследовал одну цель – узурпацию власти! Этим договором Сафарбей обрек свой край на расчленение, Абхазия перестала существовать как государственное целое. Таким образом, он вверг страну в небывалую по деятельности и ожесточению войну. С этого дня события медленно двигались к неминуемому финалу – этнической катастрофе. Она наступила в шестидесятых годах с упразднением номинальной власти владетеля, что означало полную аннексию Абхазской государственной автономии и результатом этого – массовый исход в Турцию, который мы именуем махаджирством.
Кавказская война в высшей степени сплотила горцев Кавказа, но сплотила она духовно, а не на уровне политико-государственном. Наступило время героическое, но безысходное. Как бы не уверяли нас в обратном, случившееся потому и трагично, что его невозможно было предотвратить. Эта мысль мало утешает нас, но, по крайней мере, освобождает наших предков от самого худшего: от упрека со стороны потомков, якобы случившееся можно было предотвратить. Случившееся предотвратить было нельзя, и тут дело не в строптивости или непримиримости, или недальновидности наших предков. Каждый из вас может дать другой исторический расклад того, как все это начиналось у вас и это будет спецификой вашего народа, но результат один и конечная наша судьба одна. Мир с тысячелетним вольным укладом, с цивилизацией, которая была и не европейской и не азиатской в полной мере, где государственные образования, четкие сословные структуры заменялись союзом независимых общин – этот мир столкнулся с совершенно неприемлемой для него силой. В сущности, Кавказская война была уникальная война запоздалой античности с миром, бравшим первые уроки Европы. От Кавказа вдруг стали требовать, чтобы он переориентировался с Востока на Запад, тогда как он ни Востоком, ни Западом не был, а был как раз границей этих двух стихий.
Россия захлебывалась от восторга и крови одновременно. Свой вдохновенный гимн Кавказу «Кавказский пленник» Пушкин заканчивает угрозой и пророчеством неминуемой гибели предмета своего вдохновения. Николай вырвал у Турции Адрианопольский мир, на который Пушкин откликнулся стихом (цитирую по памяти):
И далее двинулась Россия
---------------------------------
И пол-Эвксина забрала.
В свои объятия тугие.
На Кавказе был совершен небывалый в истории геноцид народов. Он начался как раз в тот период, когда антрополог Блюменбах и философ Гегель признали кавказскую расу самой совершенной европейской расой. Вердикт 1829 года окончательно предрешил судьбу горцев Кавказа. Дальнейшее сопротивление, (а оно продолжалось до 1864 года, частично в 1867 и 1878 годы, а в сущности, длится до сих пор), оно было безумно. Но не будем тут судьями, как мы часто это делаем. Черкесская вольность полна романтики, но лишена рационализма. Героический период уходил со сцены истории, и он сопротивлялся до самого конца. Матери торопили своих детей вырасти и погибнуть за Родину. И они погибали несколько поколений. Кстати, когда эта бойня закончилась, горцы словно удивленные, что не могут погибнуть молодыми, стали самыми большими долгожителями в мире.
Что искала Российская империя на Кавказе? Николай, который издал распоряжение о выселении или поголовном истреблении горцев, кончил тем, что то ли вздернулся, то ли отравился. Но в этом жестоком распоряжении есть полное сознание собственного поражения: уже задолго до того, как оно было исполнено, его автор этим уже сознавался, что покорить или усмирить Кавказ ему никогда не удастся. И еще поражение заключается в том, что расу, которую тысячелетиями все империи использовали для укрепления власти, для обеспечения новых побед, наконец, для улучшения генофонда своих народов, последняя империя истребила и изгнала. Но Россия до сих пор не осознала этого. Ни один из великих русских писателей и деятелей культуры не откликнулся как-то на выселение миллинов людей в Турцию. Кавказ еще отчаянно сопротивлялся, а для российской общественности, занятой спорами между славянофилами и западниками, Кавказ уже успел превратиться в литературу Пушкина и Лермонтова. А что касается современников, то тут словно история России началась с восстания декабристов, все внимание, которое должно было рассеяться на длинный промежуток времени не такой уж молодой России, сфокусировано на двух веках, оставляя книжникам и узким профессионалам более ранний период, который Ленин брезгливо не включил в свою методологию – три этапа национально-освободительного движения. Мало кто читает Нестора, мало кто знает, какую роль сыграли касоги в Куликовской битве.
Между тем еще сказки Афанасьева в начале прошлого века пронизаны таинственным духом Кавказа и Черноморья. Эти были доходили и до пушкинской няни в далекий Псков, где, преломляясь через тысячи перспектив, через фантастические расстояния, сотни лет спустя после того, как были прекращены контакты с Кавказом.
Но эту индеферентность, наверное, надо объяснить тем, что углубление в историю потребует моральной оценки того, как поступила огромная нация, или, по крайней мере, те, кто действовал от ее имени с теми народами, с кем когда-то она начинала свою другую историю. Но сейчас разговор не об этом. Уж мы-то должны знать свою историю.
А то давно ли нас убеждали в том, что переселение произошло в результате турецкой пропаганды, потому что Турция сама сманила горцев к себе. Нелепо винить Казахстан в том, что туда были выселены вайнахи. И с махаджирством то же самое. Я рад был слышать, что вы тут сказали об этом.
Мне кажется, что мы непременно должны осознавать, что наши соотечественники за рубежом были и остаются беженцами в юридическом, в ооновском понятии этого слова. И что они, если этого захотят, должны быть возвращены на историческую Родину, как ингуши, крымские татары или турки-месхи. И постепенно отказываться от термина «махаджиры», заменяя его понятием беженцы.
Представление о наших соотечественниках за рубежом как о добровольных изгнанниках – следствие тоталитарной пропаганды, но не только ее. Как ни тяжело нам в этом сознаваться, тот факт, что большая часть наших народов ушла, а осталась меньшая, есть следствие раскола, который произошел внутри горского единства в последний момент войны. Остались мирные, а ушли непокорные, а мы, надо полагать, происходим как раз от первых. Именно поэтому мы должны еще больше любить и сочувствовать представителям нашей диаспоры. И при этом помнить, что как бы хорошо они себя там не чувствовали, все же наша диаспора лишена в той же Турции, Сирии и Иордании общепринятых прав и свобод. Юридически они поставлены, например, ниже армян, греков или евреев. У них нет свободы совести, возможности национального самоопределения, они не могут носить даже своих национальных имен и фамилий. И это касается одинаково и простолюдина, и министра.
Мы находимся в лучшем положении, хотя наш режим, по всему видать, хуже, чем какой-либо. Однако настоящее самовыражение нации все-таки возможно только на своей Родине.
И последнее, что мне хотелось сказать в контексте того, что мы раз и навсегда решили не мыслить себя в отрыве друг от друга и в отрыве от нашей диаспоры. Если мы решили, что это должно быть так, и что отныне все мы будем работать только на это, мы вправе мечтать о возрожденном Кавказе. Неправда, будто Кавказ спит. Кавказ затаился. Но возрожденный Кавказ хочется видеть не воинственным Кавказом, хотя без этого мы уже не мы. Под возрождением Кавказа я понимаю возрождение его исторической миссии быть связующим звеном между Востоком и Западом, беря все лучшее от Востока и Запада, но не оставаясь ни тем, ни другим, и оставаясь собой, только самим собой.
г.Акуа
10.5.1990г.
Маргарита Ладария
РОМАН ДАУРА ЗАНТАРИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЕСО» КАК ФЕНОМЕН АБХАЗСКОЙ РОМАНИСТИКИ
«Значительность ведь произведения в том, ...что оно открывает нечто новое, противоположное тому, что считалось несомненным».
(Л.H. Толстой)
Именно об этом и пойдет речь в данной статье. И только связана она не с зарубежной литературой, накопившей огромной опыт, не с русской, поразившей мир своими открытиями как в области человеческой души, так и своего общества, а с абхазской литературой. Возникнув лишь в начале ХХ-го века, уже во второй половине она вполне состоялась как целостная национально-самобытная художественная система.
«Она помнит свои корни и прокладывает мосты между веками, восстанавливая целостную картину духовной истории народа», - так констатирует этот факт абхазский ученый В.Бигуаа, в своем фундаментальном исследовании.(1)
Время шло. Абхазский роман, совершал свое восхождение без «схваток» инакомыслящих в сфере писателей и литературных критиков, чему, конечно, содействовала национальная этика. Великая русская литература XIX века подпитывала молодую абхазскую прозу своей творческой энергией. В 1918 году основоположник абхазской литературы Д.И.Гулиа создал первый в Абхазии рассказ «Под чужим небом» - своеобразный «эмбрион» еще несуществующего тогда романа. В нем он в миниатюре предложил те художественные формы и приемы, в том числе и художественного психологизма, которые открыли путь к созданию первых абхазских романов и повестей (роман Д. Гулиа «Камачич» и повесть И.Папаскира «Темыр»). Жанровый спектр, благодаря ускоренному развитию отечественной литературы и литературным связям с русской классической прозой все больше обогащался, приобретая новые, более современные очертания. Б 60-х годах определился интерес к жанру исторического романа, с четко очерченной ориентацией на темы махаджирства и средневековья - периода образования Абхазского царства.
Один за другим появлялись романы: «Водоворот» Г. Гулиа - (1959), затем роман А. Гогуа «Большой снег» (1985 год), Ш. Аджинджал «Дьявол с мечом» (1984 год), В. Амаршан «Апсха - царь Абхазии» (1994 год) и другие. Каждый из них нашел свою нишу, не внося особых новшеств в стереотип исторического романа,
не противопоставляя свои версии - уже утвердившимся в историографии.
Конечно же, за исключением двух романов Б. Шинкуба - «Последний из ушедших» и «Рассеченный камень» - вершинных явлений абхазской романистики.
К этому периоду абхазская литература уже вышла на уровень мировой.
Некоторые из произведений стали появляться за рубежом. Значительно содействовали этому русскоязычные абхазские писатели Г.Гулиа и Ф.Искандер, получивший мировую известность, обративший внимание зарубежного читателя не только к абхазской литературе, но и к ее народу, ее национальному менталитету.
Рубеж веков ознаменовался в Абхазии потрясениями. Почти одновременно с распадом Советского Союза, частью которого она являлась, началась грузино-абхазская война 1992-1993 года. Спустя четыре года в Москве абхазский писатель Даур Зантария опубликовал свой роман «Золотое колесо» (1997 г.). Первый роман на тему совсем недавно завершившейся отечественной войны.
От своего романа-первенца он ждал многого, вынашивал его чуть ли не десять лет. Еще до войны на абхазском языке начали складываться фрагменты будущего романа, которые, постепенно смыкаясь, стали его главами. Сама творческая история могла бы стать темой для романа: вмешательство исторических потрясений изменило направление творческих поисков писателя, творческую задачу.
В Москве роман получил одобрение в элитной среде литераторов. На родине же писателя он был встречен молчанием.
В 2001-ом году Даур Зантария скончался, так и не встретившись с отечественным читателем.
Время требовало другого решения, иных подходов к жизненному материалу.
Даже после ухода из жизни Даура Зантария «диалога» с читателем не возникло, несмотря на то, что авторитетные, известные русские писатели, его поклонники и друзья опубликовали солидный сборник (около 400 страниц), посвященный абхазскому писателю - своеобразный подвиг русской души, сумевшей отдать дань любви, уважения и восхищения своему собрату по перу. Сборник назвали: «Зантария Даур. Колхидский странник» (Екатеринбург. 2002 год). В него вошли его роман «Золотое колесо», повести, рассказы и раздел «Воспоминания о Дауре Зантария».
Столь разное отношение к одному и тому же писателю со стороны соотечественников и представителей другой страны обычно таит в себе какую-то тайну. Попробуем ее разгадать. Возможно, это поможет глубже понять личность Даура Зантария, трагические изгибы его творческой судьбы. Почему же отечественный писатель не принял роман своего соотечественника? Ведь уже то, что последнее произведение написано на тему, связанную с войной, должно было вызвать у него особый интерес. Даур Зантария был известен как двуязычный писатель, в одинаковой мере владеющий художественной речью абхазской и русской. Отдавая нередко предпочтение русской, по его мнению, «более инструментированной», то есть обладающей поэтическими оттенками и нюансами, неподвластными еще абхазской.
К роману Даур Зантария пришел не новичком. Он был известен как абхазскому, так и русскому читателю и как поэт, с ярко выраженным философско-психологическим уклоном, новеллист, фиксирующий внимание на нравственно-психологических «сдвигах» как в обществе, так и в человеке, ситуациях, развенчивающих показную добродетель, за которой скрывается алчность и нечистые помыслы («Старушка у окна», «Пожиратели голубей»), несостоявшихся судьбах («Жеребенок, имя которого я забыл»). В журналах, газетах, печатались его философско-нравственные эссе, отмеченные оригинальностью мысли, ироническим складом его ума («Слово о научных открытиях», «Рождественское слово о долгожителях», «Носферату по имени История»). Большое место в его литературном наследии занимали статьи на тему межнациональных конфликтов.
Везде и во всем он одаривал читателя своей искренностью, способностью, видеть абсурд и нелепость там, где их не ждешь, многообразной палитрой авторских интонаций...
В начале 1980-х годов им были созданы повести («Енджи-Ханум, обойденная счастьем», «Судьба Чу-Якуба»), получившие высокую оценку в московских литературных кругах. Художественные достоинства этих произведений, их новизна и самобытность были отмечены одним из мастеров современной русской прозы Андреем Битовым. «Казалось, - писал он, - после Фазиля Искандера в абхазо-русской прозе делать было нечего. Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь. В них выражен новый жанр, новый писатель, органический сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи».(2) Однако, по всей видимости, Даура Зантария не прельщала мировая слава. Для него упомянутые повести были лишь ступенями восхождения к роману «Золотое колесо». Он хотел принести этот роман в дар своему многострадальному народу, своей родной литературе. Но встретил лишь непонимание и отчуждение. Почему? Что не устраивало читателя в романе? В чем мог досадить ему автор? Видимо, эти сомнения мучили писателя. Иначе он не был бы так искренен в своем интервью, данном им писательнице и журналистке Т. Бек.(3) В нем он исчерпывающе ясно разъяснил те места художественного текста, которые его соотечественнику могли показаться «темными», непонятными.
Думаю, преподнеси Д. Зантария это интервью в качестве предисловия к роману, недоразумения с читателем были бы сняты. Тем более, что такие разъяснения авторов вполне законны. Достаточно вспомнить выступления в печати со статьями в один и тот же год (1869) у Тургенева - «По поводу «Отцов и детей» и у Толстого - «По поводу «Войны м мира».
Но Даур Зантария не стал объясняться с читателями - он устал, был болен, подавлен.
Что-то было в его личности загадочное, не поддающееся пониманию неискушённого читателя. Душевное состояние Даура, его мятежность всего больше ощущается в его лирике, еще недостаточно оцененной. Здесь особенно выявляется его мироощущение, трагическое по преимуществу, характерное для него в послевоенные годы.
Не лишено возможности, что в среде русских литературных друзей он чувствовал большее понимание. Не исключено и то, что его духовные и творческие метания, его мучительное желание познать смысл бытия, природы, самого себя, импонировали больше русским, нежели абхазам; ведь у них не было своего Н.В.Гоголя - «гения смеха» и «святого мученика». Возможно и другое: читатель, приученный в течении 70-ти лет советской власти к единомыслию, единодушию, единопослушанию» (Д. Лихачёв), не так скоро освобождается от идеологической удавки. И новая критика постсоветского периода в новом временном пространстве не коснулась, не дошла до абхазского читателя?
«Новая критика, - отмечает ведущий современный теоретик В. Хализев, - ... интересуется неповторимым и индивидуальным (курсив мой - М.Л.) обликом произведения, уясняет индивидуальное своеобразие его формы и содержания...».(4)
Все сказанное выше необходимо, чтобы понять индивидуальное и неповторимое в романе «Золотое колесо» и тем самым интерпретировать его как феномен, доселе в абхазской литературе не наблюдаемый. Его надо читать вдумчиво и пристально, вникая в текст, в характер интонаций авторской речи, в смысл его поэтических символов (земля, небо, колесо, луна, огонь), в суть притч и шаржей, лирических отступлений. В романе явно преобладает народная фольклорная поэтика. Она просматривается в форме зачина, в народных пословицах и поговорках, в характере юмора.
Один из почитателей и вдумчивых читателей произведений Зантария - В. Отрошенко заметил, что «... в прозе Даура Зантария мы имеем сегодня самый чистый тип миротворящего сознания..., что именно такие, как Зантария, то есть люди, обладающие его мироощущением, творили мифы в неисследимой древности.(5)
Собственно с этим мироощущением и связано своеобразие его творческого сознания. В нем удивительным, на мой взгляд, образом сочетается мифологическое сознание, ограниченное народной абхазской поэтикой, с ультрасовременным, не признающим никаких ограничений. Именно такой синтез и объясняет суть его художественного мышления, типологически близкого к «магическому» или «фантастическому» реализму XX века, открытому для условных художественных форм, фантастики, иррациональному, подсознательному.
Русские критики не случайно сравнивали тип его художественного мышления с творческим методом таких писателей, как Кафка, Джойс (в Западной Европе) и с Г. Маркесом, особенно с его романом «Сто лет одиночества» (в латиноамериканской литературе). Писатели этой категории не исключали из зоны творчества «эксперимента», проникновения творческой мысли в тайники человеческой психики и души.
В романе Д.Зантария мы встречаемся с нечто подобным. В нем настолько трансформирован, например, сказочный образ «Владычицы Рек и Вод», что почти теряется ее сказочность: она прогуливается со своими вывернутыми пятками по земле с возлюбленным Акун-Ипа Хаттом, испытывает чисто человеческие чувства совести, стыда и т.п.
Вполне на равных с героями действуют волшебная говорящая собака Мазакуаль и ее друзья: индийский павлин и петух - поэт Арсен.
Однако фантастика здесь - не средство авторского эксперимента, а необходимое «дополнение», в основном, к главному сюжетному герою - Могелю, не весьма хорошо ориентирующемуся в том, что происходит вокруг него и в нем самом. Она также реализует принцип художественной объективности.
Д.Зантария, по его признанию,стремился быть предельно беспристрастным.У него «...абхазы показаны глазами грузин, грузины - глазами абхазов, и те и другие - глазами собаки и даже павлина».(6)
Вся система образов абхазов и грузино-менгрелов, сюжет, его структура, архитектоника, манипулирование с пространством и временем - связаны не с экспериментом, а с той центральной проблемой, которая подчинена идейному пафосу романа - его концепции истоков и подходов к войне 1992-93 года. И здесь автору было, очевидно, неважно, каким методом он пользовался при этом. Главное для него - видение этнопсихологического и духовного процесса, пропущенного через призму «народных предрассудков». В романе множество сцен, картин, диалогов, событий и поступков, казалось бы, не имеют прямого отношения к его идейно-творческой задаче. Но это только так кажется на первый взгляд. На самом деле, даже незначительная деталь в сюжете, в персонажах в нем работают на авторскую концепцию, ясно и четко выстроенную. Она держится на трех типах сознания: авторском, этнопсихологическом (почти все герои старшего и младшего поколения) и мифофольклорном (витязь Хатт и Владычица Рек и Вод). Соответствуют этим трем уровням сознания - три глобальных проблемы: Человек - Народ - История.
Концепция чисто авторская, не претендующая на последнюю инстанцию исторической Истины. По признанию писателя его концепция писалась « с чистого листа». Явление для абхазского романа исторической ориентации непривычное, новое и даже - дерзкое. На этом фундаменте выстраивается в весьма доступной форме авторская концепция. Она сводится к следующему. В далекой
древности, чуть пи не во втором веке до нашей эры, когда в Абхазии господствовало еще язычество, абхазам приходилось постоянно воевать с врагами отечества, что вынуждало их доверять обработку родной земли и охрану природы «пришельцам» или «нечистым», прозванным так из-за их небрежного отношения к своим обязанностям. Пришельцы роднились с абхазами, и так внедрялись в абхазское население. Эта мысль четко выражена в притче мудрого старца Платона «о кобыльих примаках» (глава «О любознательности»). Другую причину автор видит в национальной черте абхазского человека - в его гостеприимстве, нередко чрезмерном, которое также давало возможность менгрелам и грузинам оседать на абхазской земле и вытеснять даже ее аборигенов. И, наконец, третий исток - психологический «синдром толпы», умело используемый агрессорами грузино-менгрельского происхождения для разжигания национальной вражды.
Автор, наделенный способностью предельно сжимать смысловую энергию, вычленяет из этого «синдрома» три типа «оборотней»:
1) открытого (высокий Гость из Тбилиси, легионер Ордена «Белого Орла»),
2) скрытого (актер Бобонадзе, Энгештер, брат Могеля (центрального сюжетного героя) и другие,
3) тайный оборотень, самый опасный, по мнению автора: агрессия и национализм здесь глубоко внедрены в его подсознание (образ Могеля).
«Хитрый Могель» - так определяет суть этого «оборотничества» писатель. Все эти истоки, обеспечивающие подход к войне, возникшие с древнейших времен, рассмотрены на уровне современности (1989 - 1992), когда они переходят в новое качество - подхода к войне, «лезть» в которую, по признанию автора, «сейчас» он «не готов». Понимая, видимо, что для создания исторического романа современность должна откристаллизоваться в историческое прошлое. Концовка романа поэтому выглядит вполне логично: «Война идет. Война пришла!»
Эта простая раскладка предлагается автором на фоне вечных проблем человеческой мудрости (образ витязя Хатта) и тайн природы (образ Владычицы Рек и Вод). Первый выступает в роли Учителя, покровителя абхазов, призывающего к Единению (символ «Золотого колеса») и обретения более высокой культуры. В этом образе просматривается своеобразно трансформированный герой кавказского эпоса - Абрскил.
Владычица же Рек и Вод выполняет функцию своеобразного «ориентира» «дремучести» определенной части абхазского населения, чрезмерного его мнению, преданного устарелым предрассудкам (по мере их ослабления, она угасает, становясь простой русалкой, адзызлан, утратившей былое величие хранительницы и богини Природы).
Концепция романа сводится, в основном, к абсурду решения межнациональных конфликтов средством зоологическим - уничтожения друг друга противоборствующих сторон путем кровопролития и убийства. Автор же полагает, что причина этой аномалии - низкий уровень культуры. Без нее, по его мнению, межнациональные связи оборачиваются войной. И здесь, более чем где-либо, Зантариевская «сверхзадача» концепции смыкается с Лермонтовской в его стихотворении «Валерик», созданном по горячим следам бойни между русскими и чеченцами на реке Валерик. Кровавое зрелище вызывает у него такие строки:
«Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он - зачем?»
Это Лермонтовское «зачем?» пронизывает концепцию автора «Золотого колеса», усиливая ее гуманистический пафос. Однако, в отличие от Лермонтова, он знает, для чего воюет и для кого воюет человек. И это знание наполняет его бесконечной грустью, которая выражена в последнем внутреннем монологе витязя Хатта в Эпилоге романа.
Роман «Золотое колесо», его судьба и трагическая судьба его автора волнуют и дают материал для размышления. Прежде всего о том, что писателей, одаренных глубокой восприимчивостью к добру и злу и внутренним прозрением смысла жизни, следует чтить и оберегать, помня, что от них во многом зависит духовность нашего общества, его настоящее и будущее.
Трагическая судьба Даура Зантария, да послужит уроком для нас всех!
Поистине, «аще не умрешь, не воскреснешь! (библейская мудрость). Но это слабое утешение!
На мой взгляд, роман Даура Зантария «Золотое колесо», выполненный на уровне идейно-художественной оригинальности и «дерзости новизны» (Т.Бек), решает две историко-литературные задачи. Во-первых, в нем впервые в «зоне молчания» абхазской прозы послевоенного периода представлена тема грузино-абхазской войны, точнее, ее истоков и подходов, идейно-художественное решение которой не имеет аналогов.
И, во-вторых, им предложена жанровая форма «современного эпоса», хотя и не соответствующая стандартам исторического романа, но открывшая новые жанровые перспективы в развитии отечественного романа.
Более, чем достаточный, на мой взгляд, вклад в историю абхазской романистики начала XXI-го столетия, в которое он вошел как неординарное, феноменальное явление.
1 Бигуаа Вячеслав. Абхазский исторический роман. История. Типология. Поэтика. М., 2003. С.10.
2 См.: Сб. Зантария Даур. Колхидский странник. Екатеринбург. 2002. С.213.
3 См.: Т.Бек . Огонь в очаге. // «Колокол». №2. 2003.
4 Хализев В. Е. Теория литературы. Учебно-методическое пособие. М., 1991. С.57-58.
5 Зантария Даур. Колхидский странник. Екатеринбург. 2002. С. 212.
6 См.: « Колокол», № 2. 2002. С.13.
7 Признанным мастерам исторического романа - Пушкину, автору «Капитанской дочки» и Л.Толстому - «Войны и мира», понадобилось для этого более полувека.
А ВООБЩЕ, СЛОВО КАК ОГОНЬ В ОЧАГЕ...
Сергей Арутюнов
Неописанный классик
(он жил по уставу небес)
Перед тобой, уважаемый читатель, не совсем обычная книга! Она составлена из работ необычного человека, жившего в уже необычное время и обрамлена обычными воспоминаниями людей, с кем он дружил и разделял время. Феномен Даура Зантария заключается в том, что он жил как писал и писал, как жил. А жил и писал он наповал, иначе не скажешь.
* * *
Люди думают, что они съедят жизни много, а на самом деле только пробуют. У него всегда преобладала неуемная жажда к жизни. Он всегда упаковывал свою жизнь жадно, как будто собирался уехать на другую планету. Так и уехал резко. С планеты лжи на планету правды.
* * *
Жизнь нанизывает нас эпизодами на шампур времени. Вот один из многих.
Мы были друзьями, да мы и сейчас друзья. Попивали демократический портвейн «Три семерки» и «Алжирское вино», после которого со стенок стакана долго не отмывалась темно-синяя краска, слонялись по улочкам ночного Сухума в поисках впечатлений и закуски. Помню, в 1984 году приехал Андрей Битов, друг Даура, вечный странник и гость, тогда еще сорокалетний автор прогремевшего в «Континенте» «Пушкинского дома». Мы начали торжественно - официально в ресторане «Амза». Поначалу соблюдались все нормы застольного этикета и пиетет к высокому литератору.
Проснулись до рассвета, почему-то, на куче лимонов в селе «Эстонка» в сарае у местного крестьянина, тоже эстонца. Спешно ретировались в город (было стыдно перед гостеприимным сельчанином) и оказались в Сухуме на тропе утренней прогулки Вианора Пачулия, тогда мэтра отечественного всего культурно-пропагандистского. Подставив заезжую знаменитость под блиц-разговор о
путях и перекрестках мировой поэзии и прозы мы с Дауром незаметно выманипи у олдермена, который всегда относился к нам по-отечески снисходительно, рубля три под обещание убедить заезжую знаменитость выступить на встрече с местной интеллигенцией. Этих денег хватило на счастливый день и сохранение формы. Литературной у Андрея, художественной для Даура, познавательной для меня. «Вся интеллигенция - секретный агенция...», напевали мы через полчаса нестройным хором счастливо умиротворенные перед рюмочками в заведении «Черноморец», что в портовом «Бермудском треугольнике».
Встреча с интеллигенцией так и не состоялась, зато состоялась дружба как один из катализаторов смысла. В этой дружбе Андрею всегда отводилась роль большого патрона, Дауру - талантливого хозяина, мне, как самому младшему, - армянина с будущим. Прошло время. Андрей Георгиевич - признанный живой классик, Даура нет, я живу в Сухуме, зачем, уже не знаю.
Рукопись этой книги долго пролежала у меня в столе. Ее принес сын Даура - Нар в надежде, что удастся хоть что-нибудь издать. Ведь после войны Даур ни разу в Абхазии не переиздавался. Что-то из неопубликованного было у меня. Кое-что передал друг Даура - Темур Кучуберия, что-то еще - общенародный историк Руслан Гуажба. В итоге получилось, что очень многое, написанное Дауром, просто мало кому известно, а то и неизвестно вовсе. Но все время то ли не хватало сил, то ли смелости, а, скорее всего, возможностей, чтобы хоть что-нибудь напечатать. Просто, иногда, когда становилось особенно тяжело, я обращался к рукописям в надежде получить хоть какие-нибудь ответы на вызовы времени, механически вычитывал их, иногда выстраивал в своей логике и периодически намекал тем, от кого это зависит, что имею доступ к кладу, которым готов поделиться, только помогите, поддержите. Время проходило в безответном молчании. Слава Богу, штурвал взял в свои руки Владимир Зантариа, поэт и писатель, друг и родственник Даура, которому, в конце концов, героически удалось раздобыть необходимую для издания сумму. Более того, он, со свойственным ему фундаментальным подходом ко всему, азартно вынудил всех, кто любит Даура и имеет отношение к этому изданию, поработать и представить в срок необходимые воспоминания и фотографии. С не меньшим хотением, вкусом и необычностью его младшая дочь старшеклассница Амина сочинила обложку и вот перед вами книга, куда вошла лишь малая частица души Даура. Уверен, это только начало. Спасибо всем, кто стал рядом.
* * *
Мы - люди растерянного поколения. Растерянность свободой - общая для всех нас. Дезориентация играет с чувством дурные и веселые шутки. Даур был бопьшим мастаком мгновенной правды. Это та правда, которая усилиями автора должна оставаться с нами и остается.
При жизни Даур, несмотря на противоречивость своего характера, мгновенно объединяй людей. Многие дружат и по сей день. Цементирующая основа - Даур. Он и сегодня, в этом сборнике, вновь соединяет многих и заставляет вновь задуматься. Хотя бы немного подумать о непростых судьбах этой необъятной маленькой страны под названием Абхазия.
Нар Зантария
Просто «Банзай»....
Даур Зантария был мне отцом, но я помню его и как личность, и сейчас, наверное, отношусь к нему более объективно, чем при его жизни, если можно так выразиться. Говорят, что «каждая лягушка свое болото хвалит».
Многие произведения его я перечитывал несколько раз, но, честно говоря, не могу назвать Даура объективно моим любимым писателем. Таковым для меня является, например, Милорад Павич, и я как-то говорил, что удивлюсь, если что-то еще способно меня «зацепить» после его «Хазарского словаря». Тем не менее, я считаю Даура не только уникальным, но и большим писателем, и я далеко не первый, кто так сказал. Верю, что время еще отдаст ему должное. Он был писателем как-то постоянно и непредсказуемо. Для него был важен не только результат, но и процесс. Он мог написать стих на оборотной стороне фольги от пачки сигарет, или карандашом на салфетке. Часто это происходило как-то полушутя, «на подхвате». Он мог сходу придумать какую-то историю, совершенно сказочную, но при этом такую живую, что люди, шутя вместе с ним, начинали ему верить, а то и сами становились героями. Вообще, все это трудно передать в обобщенной форме, а начнешь вспоминать какие-то отдельные сцены, так голова идет кругом...
* * *
Когда я был еще ребенком, отец начал иногда водить меня на свои «тусовки». Можно сказать, я знаю почти всех его друзей «с детства». Как-то мы общались с одной дамой, биологом по образованию. Я тоже биолог, в отличие от отца, но я сидел молча и слушал вместе с ней. Он как-то вспомнил фильм о жизненном цикле двоякодышащих рыб, которые обитают в пересыхающих озерах Африки. Когда начинается засуха, они сначала начинают дышать воздухом, а затем зарываются в ил и впадают в анабиоз. Озеро пересыхает, превращаясь в пустыню, а рыба сворачивается в клубок, выделяя слизь, и сама почти полностью пересыхает, превращаясь в бесформенный вяленый кусок мяса. Затем при наступлении сезона дождей ее тело набухает и перестраивается в кратчайшие сроки, «возвращаясь к жизни». По этому поводу мой отец придумал следующую историю. Оказывается, ученые исследовали организм двоякодышащих рыб, и выделили гормон, который повышает обмен веществ и устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, и адаптировали его формулу к организму человека. После многочисленных экспериментов удалось выработать методику, с помощью которой можно из грудного младенца с невыдающимися данными лет за пять вырастить 25-летнего атлетически сложенного юношу, а при наличии хорошего питания и спортивной подготовки - настоящего титана. В качестве заключительного практического итога всевозможных пертурбаций этого научного исследования был открыт сверхсекретный (для кого угодно, кроме советской контрразведки, конечно) лагерь где-то в джунглях Кот-Д-Ивуара, где в кратчайшие сроки готовят полчища универсальных солдатов. Если такому солдату скажешь «убей свою мать», он схватит свой М-16, и с криком «банзай» будет стрелять в пересохший ил по двоякодышащим рыбам. Наша собеседница почти поверила. Она не могла не поверить.
Отец говорил своим друзьям, «что за непутевый сын у меня, - не курит, не пьет!». А мы с моим другом Апсиком Канджария пили по очереди чай с D- и L-глюкозой (второй не существует в природе), пробовали на вкус ДНК куриного эмбриона из разграбленной лаборатории местного университета и знакомились с пейзажами послевоенного Сухума. Я был помешан на химии взрывчатых веществ (ну что с меня возьмешь). Папа говорил мне: «Саска, изобрети что-нибудь полезное для человечества, не трать себя попусту».
Нередко он рассказывал мне о своих похождениях в молодости. Как-то раз он сделал мне замечание: «Я уже Таню Друбич разлюбил, а ты до сих пор не разлюбишь «Ein Zwei Polizei». Б 96-ом мы с отцом переехали в Москву, я поступил на биофак МГУ. Писатель Петр Алешковский, папин друг, предложил мне экскурсию. Я сказал - «хочу в Таврический сад, про который рассказ у Хармса». Петя рассмеялся в ответ, - Таврический в Питере. Однажды я встретил на факультете парня, который внешне - вылитый я, с одним только отличием, - у него были вьющиеся русые волосы. Дома я в шутку сказал папе: «я встретил своего двойника, он учится на медицинском и мой ровесник. Ты бывал в Москве в те годы и, наверное, не с одной Таней Друбич встречался. Не твоя ли это работа?». Он ответил с досадой: «что же это, все мои дети должны или на биофак, или на медицинский поступать!?»
Даур Зантария был писателем, но и сама жизнь его была произведением искусства. Он умел соединить противоположное - реальное с нереальным, юмор - с эпическим трагизмом. Чувство юмора он не терял по отношению почти ко всему, даже к своей родине. Как-то он сказал за одним столом: «Абхазия - это от Гудауты до Баклановки». Те, кто знают нашу географию - поймут (это все равно, что Россия - от Москвы до северного Бутово). Даур бывал в разных местах и виделся с самыми разными людьми. Например, он рассказывал об одной экспедиции в наших горах, в которой он участвовал. Он говорил, что они были на лошадях в разных местах, виделись с абазинами и карачаевцами, которые компактно
проживают на территориях, прилегающих к Ставропольскому краю. О карачаевцах он высказался следующим образом: «они очень любят лошадей в самом прямом смысле, то есть, на вкус - они их едят». Среди абазин он познакомился с очень интересным человеком. Это был русский по происхождению, сын казака, которого с младенчества усыновили и воспитывали абазины. У парня не было ни фамилии, ни имени, но известно было, его отцом был некий Павел. Так и назвали его - Палыч. Это было ему и имя, и отчество, и фамилия. Разумеется, никаких документов у него не было, да и зачем они в горах в практически полной изоляции от окружающего мира... Русскому языку его тоже научили абазины (кроме них никого-то он и не видел), поэтому он говорил очень своеобразно, без всяких родов, падежей и склонений. Он был гостеприимным и говорил: «ешьте мой ветчина». Об окружающем мире, и особенно, о географии, у него были самые фантастические представления. Он говорил, что абазины - крайне многочисленный народ, а русские среди них - что капля в море. Последние спасаются лишь хитростью и изворотливостью и умудряются на протяжении веков сохранить свой быт среди «абазинского» ига. Все это он тоже рассказывал без родов и падежей, на своем единственном в своем роде диалекте русского языка.
Я хочу, чтобы Даур остался для нас таким же необыкновенным и вместе с тем простым, каким он был при жизни. Таким я его помню сейчас.
Владимир Зантариа
«Без лицемерия мысли...» (Штрихи к портрету Даура Зантария)
Чувство юмора было для него единственной возможностью свободно взаимодействовать с нашим, прямо скажем, абсурдным миром…
Марина Москвина
Написать о Дауре Зантарии мне хотелось давно… Где-то в глубине души давно зрело некое подспудное желание изложить свободно, просто и без прикрас те малоизвестные эпизоды и биографические детали, которые, при кажущейся второстепенности, могли бы несколько расширить и обогатить представление о нем как о незаурядной личности и блестящем мастере слова.
Москва. Гостиница “Университетская”
…С тех пор, как Даура не стало, он мне снился не раз. По его беспокойному взгляду, глубоким морщинам, выдававшим сильную усталость, я догадывался, что он хотел досказать мне то, о чем не успел сказать во время нашего последнего задушевного разговора в скромной московской гостинице “Университетская”. Здесь я остановился вместе с тележурналистами Амираном Гамгия и Ибрагимом Чкадуа, приехавшими со мной снимать телефильм о праздновании семидесятилетнего юбилея Фазиля Искандера в Вахтанговском театре.
Даур пришел ко мне с гостинцами. Мы поставили между собой низкий столик и сели, чтобы спокойно побеседовать, попивая чего-нибудь. Он достал из пакета закуску и большую бутылку водки. Я добавил к нашему скромному меню ароматную абхазскую аджику (рецепт изготовления которой Даур описал с неподражаемой изысканностью в главе “О любознательности” романа “Золотое колесо”), несколько ярко-оранжевых сухумских апельсинов, орехи и две бутылки абхазского вина “Лыхны”. Затем откупорил одну бутылку и налил, но прежде, чем произнести тост в честь нашей встречи, я решил выполнить просьбу одного из близких друзей Даура — истинного абхазского воина Тимура Надарая, занявшегося после войны бизнесом.
— Тимур передал тебе скромный подарок, — сказал я, стараясь скрыть невольную улыбку, и достал из своей синей спортивной сумки бутылку недавно выпущенной сухумской водки “Корона Леона” с красивой зеленой этикеткой. На ней был изображен великий Абхазский князь (тот самый архонт Леон, который, как пишет Даур, “толковал народу Святую веру, нередко пользуясь мечом как указкой”).
— Извини, брат, но Тимур передал тебе только одну бутылку, сказав, что ты поймешь, что это означает… — произнес я, чувствуя по слегка смущенной улыбке Даура, что он уловил шутливый намек своего друга (кстати, по нашему горскому этикету вообще не принято дарить водку кому-либо.)
После недолгой паузы Даур спокойно отреагировал на шутку Тимура безобидным полуироническим тоном.
— Неужели он совсем обнищал, бедолага? — сказал Даур, аккуратно поглаживая свою бороду.
Мы смаковали красное вино. Даур, понемногу отходя, неторопливо, с хрипотцой в голосе, рассказывал мне о своих делах и планах. Чувствовалось, что московская нужда сильно угнетала его, хотя, как об этом пишет Марина Москвина, “он и декларировал, что ему не нужны большие деньги. А только, чтобы хватало на кофе и на цветок женщине”. В то время он уже печатался в элитных российских журналах.
Вскоре о нем заговорили известные критики и журналисты, нередко пытаясь сравнивать его своеобразные и весьма оригинальные стилевые приемы с латиноамериканской полифонической прозой.
...В тот день мы с Дауром много говорили не только о литературе. Вспоминали наших односельчан и родственников. Чувствовалось, что Даур скучает по родному Тамышу. В стихах, вошедших в “Кремневый скол”, ностальгические мотивы переходили в фаталистические:
Я возле кладбища живу. Тела ушли — остались лица.
Порою даже наяву они мне продолжают сниться.
Родные, вы ушли туда, где нету глаз, а только взгляды,
И я надеюсь, что, когда приду к вам, будете мне рады…
Красиво и мудро сказала Татьяна Бек о личности Даура Зантариа и неповторимых свойствах его писательской индивидуальности: “Читая созданные этим замечательным — грустным, лукавым и певучим — экзистенциальным лириком с острейшим чувством рубежа эпох притчи, столбенеешь перед чудом интонации (то ли светлое отчаяние, то ли восторженный ужас — в любом случае: честная полнота отдельного бытия) и еще изумляешься предвидению говорящего. Он, получается, знал, что уйдет очень скоро. Он, стремительно прибавляя шаг, спешил к уже ушедшим”.
О том, как мы с Дауром хоронили прототипа его персонажа
Не могу не коснуться одной забавной истории, связанной с личными взаимоотношениями писателя с некоторыми прототипами его персонажей, чьи комичные черты оказывались иногда слишком узнаваемыми в ранних повестях и рассказах, написанных на абхазском языке.
Местными пустословами были слишком преувеличены слухи о том, что Даур якобы изобразил одну ничем не отличающуюся от остальных старушку в неприглядном свете. По литературной версии, это была вполне нормальная притча о том, как одна бабулька, покуривая, спокойно взирала на то, что ее взбалмошного внука родители привязывают к дереву за непослушание. Этот эпизод стал серьезным поводом для выяснения отношений родственников старушки с писателем. Со временем поджигатели угомонились, а безобидная бабка, и вовсе не подозревавшая, что вокруг ее “персоны” разгорались страсти, приказала долго жить.
Я приехал из Сухума в деревню и решил зайти к Дауру, чтобы посочувствовать ему как автору и пойти с ним оплакать покойницу. Даур был растроган моим благородным жестом и пригласил меня к столу. Мы с ним пили очень крепкую виноградную чачу, закусывая кусочками сушеного инжира и аджинджухой. Тут нужно отметить, что мы несколько увлеклись. Время выноса безвременно усопшей покойницы приближалось. Надо было успеть хотя бы к прощанию. Но Даур уверял меня, что мы успеем. Провозгласив последний тост предварительной тризны за то, чтобы было меньше горя и больше радости, веселья, свадеб, мы вышли из дома и торопливым шагом направились к воротам. Пройдя полверсты по проселочной дороге, заметили, что покойница уже в пути. Мы растерялись. В такой ситуации чувствуешь особую неловкость, так как оказываешься в центре всеобщего внимания многочисленных родственников в самый неподходящий момент. Но отступать было некуда. Волнуясь, мы приблизились к столетнему старцу Кансоу, который по ритуалу должен был идти впереди процессии с зажженной свечой. Он, будучи известным краснобаем и, между нами говоря, старым конокрадом, питал к Дауру “особую” симпатию, которую, скорее всего, можно было бы объяснить скрытой боязнью попасть на язык молодому тамышскому острослову. Увидев нас, опоздавших, старик велел людям опустить гроб и, обратившись к покойнице, растроганным голосом произнес:
— Дорогая Цикурина! К тебе пришли Даур и Ачи! (Это мое детское прозвище.)
Под пристальным взглядом толпы и эмоциональным воздействием крепкой чачи мы расчувствовались и искренне расплакались. Тронутые нашими горькими слезами, многочисленные родственники громко разрыдались. Это вызвало у нас еще больший прилив чувств, и мы с Дауром разрыдались тоже, чуть ли не бия себя в грудь и по голове. Старшие, чувствуя, что мы можем не вписаться в пределы дозволенного ритуала, осторожно и бережно отвели нас в сторону. После недолгого затишья старец Кансоу. вновь обращаясь к покойнице, произнес дрожащим голосом:
— Баала щьта, Цикурина! — что приблизительно звучит как: “Теперь пойдем, Цикурина!”
Через несколько минут разразилась гроза и хлынул ливень. Толпа быстро редела под напором дождя. Когда подошли к могиле, остались только те, кто по ритуалу нес гроб, и почему-то мы с Дауром. Все промокли до ниточки. Мы помогали предать земле невинную жертву местных исторических интриг.
Стоявший рядом с Дауром сосед по имени Куамгяс, знакомый с “литературными происками” писателя, философски изрек:
— Даур, лыпсы антазгьы улылгахьан уи агуак, уажъгьы лыпсыжра уара иукшъеит, — что означало: “Ты еще при жизни ее похоронил, а сейчас отдаешь последние почести, таковы превратности судьбы!”
Может, кому-то покажется, что это притча о том, как трудно писать современные притчи? Нет, уверяю вас, это грустная и смешная история о том, как автору иногда приходится хоронить прототипов своих персонажей.
Философская беседа Андрея Битова с фронтовиком Шаруаном
“Казалось, после Фазиля Искандера в абхазо-русской прозе делать нечего. Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь…” Это — высокая оценка, данная Андреем Битовым самобытному дарованию Даура Зантариа.
Оценка, которая не вызывает ни тени сомнения. Известно, что Даур до конца своей жизни поддерживал дружеские отношения с современным классиком, который выступил в защиту Абхазии в трудные для нее августовские дни 1992 года.
Еще задолго до этих событий Андрей Битов находился в доме отца Даура — мудрого абхазского старца Бадза Зантариа и работал над своей повестью “Человек в пейзаже”.
В свободное от работы время он успевал пообщаться с тамышскими крестьянами, со свойственной ему интеллигентностью и корректностью отвечая на их бесхитростные вопросы.
Однажды я попросил Даура пригласить ко мне в гости Андрея.
В сумерки в новой апацхе, построенной моим дядей Самсоном, мы сидели у очага. Едва уловимое потрескивание сухих грабовых поленьев навевало труднообъяснимую внутреннюю умиротворенность.
После одной-двух рюмок все той же виноградной чачи, которая, по меткому выражению Фазиля Искандера, “птичке голову сечет”, завязалась непринужденная беседа. Сначала Андрей делился своими впечатлениями о нашем селе. Затем вполне естественно разговор перешел в плоскость философских размышлений.
Вдруг, совершенно неожиданно, сидевший напротив Андрея наш сосед, прославленный фронтовик по имени Шаруан, которого односельчане уважали за принципиальность и справедливость, уводя нас от отвлеченной темы, несколько раздраженно задал прямой вопрос писателю из Москвы:
— Я не понимаю, о чем вы философствуете. Вы мне ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос: почему секретарь обкома, проезжая через наше село по нескольку раз в день, не замечает, как бродячие лошади гуляют по цветочному питомнику?
Этот вопрос несколько смутил хозяев застолья, особенно моего дядю Самсона, который переживал, как бы мы своей неосторожностью не обидели ненароком гостя. Но Андрею, как мне показалось, польстила наивная откровенность нашего соседа. Потом он очень тонко, тактично и доверительно старался дать философское объяснение подобным “лошадиным историям”.
Однако чуть позже, улучив момент, старый фронтовик на абхазском языке дал нам понять, что он не совсем доволен ответом.
Еще раз о доброте и отзывчивости Даура и связанных с ним забавных историях
Было это в конце 1994 года, в Сухуме. Я возвращался домой, сильно огорченный тем, что врач-эндокринолог городской больницы, обследовав мою заметно воспалившуюся щитовидную железу, посоветовала срочно ехать в Москву. Судя по тому, что врач не выписала мне никаких лекарств и настаивала на хирургическом вмешательстве, я внушил себе, что она скрывает от меня что-то плохое, не поддающееся лечению. Невроз, заработанный еще во время службы в иркутском стройбате, способствовал усилению моих подозрений. Доведя себя почти до стрессового состояния, я шел, чуть торопясь и думая, с кем бы еще посоветоваться. И вдруг, нежданно-негаданно, около помещения Сухумской электростанции, что на перекрестке улиц Ленина и Кирова, я встретил Даура. Широко улыбаясь, он протянул мне руку, но мгновенно уловил по моему печальному взгляду, что я чем-то сильно огорчен… И как бы я ни пытался скрыть свое плохое настроение, Даур никак не мог успокоиться, пока я не сказал ему о том, что на самом деле так встревожило меня. Заметно волнуясь, сказал ему, что я только что был в больнице и меня сильно беспокоит мысль о возможном плохом диагнозе, о котором мне не говорят. Я почувствовал по взгляду Даура, что он удивлен моим взбудораженным состоянием.
Он попытался убедить меня в том, что врач умышленно нагнетает страх, ибо знает, что иначе я никуда не поеду и запущу болезнь. Затем, спокойно беседуя со мной на какие-то отвлеченные темы, он дошел со мной, насколько помню, до Ботанического сада и пожелал мне удачи и скорейшего выздоровления. На всякий случай Даур записал мне номера телефонов знакомых московских врачей. Перед тем как попрощаться, я от всей души попросил его после обеда заглянуть ко мне домой на часок.
— А у тети Тины осталось что-нибудь из припрятанного на черный день? — спросил Даур, по привычке поглаживая аккуратно остриженную бороду, зная, что моя мать варила отличную фруктовую водку.
— Для тебя, я думаю, у нее всегда что-нибудь найдется, — сказал я, незаметно отходя от взвинченного состояния.
Придя домой, я стал искать в своей записной книжке адреса и телефоны московских родственников и друзей. Я чувствовал, что мое грустное настроение передается и домашним…
Приблизительно к двум часам пополудни Даур пришел ко мне вместе с поэтом Константином Герхелия, с которым я несколько лет подряд работал в студии Абхазского радио.
После того, как мы пропустили по афырджану (имеется в виду незаменимая пятидесятиграммовая абхазская рюмочка), стараясь приободрить меня, мои милые гости стали попеременно рассказывать какие-то деревенские небылицы. Затем вернувшись к излюбленному жанру (а Костя Герхелия мог перещеголять любого в копировании манер речи), мы после каждого произнесенного тоста начинали поочередно изображать своих живых абхазских классиков. Примечательно, что один из той когорты чаще остальных попадал нам на язык (видимо, в силу каких-то особых свойств его творческой натуры).
Костя рассказал нам трагикомическую историю о том, как однажды тот самый одиозный автор решил проучить его за заносчивость и бесконечные передразнивания. Классик посадил “подражателя” в свой старый “ЗИМ” и увез куда-то в сторону Кодорского ущелья. Затем, подводя под дуло двустволки невинную жертву собственного природного дарования, классик задал прямой и недвусмысленный вопрос:
— Это правда, что ты высмеиваешь меня?
— Упаси Боже! Разве я могу позволить себе такое?.. — прикинулся агнцем подражатель, прижатый двустволкой к подножию отвесной скалы. — Я просто импровизирую…
Но “подражатель” чувствовал по суровому взгляду классика, что это не спасет его от неминуемой смерти.
— Проще выражаясь, я от всей души стараюсь популяризировать Вас! — добавил дрожащим голосом доведенный до обморочного состояния талантливый острослов. То ли поверив в его искренность, то ли посчитав, что для острастки этих воспитательных мер пока вполне достаточно, классик убрал свою старую двустволку и велел садиться в машину. В городе, отпуская на волю и как бы стараясь урезонить зарвавшегося, “воспитатель” многозначительно произнес:
— Сразу видно, что ты не учился в Литературном институте. Путаешь совершенно разные понятия. Мой добрый совет тебе: не надо ни импровизировать, ни популяризировать!..
Даур и Костя, прощаясь со мной, подняли еще по одному афырджану. Мне показалось, что смех окончательно развеял мои сомнения и подозрения по поводу плохого диагноза.
Оригинальные наставления Даура, или о ритуале приглашения молодого зятя в дом тестя
Однажды, услышав о том, что молодого сухумского художника Астамура Хандеи-ипа впервые после женитьбы приглашают, как бы неофициально, к тестю, Даур на полном серьезе рассказал ему о том, как его будут принимать в доме новых родственников в селе Агапста и какие почести ему будут оказаны.
— Тебя, мой милый друг, там будут принимать точно так же, как твоего свояка, моего родственника Арсоу! А об этом приеме знает весь честной народ! — сказал Даур, стараясь заинтриговать молодого, еще неопытного зятя.
А когда, мучимый любопытством, добродушный и наивный от природы художник попытался узнать, в чем все-таки особенность приема, оказанного его свояку (работавшему, кстати, корреспондентом популярной сухумской газеты “Маяк”), Даур решил усилить интригу некоторыми подробностями.
— Твоего свояка, моего однофамильца Арсоу приглашали к тестю прошлой зимой. Шел снег. Было очень холодно. После традиционного торжественного застолья, когда ушли все гости, боясь, как бы зять не простудился, теща предложила ему попарить ноги. Для этой процедуры ему специально отвели место у окна, откуда хорошо просматривались невысокие фруктовые деревья, заваленные снегом, — рассказывал Даур, стараясь не упустить особо важных деталей этого занимательного сюжета.
— Аккуратно выполняя все предписания тещи, опустив ноги в горячую воду, Арсоу спокойно сидел у окна и наслаждался прекрасным зимним пейзажем. Но, глядя во двор, он вдруг заметил, что его тесть (известный педагог и заядлый охотник!) как-то неожиданно подкрался к какому-то низкорослому растению и не спеша подвесил к нему отломленную еще осенью ветку с сочными плодами хурмы. Почти в это же время неутомимая теща правой рукой подала своему зятю заряженную двустволку, показывая указательным пальцем левой руки щель между ставнями... — уверенно развивал тему Даур, стараясь сохранить по возможности и подлинность описываемого события, и его колорит, разумеется, моментами дополняя рассказ некоторыми отсебятинами.
— Не растерявшись, Арсоу протолкнул ствол ружья в щель и прицелился в черного дрозда, поклевывавшего своим желтым клювом засахарившуюся где-то в старой деревянной пристройке красно-оранжевую хурму. Раздался выстрел... Птица сорвалась с ветки, словно черный узелок. Через несколько минут на ветку с хурмой сел еще один дрозд, и Арсоу выстрелил еще более уверенно, ни на секунду не прерывая при этом процедуры лечения от возможной простуды...
Сухумского художника, конечно, прельщала вся эта история, тем более что ему предстояло в ближайшие дни непосредственно соприкоснуться с чем-то наподобие того, что испытал его бывалый свояк — известный в республике журналист. Единственное, что смущало художника Астамура, — излишняя, как ему показалось, гиперболизированность некоторых обстоятельств, описанных Дауром.
— Пока зять перезаряжал двустволку, тесть, окрыленный его успехами, собирал подстреленных дроздов и быстренько относил их на кухню. Теща, несмотря на солидный возраст, буквально порхала. В мгновение ока успевала она поджарить вкуснейшую дичь и преподнести ее со стаканом подогретого черного вина неопытному и застенчивому молодому зятю. В это время тесть молча доливал горячую воду в медный тазик, чтобы новый родственник спокойно завершил лечебную процедуру...
Несколько дней молодой сухумский художник провел в волнительном ожидании предстоящего приема. Но, увы, прием прошел без всяких лишних движений. Тесть и теща строго блюли требования этикета. Вместо жареной дичи со специями и острой приправой зятю предложили курицу табака... Кремневое ружье висело на стене, как художественная ценность и символ чести и достоинства некогда воинственного рода.
Не понадобился и медный тазик с горячей водой, потому что погода была относительно теплая...
Сначала Астамур Хандеи-ипа недоумевал, не зная, чем объяснить излишнюю протокольность приема в доме тестя, где год назад кипели застольные страсти. Но позже люди, сведущие в этих непростых вопросах, объяснили молодому и неискушенному зятю, что, как правило, с особыми почестями встречают только первого зятя, а остальных — в обычном режиме.
А еще позже наивный и простодушный сухумский авангардист Астамур понял, что в Абхазии традиционно к корреспондентам относятся чуть более уважительно, чем к художникам.
Но о главной причине своей относительной неудачи при поездке к тестю (повергшей его поначалу даже в некоторое отчаяние) Астамур узнал непосредственно от самого Даура. Оказывается, про историю с экстравагантным приемом первого зятя в знаменитом предгорном селе Агапста писатель услышал случайно от кого-то из друзей за чашкой кофе. Материал показался ему слишком сырым, и для интриги он решил окутать эту байку некоторой таинственностью.
То есть по сути это была литературная обработка Даура Зантариа.
Кстати, прототипы рассказа, по большому счету имеющего вполне реалистическую первооснову, и сейчас успешно и плодотворно работают каждый на своем поприще.
Вместо эпилога
Плохо, когда варишься в своем соку и привыкаешь к вещам обыденным, заурядным и не замечаешь окружающей тебя красоты. С этого, к сожалению, начинается прозябание. Даур был одним из тех современных вольнодумцев, кто умел, возвысившись над обывательщиной, смотреть на вещи проницательным взглядом. Этой своей незаурядной способностью он спасал и продолжает спасать нас. Гарсия Маркес, с которым иногда сравнивают Даура, считал лучшим романистом того, кто “сумеет вывернуть действительность наизнанку и показать ее обратную сторону”. Даур был одним из таких мастеров. Он показал нам современную действительность в самых неожиданных ракурсах, смело нарушив пространственно-временные границы художественного повествования.
Противопоставив клишированности и стереотипичности старого литературного мышления новые повествовательные возможности, Даур Зантариа бросил вызов ретроградности. Когда-то Марсель Пруст, произведениями которого в студенческие годы сильно увлекался Даур, в статье “О вкусе” выразил гениальную мысль: “Если тело поэта для нас прозрачно, если зрима его душа, то читается она не в глазах и не в событиях его жизни, но в книгах, где отделилась, чтобы пережить его бренное бытие, именно та часть души, которая стремилась себя увековечить, побуждаемая инстинктивным желанием”. Я думаю, что эти слова вполне применимы к личности и творчеству Даура Зантариа. Завершить свой не совсем традиционный очерк о дорогом человеке мне хочется стихами замечательной Татьяны Бек:
Ежели в одной натуре
Дар и дурь не расколоть, —
Это значит: о Дауре
Позаботился Господь.
Господи, и я не сдуру
Так обращена к Дауру!
Переулком ли бреду ли,
Маюсь ли без доброты,
О Дауре, о Дауре
Думаю... Даур, а ты?
Смотрит на меня, как дуло,
Смуглое лицо Даура.
Ада иды, ада бури,
Ада снежная вода...
О Дауре, о Дауре,
О Дауре — навсегда.
Сухум, 2006 г.
"... И СВОЮ НЕУДАЧУ, КАК ГОРДУЮ САГУ, ПИСАЛ..."
Татьяна Бек
РАЗМЫШЛЯЯ О ДАУРЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ...
Алексей Гогуа
Даур Зантария - он бывал застенчивым и дерзким, смешливым и грустным, ироничным и задумчивым, общительным и замкнутым, счастливым и несчастным, и все это было в нем освещено талантом.
Главной чертой его характера, а затем и творчества была самостоятельность. Это давало ему свободу выбора. И он выбрал поиск. Поиск - это невидимые миру муки. Все прекрасное и значительное рождалось в муках. Он чувствовал, что идеальным объектом поисков того, что он искал, есть жизнь его народа, где всегда соседствовали, сосуществовали, взаимопроникали элементы древних воззрений и самой современной реальности и создавали особый состав долговечности. Изучив, проанализировав ее тщательно, создал на ее основе синтетическую фактуру новейшей прозы, в которой сливаются, гармонируют миф, эпос и документальность достоверности, современность.
И он стал заметным персонажем новшеств в словесно-литературных исканиях начала века. И широкое признание его заслуг еще впереди.
Андрей Битов
Гений - это на грош таланта, сказал один признанный гений. Соотношение «талант - гений» не изучено, а потому субъективно и темно. Так или иначе, подчинение своей жизни назначению всегда связано с жертвой. А то и с гибелью. Как там справился Пушкин или не справился Гоголь - не нам судить.
Даур Зантария был слишком талантлив. Двадцать лет назад он показал мне свою первую крупную вещь « Енджи-Ханум,обойденная счастьем».Она была не только талантлива, но и гениальна, настолько в ней выражен новый жанр, новый писатель - органичный сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи. Казалось, после Фазиля Искандера в абхазо-русской прозе делать нечего. Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь.
К сожалению, в этом ключе, требовавшем цикла, он ограничился лишь «Якубом». В остальных текстах виден уже только талант, но виден по-прежнему в каждой букве.
Продлить цикл он не успел. Потеря. Не говоря уже об утрате друга и блестящего собеседника.
Мушьни Лашәриа
Уажәшьҭа исгәалашәом Даур Занҭариа раԥхьа данызбаз, ҳанеибадырыз амш.Аха исхашҭуам, 1976 шықәсазы, Тамшь ақыҭан, ҳасас-дахь, аҵарауаҩ ду В.Кожинов, иара убас Ал.Гогуа, В.Аҵнариа, Гь.Амҷба, О.Дамениа назлаз ҳашәҟәыҩҩцәа, ҳҵарауаа гәыԥҩык Владимир Занҭариа иҩныҟа ҳамҩахыҵраан - иаргьы дшыҟаз. Даур ихаҭа алаф, ажәа-ҵары бзиа ибон азы, иҩызцәа лассы-лассы алаф илырхуан, дҵәылырхуан. Иаргьы абарҭқәа раан зхәы ҭазыжьуаз дреиуамызт, ихшыҩ-ҵар аҳамҭақәа рхьигӡон. Зыӡбахә сымоу амш аҽны уи Лажә Занҭариа ихьчара иқәшәеит (қыҭацыцхьаӡа ирҳәо: «абри ажәлантә абри дреиӷьуп, абри дзеиӷьу уагоу дибааит...»). Дагьаҵамхеит!..
Шәҟәыҩҩык иаҳасабала уи ихәыдамыз аӡә иакәны уаҩ иблаҿ дааиуа далагеит «Хылҵысаа раҳ», «Чу Иақәыԥ иуахҭа», убас еиуеицшым иажәабжьқәа, иповестқәа цәырҵуа ианалага инаркны. Уи есымза, хыма-ԥсыма ажәабжьқәеи аповестқәеи ацызҵоз дреиуамызт, ииҩуаз акыр ихы-игәы ирыҵигон, дагьрыдхалон. Урҭ рҿы уи дубоит исахьаркны ахәыцшьа, аҭоурых аамҭақәа ргәылалара, реиҭарҿыхара, баҩхатәрала рыԥсаҭаҵара зылшо аӡә иакәны. Алитературатә ныррақәа рхыԥша шидубалозгьы, иман, хадарала уахәаԥшуазар, ихатә дунеибашьа, ихатә хәыцшьа. Аԥхьаҩ ибла ихгылон автор акыр аџьабаа здибалоз ихатә цәаӷәасҭа.
Абарҭқәа ҳасаб рзуны ауп Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла санахагылаз, иаргьы, Вл. Занҭариагьы, убас аԥсуа рҿиаратә ҿар иреиуаз егьырҭгьы, СССР ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ралаҵара ҷыдала сзацхраауаз. СССР ашәҟәыҩҩцәа реидгыла амаӡаныҟәгаицәа реилатәараҿ, зны, ари азҵаара ахәаԥшраан ауадаҩрақәа цәырҵит, еиҳарак Д.Занҭариеи Вл. Занҭариеи рыӡбахәала (еиқәлацәан, ускан 27-27 шықәса ирҭагылан). Урҭ ирықәлоу, иаҳҳәап, урыс прозаик шамахамзар дҳадҳамкылац ҳәа ацәажәарақәа ҟалеит. Ирзыӡырҩит сара саргументқәагьы. Егьырҭ иҩызцәа реиԥш, Даур Занҭариагьы даԥсаны дрыдыркылт. Хаҭала сара сзын ҩашьара ақәмызт уи арҿиаратә ԥеицш ҟаимаҭ шимаз. Иагьиоуит СССР ашәҟәыҩҩцәа реидгыла дшалоу зырҵабыргуа абилеҭ.
Ақырҭуа-аԥсуа еибашьраан ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәа шьардаҩы рпаспортқәа, еиуеиԥшым рдокументқәа уҳәа аибашьра ишалаӡыз еиԥш, Д.Занҭариа абри ибилеҭгьы иҩны- игәара аныбылуаз иалаблит.
Араҟа иугәалашәар ауеит аемиграциахь иагаз аурыс поет Г.Иванов ицәаҳәақәа:
«Паспорт мои сгорел когда-то в буреломе русских бед...» Ас рҳәар рылшон аԥсуа шәҟәыҩҩцәа шьардаҩыгьы. Аха урҭ аибашьра ирцәалаӡыз рдокументқәа рымацара ауракәхыз!
Ақырҭуа-ацсуа еибашьра раԥхьатәи амзақәа раан Даури сареи ҳаиқәшәеит Москва, анкьа СССР ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахьыҟаз ахыбра ашҭаҿ. Дашьҭан амца иалаблыз ибилеҭ ацынхәра аиура. Сара уи дысԥылеит абилеҭ имоукәа дхынҳәны данцоз аамҭазы.
Иҟалаз уи ауп, ари ахыбрагьы, иара СССР ашәҟәыҩҩцәа реидгыла иалазгьы наҟ-ааҟ еиҩшан, ахҟа рыбжьалахьан - ашәҟәыҩҩцәа-апатриотцәа, ашәҟәыҩҩцәа-адемократцәа ҳәа. Ԥасатәи абилеҭқәа рцәынха знапы иакыз аԥхьатәиқәа ракәын. Даур урҭ рышҟа дымнеикәа акәын дышцоз. Даархынҳәны, дзышьҭаз абилеҭ иоуртә иҟасцоит. Игәгьы акыр иаажьжьоит...
Уахьихәаԥшуаз Даур иауразоуроу гәырҩала дҭәын, Аԥсны иацраз амцабз иаргьы ицран. Сара стәала, убасҟантәи игәырҩқәа, игәаҭеирақәа ирыцын даҽа гәырҩакгьы. Ганкахьала ҩ-мцакы ирыбжьагылаз иҭагылазаашьа иман: аханатә дыззааигәаз, дызлаз, ицхраауаз еицырдыруаз ашәҟәыҩҩцәа-адемократцәа «Қырҭтәыла акзаара» иадгылан. Урҭ рахьтә аӡәы заҵәык, иара иҩыза гәакьа, аурыс Пен-клуб аиҳабы Андреи Битов иоуп ҳацхырааразы ламысла зҽызшәаз (акагьы алымҵит умҳәозар). Уи аныԥшуеит 22 октиабр 1992 шықәсазы «Независимаиа газета» ианиҵаз иқәгылара «Открытое письмо к Чабуа Амиреджиби, которое так и не стало коллективным». Уи автор ишиҩуа ала, ихаҭа аханатә дызлаз, дыззааигәаз, дзықәӷәыуаз рахьтә аӡәымзар аӡәы ари ашәҟәы инапы аҵаимҩит, мап ацәыркит, «Қырҭтәыла акзаара» иадгыланы.
А.Битов ишәҟәы зыхьӡала иҩу Чабуа Амираџьиби иакәзар, ԥшьҩыуаак иҷкәынцәа Аԥсны аԥсуаа ирабашьуан, руаӡә абрака дыршьит (Қырҭтәыла аиҳабыратә ҳамҭагьы ианашьахеит). Раб иакәзар, 1992-1994 шықәсқәа рзы Қырҭтәылатәи аибашьратә хеилак далан...
Даур Занҭариагьы, ҳәарада, иҭахын аурыс шәкәыҩҩы ду Л.Леонов иеицш, иара убас С.Михалков, И.Бондарев, В.Распутин, В.Белов, В.Кожинов, С.Куниаев уҳәа реиԥш, егьырҭ ашәҟәыҩҩцәа-адемократцәагьы Андреи Битов аргама, иаахтны ииҳәаз иацырӷызны, Аԥсны ахьчаразы, ҳажәлар реиқәырхаразы рыбжьы дыргар. Аха уаҳа умыԥсит. Ус акәымхеит. Даур арҭқәа, ҳәарада, ӷәӷәала ҩныҵҟала ихьаан, игәырҩа агәырҩа ацырҵон...
Иареи сареи ҳаизыҟазаашьа акәзар, уи акыр дсеиҵбын, иқәлацәа рҿы имаз азааигәара аҩыза ҳабжьамызт. Ибаҩхатәра, идоуҳа ҳарак, изанааҭтә зыҟаҵара ҳасаб рзуны, исылшоз, снапы ахьынаӡоз сицхраауан.
Убас, исгәалашәоит, ашәҟәыҩҩцәа реидгыла анапхгаҩык иаҳасабала акыр сазааԥсеит Аҟәа араион ҿыц ахь акәымкәа, уажә иара имузеи ахьаадыртуа ақалақь агәҭаны ауадақәа иҭара. Ари азҵаара «маанақәак аҭахын», усҟан уи саназмыжьуаз иахьагьы азәык-ҩыџьа ыҟоу џьысшьоит, избан акәзар, еилкаан, зегьы ақалақь аҩнуҵка ауадақәа раура шырҭахыз, арахь уи аҩыза алшара ыҟамызт...
Шәҟәыҩҩык иаҳасабала дшысзыҟаз акәзар, избон сышҟа иааирԥшуаз аҳаҭырқәҵара, аамысҭашәара, убас изыҩуаз шидикылоз. Ахәҭакахьала абри атәы рныԥшуа џьысшьоит ироман «Золотое колесо» ансиҭоз илаф, иирониа аҵарра рныԥшуа ианиҵазгьы. «Мушьни, ухаҵкы! Уажәеинраалақәа рыла сааӡоуп сара амааӡатәгьы! 8.12.98 ш., Москва. Даур Занҭариа».
Аоада исҳәахьоу иацысҵо: Д.Занҭариа Аԥсны анҭыҵ дырдыруа дҟазҵаз, убри алагьы ҳаҩнуҵҟа шәҟәыҩҩык иаҳасабала иаҳаҭыр шьҭызхыз ҩымҭоуп ибаҩхатәра аҵаулара, амҽхак зныԥшыз ироман «Золотое колесо». Абри аҩымҭа ажурнал «Знамиа» анылара аума, хаз шәҟәны Москва аҭыжьра аума дадгылт Ал.Анқәаб. Даур ишәҟәыҩҩратә лахьынҵаҿы ирацәоуп абри иаанагаз, иԥнаҟаз. Абри ашәҟәы ауп, ахәҭакахьала, имузеи аартра алыршахартә аҭагылазаашьа ҟазцаз, абӷа азҭаз... Уи аидеиа аԥшьызгазгьы ииашаны иҟарҵеит ҳәа азысыԥхьаӡоит, Д.Занҭариа иԥсҭазаареи ирҿиареи дызхылҵыз иуаажәлар радыԥхьалара хшыҩзышҭра азыуны.
Амала иазгәасҭарц сҭахуп Д.Занҭариа шәҟәыҩҩык иаҳасабала сахьишьҭоу, дахьысыԥшаауа раԥхьаӡа иргыланы иара аԥсышәала иациҵақәаз рҿы шакәу. Зынӡа ихазыуп Даур уатәи ибызшәа, ицәажәашьа, ибаҩхатәра ахаҿра.
Никәала Кәыҵниа
Даури сареи ҳанеибадырыз уи дыстудентын. Исгәалашәоит сышьҭахьшәа дтәан, ибжьы ныҵакшәа дцәажәон абри аҷкәын. Аизараҿ иқәгылоз ирҳәоз-ируаз иара ихатә комментариқәак ациҵон. Ииҳәоз ала, ашәҟәыҩҩцәа ахԥатәи реизара ду аҟны днанаган, азал аҟны, снаизхьацшыртә иҟаиҵеит. Ашьҭахь аизара ду анеилга, иареи сареи акыраамҭа ҳаицәажәон. Иаразнак еилыскааз убри ауп: абри аҷкәын, макьана сара цқьа исзымдыруаз, алитература бзианы идыруеит, хымԥада баҩхатәрак шимазгьы убра избеит. Аизараҿы ҳашәҟәыҩҩцәа иреиӷьыз ықәгылон, аха апроблема дара шазнеиуази, иара дшазнеиуази ахьеивнагақәоз рацәаны иҟан. Уи иаҳәон абра ҳазегь ҳазмадаз, ҳазлахәыз аԥсуа литературатә ԥсҭазаараҿ иаҳауаз анаҩсангьы, убри днахыҳәҳәаны, инахараны џьара дшынаскьахьаз.
Ажурнал «Алашара» аредақциаҿы аус анызуаз, иара иҳадигалаз, ҽак иаламҩашьоз ихәыцшьа, иавтортә манера зныԥшуаз иажәабжьқәа рыԥхьара, ркьыԥхьра - иаҳагьы дысзааигәанатәит. Настәи ҳаицәажәара иаҳа имарианы иҟан.
Даур Занҭариа уажәы дшаадыруа прозаик иаҳасабалоуп. Аха раԥхьа ииҩыз иажәеинраалақәа уажә иаҳагьы срызҿлымҳахо салагеит. Абарҭ ажәеинраалақәагьы ирҳәон ҿыц аҩра иалагаз ауаҩы, ишырҳәо еиԥш, еидара ӷәӷәак дшаҵаз атәы. Уи ибзиаӡаны идыруан адунеитә литература, апоезиа, апроза. Уаанӡа ҳара ҳҿы, иара аҿар рыҩныҵҟагьы, уи аҟара ихҭаҟны ирымамыз, иаҳҳәозар, Мандельштам, Цветаева, Хлебников, Гумилиов реиԥш иҟаз апоетцәа раԥҵамҭақәа рахьтә ҿырҳәала иидыруаз рацәан. Зны-зынла, данааудгылоз, «мшыбзиа!» ҳәа уаиҳәаанӡагьы, зынӡаск имырхьааӡакәа, куплетк аҿааирхар илшон.
Апроза атәы ҳҳәозаргьы, Марковраа реиԥш иҟаз, апремиа дуқәа зырҭахьаз ракәымкәа, урҭ днараҩсны, рацәак ицәыргамыз, аха абаҩхатәра ду змаз даҽа џьоукы рахь дшынаскьоз убартә иҟан.
Ашьҭахь, инеиҵыхыз иҭоурыхтә ҩымҭақәа анҳадигала, еилыскааит сара абри аҷкәын аԥсуаа ҳҭоурых дагәылалан, иԥыхьашәаз аматериал лыԥшаахқәа импыҵаманшәалаханы, баҩхатәрала ажәабжь ссирқәа раԥҵашьа дшақәшәоз.
Даур дықәрахьымӡаны дымҩаст. Уи ишьклаҳақәаз рацәахеит.Ахатә ԥсҭазаара иацыз ауадаҩрақәа... Аибашьра атәы уҳәар ҟалоит зегь раԥхьаӡа иргыланы. Абарҭқәа ракәымзар, уи ҳаԥхьаҟа иҵегь акыр зылшашаз, арҿиаратә перспектива ду змаз, адунеитә литературахь зымҩа ылызххьаз шәҟәыҩҩын.
Аҵыхәтәаны Даур ииҩыз ароман «Золотое колесо» злашьақәгылоу ановеллақәа реиԥшьышьагьы сазхәыцхьеит сара акыр. Алитературатә-естетикагә гьама ҳарак змоу ауаа абри аҩымҭа ианаԥхьалакь, хымԥада акы ахырҳәаартә, иазхьаԥшыртә, иархәыцыртә - абасала ҟазарыла реиҿыбаашьа дақәшәеит ашәҟәыҩҩы иаԥҵамҭа гәыцәс иамоу асиужетқәа. Иагьиашаны, игәарҭеит, иазхьаԥшит ари ароман еицырдыруа аурыс шәҟәыҩҩцәа, акритикцәа. Иаҵанакуа рацәоуп, иаҳҳәозар, Андреи Битов Даур Занҭариа ирҿиара иеиҭаз ахәшьара ҳаракы.
Даур ихаҭареи, ирҿиамҭақәа рымҽхаки ртәы сара иахьынӡазалшоз инеиҵыхны срылацәажәеит уи аҵыхәтәантәи имҩахь даныныскьаагоз аҽны иҟасҵаз сықәгылараҿы.
Сгәанала, Даур Занҭариа ирҿиара иеиԥш иҟоу ацәырҵра ҷыда иахӡыӡаатәуп, иеиқәырхатәуп. Уи аԥсуа доуҳатә культура зегьы азын шьардаӡа аҵанакуеит.
Екатерина Шакрыл
Это быпо во время грузино-абхазской войны, после неудачного мартовского наступления. Много ребят тогда погибло. Быпо холодно, дождливо, сыро. В Гудауте, на улице стояли бойцы, которые глубоко переживали гибель своих друзей.
Заметив, что они стоят такие печальные, к ним подошел мой Ахра. Он решил хоть как-то подбодрить их. Они говорят: «Да вот, помимо всего, что случилось и холодно и голодно, кушать хочется и некуда податься...»
Ахра тут же предлагает им: «Если вас устроят мамалыга, лобио и тепло очага, давайте поедем к маме в Лыхны. Ничего особенного, может быть, я не смогу предложить, но соление и мамалыга будут...»
Но, к счастью мне, как раз принесли, не то соседи, не то родственники, кружок копченого сыра, и я хранила для таких случаев... ко мне часто заезжали, приходили, воевавшие ребята.
Бойцы, конечно, обрадовались, согласились, их было человек восемь.
И в это время к ним, оказывается, подходит Даур Зантария. Вот, он видит, что они куда-то собираются, и спрашивает их:
- Вы куда, ребята?
Они ему говорят, куда.
- Это вы к Екатерине Платоновне...? - уточняет Даур.
... Он был моим студентом, очень любил меня, и я его очень любила. Мой предмет он, правда, - не очень, но по его способностям, таланту, я видела, что он - незаурядная личность. Я всегда говорила, что, если он даже не очень хорошо ответит, я буду ставить ему на балл выше.
- Да, мы к Екатерине Платоновне! - отвечают ребята.
Он говорит им:
- Ну, в таком случае, возьмите меня тоже с собой...
- Да, дело в том, что нас уже восемь человек... Хорошо, если все вместимся в легковую машину...
Он сам мне потом рассказывал, шутя: «Я им сказал, что буду пешком впереди бежать, лишь бы только взяли меня»...
Ну, в общем, все они в машине уместились и приехали к нам в Лыхны.
...Открывается дверь с парадной стороны, и смотрю: Даур влетает раньше всех и подскакивает к столу. Большой круглый стол стоял посреди комнаты (комната довольно широкая) и там какие-то у меня книги, записи... Он сначала поздоровался со мной... я, конечно, обрадовалась, увидев его...
Затем Даур подходит к столу и видит там свою книгу ...рядом с другими...
Он радостно схватил ее, выскочил навстречу друзьям и говорит:
- Вот, у Екатерины Платоновны на столе лежат книги, среди них Библия и рядом с ней - моя книга.
Я гостям мамалыги побольше сварила, фасоль у меня всегда была. Были соления прекрасные... полный кувшин... Печку хорошо натопили, долго сидели, поели, выпили немного, разговаривали и вот так провели время.
И Даур подарил тогда мне и надписал вот эту свою рукопись рассказа «О линиях жизни и печени».
Уже закончилась война. Мне не хотелось возвращаться в Сухум. Тут был такой разгром, такая разруха. Не было ни одного стекла в окнах. Мне неприятно было смотреть на все это. Ребята привезли меня сюда, я такая вся раздосадованная...
Смотрю, Даур тут у нас во дворе...
И только мы вошли во двор, и тут Даур стоит и говорит всем: «О, послушайте, я был во время войны в Лыхны, у Екатерины Платоновны, и что вы думаете? У нее на столе лежала Библия, а рядом с ней - моя книга...»
Даур - был моим студентом.
Вообще на курсе были талантливые ребята...
Когда у меня были лекции, я старалась всегда оставить время, чтобы послушать их новые стихи, рассказы, а потом обсудить их со студентами, которые давали свои советы.
Я видела, что Даур на редкость талантливый, способный, растущий и относилась к нему хорошо. И он это чувствовал, и был привязан ко мне. После занятий он часто провожал меня до профессорской...Мы беседовали...
Я считала, что не то главное, что он мой предмет учит, главное, чтоб он в своем деле преуспел. Такое у меня было к нему отношение.
А рукопись с его автографом я до сих пор храню. Вот, что там написано:
«Дорогой Екатерине Платоновне в дни войны с мечтой о мире, от ученика с благодарностью.
31.01.93 г., Даур.
Адгур Дзидзария
...Он всегда общение превращал во что-то еще. Я часто страдал от невозможности углубиться в разговор. Старик давал возможность углубиться на любой уровень. Возможность говорить на таком уровне - кайф.
Он только входил - и сходу что-то такое выдавал, что сразу меняло ход беседы и ход событий. Типа: все что у нас было, ребята, заканчивайте и начинаем снова. Он задевал такие струны, которые в обычной жизни не задействованы. И это чувствовали все.
Пришли мы на почту в Москве, мне надо платить за телефон. За стеклом сидит женщина со скучающим лицом. Скучно же на почте. А где-то в глубине - девушка. Старик зовет ее и говорит:
- Доченька! Сделай ему, как мне бы ты это сделала.
Старик ее первый раз видит.
Та женщина за стеклом уже улыбается, отвечает:
- Она здесь не работает.
- Назначим! - радостно обещает Старик.
Идем по улице. Нас останавливает милиционер, просит паспорта. Старик протягивает удостоверение корреспондента.
- А вы прописаны? - спрашивает тот.
- Да.
- А как давно вы прописаны?
- С семьдесят второго года! (Не с девяносто третьего, а куда-то туда указывает, в глубь веков...)
- А как вы прописались? - подозрительно спрашивает милиционер.
- Влюбился! - отвечает Старик.
Тот улыбнулся, отдал честь.
Марина Москвина
...Это был кладезь историй, чуть смягченных мелодичным акцентом Даура, а так, конечно, жестких, дзэнских, рассчитанных на то, что человек услышит и , потрясенный, просветлится, внезапно осознав абсурд нашей жизни. Взять хотя бы историю, как один мясник другому голову отрубил: «А что? Поспорили, - буднично говорит Даур, - кто кому сможет отрубить голову с первого раза, - на четвертинку...»
Я ходила за ним, как Эккерман за Иоганном Вольфгангом Гете, записывая его гениальные изречения. У меня это был какой-то прорыв к свободе слова. После знакомства фактически с иностранцем, сухумцем Дауром Зантария, мой русский словарный запас увеличился в десять раз! И в сто раз уменьшились амбиции. А он звонил мне и говорил:
- Это Москвина? Как жаль, что моя фамилия не Сухумов.
Родным для него языком был абхазский, на слух отдаленно напоминающий птичий свист. В абхазской речи девяносто два звука, он говорил, и каждое понятие выражается одним слогом.
- Встречаются два человека, - рассказывал мне Даур, - один окликнул другого, тот отозвался, и разошлись. Тебе показалось, они только поприветсвовали друг друга, а между тем эти люди обменялись вполне содержательными речами.
Ахра Бжания
Мне хочется написать про Даура достаточно абстрактный текст. Без особых воспоминаний и попыток проанализировать что-то из написанного. Сказать о нем два слова как о редком социальном феномене, который обычно называют словом - гений.
Много ли стихов мы помним к сорока, если не занимаемся филологией профессионально? Думаю, не очень. И, тем не менее... «Я встретил англичанина в Сухуме, я смело пригласил его в кофейню, он сносно говорил по-русски, уж не эстонец ли мелькнуло подозренье...». Здорово. Здорово, когда твой жизненный путь пересекает не просто талант, а гений. Я встречался с Искандером, Дауром Зантария, в минутах и метрах разошелся со Шнитке... Общение с такими людьми меняет, возможно, даже делает лучше. Позволяет наверняка проверить уровень собственной цивилизованности. Да просто сказать при случае, так мол и так... общался, обсуждал, просто пил кофе на «Амре». Нам нужны гении. А мы им нет. Нужны, потому что без них мы мельчаем. А нет, потому, что ничего не можем прибавить к их видению мира, зато они к нашему - могут. Когда, читаешь Фолкнера, или слушаешь Led Zeppelin такое впечатление, что тебя хватают за шиворот, поднимают над землей метров на триста и дают посмотреть на все оттуда, пока не кончится диск или не закроется книга. При определенной подготовке такой контакт гарантирует универсальный взгляд на мир, в смысле универсум - почти божественное.
Даур не стал заслуженным членом официоза. Не чествовался при жизни, не издавался роскошными изданиями, не пользовался привилегиями, хотя вполне возможно, принял бы их как должное. Да, был королем сухумской богемы, да прослыл литературной иконой среди эстетствующей молодежи... Ну, собственно и все. В общем, такое впечатление, что значимость его фигуры как-то недооценена. Что тут можно поделать? Такое и раньше случалось. Но это в России случалось, Германии, Америке..., а у нас-то. Сподобились пару раз. Повезло с соотечественниками... и что делаем? Не то, что не переиздаем, не издаем. В университетах, школах не преподаем, творческих вечеров не устраиваем, передач на ТВ не снимаем... Давайте на секунду представим, что писатель такого масштаба, и что совсем немаловажно, абсолютно современный по стилю и мировоззрению появился в Грузии. Думаю, что раскрутка сопоставимая с бараташвилиевской была бы гарантирована. Его именем называли бы улицы, превозносили в академических изданиях, переводили на другие языки, чтобы там знали, кто мы тут есть. Ну а у нас все наоборот. Но в таком случае, что мы хотим от молодежи, от самих себя, от государства вообще? Ведь оно само по себе не станет «цивилизованным» и «современным». Преклонение перед собственными талантами - золотое правило территорий, выталкивающее их из глухомани в высшую лигу глобального социума. Я хочу, чтобы меня и мой дом любили и уважали! А за что? Да хотя бы за то, что здесь жил и творил Даур Зантария! За то, что в своих стихах и рассказах описывал не кого-то, а наших местных людей, живущих сегодня в селах или тусующихся на «брехаловке». За то, что вдохновение для своего творчества находил здесь - в этой действительности и этой культуре. У гениев симбиоз с территориями. Просто не надо об этом забывать и платить им равной монетой. Короче, если кто-то спросит - а что вы вообще из себя представляете, что на что-то претендуете, кого имеете, я всегда знаю, что смогу назвать несколько замечательных имен, и одним из первых будет имя Даура Зантария.
Даур не был абхазским национальным писателем или, тем более, национальным писателем Абхазской АССР или Республики Абхазия. И за это я ему благодарен больше всего. Его творчество не было литературизированным фольклором, часто превращающимся в сентиментальногероическое описание быта и нравов аборигенов. Он в числе немногих показал, что смотреть на большой мир можно и с этого ракурса, и взгляд этот будет свеж и интересен всем людям, где бы они не жили. В этом взгляде они будут видеть самих себя, потому что мы одно целое.
Арда Инал-ипа
Не поверю, что для кого-то знакомство с Дауром Зантария могло не стать событием. Слишком уж незаурядным он был человеком. Мне довелось знать его более двадцати лет. Нас познакомил мой брат Адгур. У них были очень теплые отношения. Даур всегда подшучивал над непрактичностью Адгура, над его неземной специальностью астрофизика, но за этим всегда чувствовалось искреннее уважение. Адгур же считал талант Даура нашим общим достоянием и не уставал радоваться каждому его проявлению.
Хорошо помню первое знакомство, когда глубоким вечером за летним столом на нашем балконе мы, не отрываясь, слушали искрометные, невероятные и самые правдоподобные рассказы Даура о волшебстве и нечистой силе, о подвигах и простодушных хитростях тамышцев, о коварстве и мужестве, о верности и красоте. Помню ощущение какого-то чрезвычайно важного и счастливого открытия - рядом с нами живет замечательный писатель, сколь абхазский, столь и современный!
Много раз после этого мы засиживались у нас дома глубоко заполночь, а иногда и до рассвета, но все равно невозможно было насытиться общением с Дауром. Дух захватывало от его искрометного остроумия и импровизаций налету. Он всегда был неожиданным, его невозможно было «предсказать».
Мы так дорожили каждым его словом, что сохраняли его иногда дерзкие, но всегда талантливые экспромты, записанные на салфетках, обрывках бумаги. Мы запоминали его стихи и фразы наизусть. До сих пор помню многие его шутки, например, о художниках-оформителях, которые, по его мнению, редко понимали замысел автора книги. Даур возмущенно жаловался: «Я, - говорит, - просил изобразить на обложке горячего скакуна на фоне восходящего солнца, а получаю книгу, на которой бредет уставшая кобыла с чуреком на спине».
Мы проживали разные периоды литературных увлечений то знаменитыми латиноамериканцами, то японской поэзией и т.д. И всякий раз Даур начинал импровизировать. Вот, например, хокку Даура:
В темную ночь Смелый журавль
Одни мы: Борется с ветром
Я и цапля моя. В камышах.
Чей-то зонт Когда я вернулся в свои края
сгорбленным стариком,
Прошелестел к соседу Моя юность встретила у ворот
Тоска. И угостила рисовым отваром
Уеду навсегда Я пришел к учителю
учиться мудрости чань,
Из презренной Йокагамы А он третий год заставляет
меня чистить рис.
В пленительный Цукуни Хватит в конце-то концов!
Кстати, одно из шутливых хокку Даур посвятил увлечению Адгура «черными дырами»:
На ветках сакуры
Нет черных дыр,
Печален Кукин взор.
Где-то в самом начале 80-х Даур поступает на Высшие сценарные курсы при ВГИКе. Я тоже тогда училась в аспирантуре в Москве. Даур иногда звал нас на закрытые просмотры фильмов и мы потом смаковали впечатления от неизвестного Бергмана или Антониони. А потом появился сценарий фильма «Сувенир», тема которого актуальна и сегодня. Как жаль, что Даур не успел написать сценарий по «Енджи-ханум» и по «Чу Якубу», на мой взгляд, эти повести Даура очень кинематографичны.
Вскоре началась перестройка. Даур с моим братом с большим интересом встречали каждую весть о переменах. Они постоянно рассуждали о демократии, о том, что пришло время создания политической партии в Абхазии, о необходимости выдвижения Фазиля Искандера в депутаты того знаменитого Верховного Совета. Кстати, с этим этапом была связана очень интересная история. Они с таким воодушевлением принялись за дело, что вдохновили и других на выдвижение снизу многих достойных кандидатов от Абхазии и таким образом стимулировали первые по существу демократические выборы в Абхазии. Но это уже другая тема, требующая отдельного разговора. Они остро отреагировали на ГКЧП, очень хотели, чтобы Абхазия выразила свое мнение, писали тексты заявлений, но, к сожалению, их мало кто тогда поддержал.
В те годы я очень активно занималась общественной работой, мы тогда создали первое неформальное молодежное объединение в Абхазии, а может быть и не только в Абхазии. Даур иногда заглядывал к нам на горячие заседания, но включался в дискуссии уже на «Амре», куда все мы плавно перемещались. Да, эти времена, когда повеяло свободой, навсегда будут связаны со свежим воздухом «Амры», с ее атмосферой, в которой так самозабвенно и с такими смелыми надеждами мы рассуждали о судьбах Абхазии. И фигура Даура в белоснежной рубашке неизменно присутствует на этой запечатленной в памяти яркой картине.
У Даура был трудный характер. От его взгляда не могли ускользнуть даже мелкие недостатки окружающих, и не дай бог попасться ему на язык. Он умел безжалостно высмеивать ханжество и лицемерие, жадность и тщеславие. Какая-то детская, а потому большая обида иногда мешала ему на веру принимать доброе к себе отношение. Он в очень многом сомневался. Иногда серьезный разговор начинал с того, будто это шутка, чтобы обезопасить себя от разочарования, если не поймут или осудят. Он хотел быть свободным от сравнений с успешными обывателями. Он хотел, чтобы признали его право быть особенным. У него была особенная жена с лучистым взглядом. У него особенный сын. У него была особенная судьба.
Всем своим видом и существом он был не похож на окружающих - негибкой осанкой, неожиданными суждениями, поразительным сочетанием неуверенности и осознания своей значительности.
Когда он входил в дверь, масштаб происходящего мгновенно возрастал. Прощайте, тихий домашний уют и размеренность! Казалось, что его движения несколько угловаты, потому что ему постоянно приходилось сдерживать энергию сжатой внутри пружины. Что это было - сильные чувства, грандиозные планы или амбиции, болезненные воспоминания и упреки близким или просто энергия нереализованных творческих сил? Если он видел в глазах слушателя радостное предвкушение литературного пиршества - он фонтанировал, нет, вернее, он становился неукротимым гейзером образов, историй, идей, уморительных сравнений и трогательных в своей искренности ощущений. Его присутствие в хорошем смысле вынуждало вести напряженную духовную жизнь. Градус взаимоотношений всегда был выше «среднесуточной» температуры, а ритм «события» с Дауром всегда отличался от неторопливого потока повседневности.
Даур никогда не дружил из жалости или по необходимости. Вокруг него всегда были по-настоящему интересные, творческие люди. Он ожидал прощения его многочисленных ошибок и вольностей. Друзья прощали. Потому что понимали, что в тесных рамках добропорядочных норм и условностей ему не выжить, не творить.
После войны, когда была обретена долгожданная свобода, Даур уже почти не жил в Абхазии. Было тяжело, слишком много травм и невосполнимых потерь. Погиб и Адгур.
Разрушился тамышский микрокосм, трудно дышалось в черно-белом Сухуме.
А потом не стало и самого Даура Он успел прожить лишь часть своей жизни. Он успел сделать многое. Но не проходящее чувство потери говорит о том, что это лишь малая доля того, для чего Даур был рожден.
Кьасоу Ҳагба
Даур Занҭариа ирҿиамҭақәа, еиҳараӡак ипроза аԥсышәала иҩу, иссиру сахьаркыратә бызшәоуп. Аԥсуа литератураҿы иарбанзаалак ак еиԥшым, мчыла ихәыцым, иӷьычым!.. Уанаԥхьо, иузгәамҭаӡакәа убас уаланагалоит, ахҭысқәеи ахшыҩҵакқәеи - иԥхызу илакәу узымдыруа. Иумырбаӡакәа убас уҩышьҭԥаан ажәҩан агәахьы ухаргалоит, нас ишуахәмаруа, укәлаауа хланҵы тымитыша џьаҳаным аҵахь уҭарҵоит. Уаҟа ауаҩытәыҩса иԥсҭазаара иацу агәамсамрақәа зегьы урынҟьаны, уԥыххааса уқәырҵоит. Усҟан аԥхьаҩ изаанхо акы зацәык ауп - ашанхара. Абри аҩыза апроза иреиҳаӡоу асахьаркыратә цәаҩа змоу ҳаԥсуа литератураҿы иахьа уажәраанӡагьы иҳамбазшәа ҟаҳҵагәышьоит. Иҟоуп изҳәо, изышьҭымхыз аидара данаҵала дыхәжәеит ҳәа... Даур убри аҟара дыцқьан, дуаҩын, даартын, еснагь иԥхеишьозгьы, еидаран дызхәаҽуазгьы - икәша-мыкәша иҟаз раҳарамреи, ргьамдареи, ҽырдагәа-ҽыргаӡа ҟаҵо рхырҽхәареи реибарҽхәареи мацара акәын.
Даур идура премиалагьы иубилеилагьы иузгәаҭаӡом. Агәра згоит аԥсышәала иҩымҭақәа реизга ҭзыжьуа дҟалап ҳәа.
Татьяна Бек
Мой упрямый, мучительный, самоубийственный друг,
На чужбине огрета загробною вестью как плетью...
Вижу: ты, уходя, по чистилищу делаешь круг
И смеешься в лицо благочестию и долголетью.
Остается заплакать и в комнате выключить свет.
Я ль забуду тебя и твои бормотания (нас ведь
Не осталось почти), - черноморский мальчишка, поэт
И мифический беженец, жизнью опившийся насмерть?
Я тебе подарила однажды охотничий нож:
Ты на всякую вещь реагировал как на зацепку
Бытия и как символ зеленый носил макинтош,
А на кудри седые со смыслом прилаживал кепку,
И мотался по снегу, и детские губы кусал,
Одержимый талантом, и верой, и вечной изменой,
И свою неудачу, как гордую сагу, писал
Меж набухшею веной и плачущей в голос Каменой.
Если ты постучишься - я тотчас теперь отопру:
Никогда тебя больше не стала б отчитывать с гневом! ...
Но (прости за цитату) «калитка в Ничто» на ветру
И скрипит, и грохочет, и алчущим кажется зевом.
14 июля 2001. Германия. Кельн.
Петр Алешковский
У меня есть фотография: он сидит в какой-то московской газетной редакции - стена забрана скучными бежевыми панелями. Он позирует, но это и одна из его привычных поз, он любил их принимать: руки на груди, только нету сигареты. Он невысок, коренаст, склонен к полноте, большие очки хорошо подогнаны к тяжелой голове, нужны ей, оттеняют внимательные печальные глаза. Лоб высокий, открытый, тот, что «от ума», глубокие параллельные морщины, мощная бычья шея, волосатая грудь и волосатые руки. Здесь он сосредоточен, улыбается кончиками губ, как «старый и мудрый Даур». Он бывал и другим: напористым, готовым, казалось, проломить стену, порывистым и откровенным, как юноша, - слова отлетали от него тогда, как искры от точильного круга, - колкие и горячие. Кровь бурлила в нем, взрывала всех и вся, будоражила или, наоборот, перекипев, превращала в тяжело отработавшего за день быка, что еле доплелся до стойла, - он раздувал ноздри, с шумом втягивал сигарету и выпускал дым, как аллегория Южного ветра в средневековом атласе...
Валентин Ежов
... У него было очень своеобразное мышление, какое- то особое чутье языка, которое поражало оригинальностью. С ним так интересно всегда было работать. Не то что учить, а уча его, сам учишься этому яркому самобытному мышлению, отличительная черта которого - сплав юмора, поэзии и таланта.
Игорь Сид
Со времени войны я вообще ничего не знал о Тебе, кроме сообщения от семьи Искандеров, что дом Твой в Сухуме сгорел при бомбежке и Ты , кажется, уехал к друзьям в Прибалтику. Теперь я попытался найти Твои следы здесь. В Интернете обнаружились Твои публикации в московской прессе - на тему той войны, на правозащитные и культурные темы. Наконец, в статье Андрея Немзера я прочел о Твоем новом романе «Золотое колесо». Звонок к Пете Алешковскому, у которого Ты перед этим жил, вывел прямо на Тебя.
- Конечно, помню-помню, такой симпатичный парень! - не стесняясь феноменальной памяти, сказал Ты. Вы с Тажигулькой приехали к нам в гости, вскоре я вытряс-таки из Тебя интервью для «Лиги наций». Моя Аня, очарованная Тобой как совершенно сказочным литературным человеком, сделала с Захаром Твой сайт. Наши почти взрослые дети вообще долго были под впечатлением от Твоего первого вечера в Литмузее.
Там на Тебе был красочный свитер с птицами, а на лице особенно выделялись брови и ресницы, и Ты особенно походил на персонажей абхазской мифологии, но не героев-Нартов, а вымерших маленьких ацанов. Ацаны - крутые пацаны, потрескивало у меня в голове. Мы задумали с Тобой литературный фестиваль в Абхазии, замешанный на оной мифологии, и я штудировал сказки для разработки сценария. На Мадагаскарских чтениях Ты одним своим молчанием обогащал сокровищницу текстов и высказываний о Мадагаскаре в русской литературе. Там я познакомил Вас с Витей Куллэ и любовался вашей зарождающейся дружбой: два слегка пузатых гения, созданные друг для друга...
Руслан Гуажба
На мой взгляд, Даур как человек очень незауряден и благороден. Я уже не говорю о его таланте, - пускай не обижается никто, но в Абхазии среди тех, кто пишет на абхазскую тему, скажем так, равных ему по таланту, по глубине мысли и импровизации - не встречал.
Хочется вспомнить один интересный эпизод. Мы с ним познакомились в Сухуме , на улице Лакоба. Я только вернулся из армейской службы. Он меня всегда копировал, шутя, по-дружески. Я иногда по настроению любил напевать марш «Прощание славянки» и Даур, своими имитациями как бы подзадоривал меня на эти дела. И вот, познакомились мы на улице Лакоба и так получилось, как будто мы всю жизнь друг друга знали.
...У меня совершенно иной профиль работы, но, что интересно, мы всегда друг друга дополняли. Даур как никто другой мог очень глубоко заглянуть в душу человека и найти то сокровенное, что мы скрываем от других. Вот, как раз таки в этом, может быть, и заключается и его гениальность.
Однажды, в теплый октябрьский вечер мы вышли с ним на прохладу выпить кофе. В кофейне мы обратили внимание на стоявшего рядом с нами крепкого бородатого мужчину, которому, как нам показалось, было лет под сорок. На левом отвороте его пиджака был заметен трезубец. « Наверное, незнакомец из Западной Украины...» - подумал я. Даур предложил приобщить его к нашей беседе. Одним словом, мы с ним познакомились. Это был художник Львовского театра Виталий Портяков. Выяснилось, что он приехал в Абхазию в командировку для оформления спектакля на абхазскую тему. Мы разговорились. Во время беседы он весьма деликатно спросил нас, не можем ли мы помочь ему зарисовать, как абхазы завязывают башлыки. И Даур моментально вспомнил известного и уважаемого старца, долгожителя Керима Харазия.
Ловим такси моментально. Под вечер приезжаем в село Багбаран. По пути я рассказывал гостю всякие абхазские байки. И что опять-таки характерно. Мы подходим к воротам. К нам навстречу выходит старец и зычным голосом произносит: «Уа, бзиала шаабеит!» И Даур успевает незаметно подсказать гостю: "Обратите, пожалуйста, внимание на то как он будет здороваться с Вами!» Старец прижал три пальца к груди и поклонился гостям. Это был древний абхазский жест. Керим пригласил нас домой. Все началось с обычной легкой разминки. В мгновение ока на столе появился сыр, красная аджика и душистая чача, то что традиционно принято называть "хлеб-солью". Пока мы мирно беседовали на разные темы, хозяева успели зарезать и приготовить живность. И нас пригласили к столу.
Керим Дамеевич Харазия был удивительно мудрый человек. После того, как представили ему гостя из Украины , мы дипломатично рассказали ему о цели нашего приезда. Я помню: он положил башлык на нары и стал аккуратно показывать несколько вариантов завязывания национального головного убора. Завязывали по-разному, в зависимости от того куда абхаз держит путь: на свадьбу, на похороны, на какой-либо сход,причем, смотря в какое время, днем или ночью. И все эти детали Львовский художник старается отразить в своих эскизах. Затем, на минуту прервав свою работу, гость посмотрел на меня вопрошающим взглядом и, как бы прося моей поддержки, обратился к старцу:
- Простите, отец, за лишнее беспокойство, но не могли бы сказать, как у Вас со зрением? (А Кериму к тому времени перевалило за сто)...
Старец совершенно спокойно отреагировал на вопрос гостя и попросил невестку принести ему иголку с ниткой. Б гостиной, где нас принимали, было полутемно. Керим взял иголку и, зажав ее острый кончик между большим и указательным пальцем левой руки, без особых усилий правой рукой вдел нитку в игольное ушко.
Виталий и Даур, конечно, были удивлены только что увиденным. Потом мы долго расспрашивали старца, беседуя на разные темы. Он рассказал удивительные вещи, которые у меня и по сей день сидят в памяти. Я как сегодня помню, как Даур задал ему вопрос: «Что Вы знаете о сотворении мира?». В ответ Старец рассказал чисто шумерскую легенду. Даур не мог не выразить своего восхищения тем, что мы услышали из уст мудреца. За столом мы узнали много еще интересных историй, связанных, в частности, с махаджирством. Даур по-разному использовал эти сюжеты в своих произведениях на историческую тему.
В то время меня сильно интересовала судьба жителей Малой Абхазии, в частности, садзов (которых в Турции называют хылцысами).Особенно меня увлекала история знаменитых родов Гечба, Цанба. И вот, однажды мне звонит Даур и говорит: «У меня готова одна вещь, приходи, в «Амцабз» (редакция детского журнала, в которой работал Даур - В.З., С.А.), хочу обсудить ее с тобой. И он прочел мне несколько глав. Конечно, вешь произвела на меня сильное впечатление. После этого у него пошел целый цикл историко-философских произведений, написанных, кстати, на абхазском языке, которым Даур владел мастерски. Он задумал повесть «Судьба Чу-Якуба». Мы достали записи Дюмезиля, в которых была описана драматическая история, пережитая убыхом Чу Якубом. Даур был буквально заинтригован этими сюжетами. И это вполне понятно, потому что на долю героя повести выпали тяжелейшие испытания: он попадает в Египет, потом опять в родную Убыхию, потом волею судьбы он вновь оказывается в Турции и т.д. И вот этот весь многосложный сюжет Даур блестяще использует. По- моему, это одна из его лучших вещей и посвятил он ее мне, что для меня очень ценно.
У меня были очень большие связи с нашими зарубежными соотечественниками, долго и усердно вел с ними переписку. Фольклор горной части Абхазии у нас на побережье не так хорошо известен, как там, в местах компактного проживания диаспоры. В результате этих переписок, я получил в виде магнитофонных записей и виде рукописей исторические предания о Каитмас-ипа Халыбее, Ахи Шабате, об Енджи-Ханым и ее любви к Шабату. Когда Абхазский госмузей публиковал эти фольклорные материалы, как раз пришло письмо с песней об Енджи-Ханым и Шабате. Даур лично это письмо отпечатал и в самый последний момент мы успели включить его в музейный сборник 1980 г. Естественно, я получал кое-какие интересные материалы от Даура, и он получал от меня уникальные записи и источники, являвшиеся серьезным подспорьем для его творческих изысканий. И как мы с ним работали, взаимодействуя, помогая друг другу - это, конечно, было удивительно во всех отношениях.
А по поводу того, как Даур использовал исторические материалы для своих художественных произведений, могу сказать следующее. Удивительно и феноменально, например, то, что в знаменитой поэме Иуа Когониа «Маршанаа шыкуибахыз» повествование почти на девяносто процентов совпадает с подлинными историческими фактами. Об этом я могу судить по конкретным документам. То же самое можно сказать и об исторических повестях Даура. Все предания об Ахи Шабате, Енджи-Ханым, Каитмас-ипа Халыбее, один к одному,может быть, даже и на девяносто пять процентов совпадают в произведениях Даура Зантариа с историческими документами. При этом писатель смог сохранить высокий художественный уровень и стиль своей многоплановой прозы. Я считаю, что нужно суметь прочувствовать эту глубокую архаику, где трагика перемешивается с героизмом.
После войны мы вновь встретились с Дауром. Я заметил,что он немного устал, взгрустнул. Сели, поговорили с ним, как обычно. Он посетовал на то, что у него нет нормального творческого настроя. Я улыбнулся, и, стараясь взбодрить его, сказал:
«Напрасно ты унываешь. Проблем нет. Возьми, и опиши часть наших довоенных похождений.» По взгляду Даура, я понял, как его заинтересовала эта идея. Через год он приходит ко мне в музей и, протягивая рукопись нового произведения, произносит: «Ознакомьтесь!» Это был «Кремневый скол», позже увидевший свет в «Дружбе народов». В повести узнаваемы образы многих современников Даура. Немало строк, наполненных добрым юмором, автор посвятил и мне. Кстати, он понес эту рукопись и к Мадине Чачхалиа, как бы для апробации. Я ему сказал, что вещь мне понравилась. То же самое сказала Мадина, отметив, что произведение написано очень талантливо и тепло.
Потом он приехал с этим журналом, вручил мне его и, как всегда, со скрытым юмором, говорит:
- Слушай, Руслан, у меня есть одно дело!
- Какое дело?, - спросил я, не понимая о чем идет речь.
- Слушай, меня обидели... - продолжил он.
- Ну, пойдем, разберемся, - сказал я, на полном серьезе настраиваясь на разборку. По пути он заводит меня в какую-то кафешку, якобы для того, чтобы продолжить разговор по тому самому делу. Но в итоге я понял, что это был розыгрыш. Дело было в том, что он собирается обмыть со мной выход журнала с «Кремневым сколом». С ним была Тажигуль. Сидим за столом, перекидываясь шутками. И вдруг, смотрю, Даур наливает себе пятьдесят грамм, а мне - сто пятьдесят. И я в душе думаю: «Здесь какая-то проверка идет...» Приблизительно я уже догадывался, что это очередной розыгрыш...Ну, конечно, после №-ного стакана, я стал достаточно эмоциональнее выражать свое состояние. И проснулся во мне древний клич абазгов: «Хаи! Хаи! А-ха-хаит!». И вот ради этого он Все и придумал. Даур спокойно и хладнокровно спрашивает у Тажигуль: «Ну, как мой герой?». Тажигуль отвечает: «Он в жизни еще лучше, колоритнее, чем в произведении!..»
Для меня Даур незабвенен. Я этого человека, как очень немногих, ношу у себя в сердце. И что бы я лично желал по отношению к нему и его творчеству? Да, издали его вещи не совсем малым тиражом в России. Но в Абхазии практически этих книг нет. И наш долг издать его произведения, дать возможность нашим соотечественникам ознакомиться с творчеством этого выдающегося писателя.
Владимир Занҭариа
Уара мҩа-ҳарак уқәуп, сашьа...
Да, закину за плечи суму
И направлюсь спокоино на ост,
Чтоб найти там хоть дом, хоть погост...
Даур Зантариа
Уара мюа хараҟ уқәуп, сашьа,
Уарҭмаҟ уазқәынҵа... Аангыламҩа умаӡам.
- Маҷк уааҭгыл, нас, сашьа, уԥсы шьа !.. -
Саргьы сыгәҭыха засҳәо ҳәа уаҩ дсымаӡам.
Зны усцәалаӡуеит Москватәи аурҭ,
Ужакьа аршлазшәа збоит зны асыҭәҳәа,
- Уцсы ааиҭак, нас, маҷзак, Даур! -
Уааи, ҳнеидтәалан ҳаицәажәап ашьшьыҳәа...
Убжьы ҭахәаҽуп. Ихәашьуп улакҭа.
Угәҭыха аццышә ҭаԥсоуп уҭыҭыныжәга...
Ԥхыӡла, цҳак уқәлан унеихуан ааигәа,
Улақҭа исанаҳәон: «Шәсыцхраа, сырыжәга!..»
Аҭҳарцәҳәа саақәтәар, нахьхьи, хараӡа,
Дәҳәыԥшк аҵыхәан сылаԥш ухьӡахуеит...
Уарҭмаҟ уазқәынца, ԥсааиҭак ҟамҵа,
Мҩахәасҭа ҟьалак ианыршәлан уцахуеит...
- Маҷк уааҭгыл, нас, ҳаицәажәап, сашьа,
Зны ҳанқәыԥшыз еиԥш, «Амраҿ» ҳнеидтәалап!
Ҿымҭӡакәа ҵәыцақәак шьҭаҳхып, сашьа,
Иҟам рзыҳәан иаажәып иныхҭәалан...
... Ҩаԥхьа сышҟа ихынҳәуеит са сыбжьы,
Аҵх лашьца иалаӡыз адәыӷбақәа рыҵәаабжьеицш.
Зегь ҳаман илеиуеит Агәхашҭра Аӡышьшьы,
Ихьанҭоуп сара схәыцрақәа - сыуаҩыбжареиԥш...
Дгьыли-жәҩани ирзаартуа Даур Уҟазшьа,
Ашықәсқәа ниасуеит ԥсаатәҵас еишьҭалан,
- Уԥсы ааиҭак, нас, сашьа, уԥсы шьа! -
Ауазеиԥш, сгәы инҭасҳәоит сажәақәа аамҭала.
Узхьымӡаз наумданы, уажәабжьқәа ирҳәап,
Цҳаражәҳәаҩра руп нас уажәеинраалақәа! -
Уа Тамшьтәи аҵых уара уҭанаҳәҳәап,
Ԥааимбарҵас дунеи еибаркыра ссирк уалархәуа!..
Уқьыԥаха мҩа ҳарак уқәуп, сашьа,
- Маҷк, уааҭгыл, нас, сашьа, уԥсы шьа !..
...Ишьҭрақәланы сышҟа ихынҳәуеит са сыбжьы,
Зегь амҽхакны илеиуеит Агәхашҭра Аӡышьшьы...
Борис Джонуа
Когда затихнет день и тишина вместе с ночью опустится на дом, работается особенно хорошо. Но почему-то, именно в эти часы все чаще выплывают образы не военных (военные потери - это особая статья), а послевоенных потерь.
Откинувшись от клавиатуры и уткнувшись взглядом в темное окно, начинаешь вслушиваться в себя... Память своей суетливой рукой услужливо начинает перебирать картотеку потерь... брат мой Толик, Коля Джонуа, Гена Лагвилава, Даур Зантария, Отар Мацхарашвили, Слава Бганба, Амиран Берзения... «Постой! Постой!..» Что-то многовато вас, ребята, для послевоенного времени! И все ушли молодыми. И выступают они одной когортой. Но что же их объединяет? А объединяет их любовь, которая никогда не бывает взаимной - любовь к Родине. И еще, они были бессребрениками и романтиками.
Одни умирают и смерть их еще не доказывает, что они жили. Потеря других - незаживающая рана. Хотя время лечит все, но еще долго, заметив вдалеке кого-нибудь, отдаленно напоминающего человека, которого ты потерял, сердце у тебя встрепенется и устремляется к нему, а затем, поняв, что это не он, опускаешь голову... Подходишь к кофейне, где ты чаще всего встречался с ними и твои глаза начинают невольно кого-то выискивать...
...Вспоминается один снучай... Подхожу к группе знакомых, где за чашкой кофе глаголет Даур Зантария. Он любил быть в центре внимания, а с его эрудицией сделать это было совсем несложно. Даур читает нараспев стихи... Немного наклоненная в сторону голова, энергичные взмахи руки, чуть хрипловатый голос выдают его состояние «подшафе». К моему приходу слушатели ему видимо поднадоели и он переключается на меня.
- Я ездил в деревню и записал такой фольклорный материал, от которого наши фольклористы лопнут от зависти! - сообщил он. Вытянув руку вперед, он стал декламировать: «Аԥсҭазаара ҩадароуп иҳәеит...». Закончив, спросил: «Ну как? Бомба, правда, же?» Меня смутило то, что в произведении «слишком правильное» рифмо-ритмическое построение, и не совсем типичные образы для фольклора. Фольклор, как правило, прост, как сама крестьянская жизнь. А, вспомнив, еще, что Даур большой любитель розыгрышей, я поделился с ним своим сомнением и добавил:
- Это напоминает то, что у нас называют «фольклорный ансамбль», фольклорные там сами старики, а в остальном - захореографированное действие. Фольклор - это всегда импровизация на заданную тему, а когда танцующих выстраивают строго в шеренги и ряды, когда певцов принуждают петь так, как считает правильным хореограф или режиссер - это уже не фольклор.
- Старик, - сказал я, - тебе кажется, не дают покоя лавры автора «Песни Южных славян».
Усмехнувшись, он произнес: «Фольклорные старики» мне понравилось, а, вот насчет такта... Ну,что тебе стоило восхититься!.. В какое положение ты меня поставил перед моими терпеливыми спонсорами и слушателями?» Хотя последнее, как мне показалось, его мало волновало, тем не менее, мне действительно стало неловко. Ведь эта была игра, самая великая игра человечества, которая называется мифотворчеством. Ему было хорошо, потому что удалось разыграть собеседников, выдав свое произведение за фольклор. Собеседникам приятно, что они стали первыми, с кем поделился Даур, своей «находкой» и тем, что они приобщились к чему-то великому, прекрасному, а я все испортил своей пресной и никому не нужной эрудицией. Завтра, эта новость о находке Даура, пройдя через десятки уст постояльцев кофеен, обрастая невероятными подробностями, вернулась бы к нему же как к человеку, который записал оригинальный текст абхазской Илиады». А, я своим занудством невольно стал убийцей этого произведения.
Теперь, с большим опозданием, когда Даур в стране «где говорят правду», я бормочу свое запоздалое «Прости, старик!».
Сакральное действо, потеряв свою семантику становится ритуалом. Наша культура исказила сакральный смысл смерти, принизила его, переведя в русло ритуализированного представления, доведенного до фарса. Нам не хватает той легкости и снисхождения к смерти, которая была у наших предков «Мышкы ииз - мышкы дыԥсуеит» (Однажды родившийся, однажды умрет); «Аира зшаз, аԥсрагьы ишеит» (Кто сотворил жизнь, тот сотворил и смерть); «Имԥсуа уаҩ дыиуам» (Все смертны). У Даура это получалось хорошо:
И лишь приятели окрест:
Сгорел он, скажут, спился, скажут,
И на наличные закажут
Веселый духовой оркестр.
...Садясь за скорбный стол, друзья,
Беседуйте запанибрата
И чачу пейте. Мне нельзя:
Вы здесь, где ложь. Я там, где правда.
(Д. Зантария)
Как это созвучно со строкой Б.Шинкуба:
Нас мышкы зны, сыԥсы схыҵып,
Слеиқәыхьшәашәап, уаҳа акгьы.
...Кажется, это было перед Мартовским наступлением. Тали Джопуа брала блиц-интервью у ребят идущих в бой.
Леня Еник, к которому она обратилась с вопросом «Ты ничего нам не хочешь сказать?» изрек, поразившую меня фразу «Иа, анцәа хьымӡӷ ҳмыргакәа ҳшьы!» «Господи, пошли нам смерть без позора!». И здесь не было никакой рисовки, это действительно соответствовало духу той минуты. А главное, это полностью вытекает из основной самоценности абхазов «Адунеиажә уаароуп, ахьӡ ауп имԥсуа» «Этот бренный мир нам дан взаймы, слава же вечна».
«Хорошая смерть» - так переводится с греческого «эвтаназия». Сравните это с абхазским «аԥсра бзиа кыр иаԥсоуп», букв. «за хорошую смерть можно многое отдать». А самое главное, такую смерть еще заслужить нужно!
Все мировые религии построены на страхе смерти и забвения. На обещании жизни после смерти. Человеку трудно свыкнуться с мыслью, что мгновение назад ты ходил и говорил, и вот, ты уже неодушевленный предмет. Все что ты создал многолетними стараниями, будет забыто. Все чем ты гордился, будет со временем выброшено на помойку. Есть много мифов, созданных для собственного успокоения человечества и религия - одна из них. Да простят мне верующие и классики марксизма-ленинизма, но, думаю, это самое верное определение происхождения религии. И дело вовсе не в том, что я сам по происхождению хомо советикус. Считайте что это мой Экклезиаст.
Не красота, а именно мифы спасают человечество. Это именно та отдушина, которая дает возможность в этом корявом мире, где сама жизнь алогична, жить человеку, совершать поступки.
... С Дауром был знаком еще со студенческой скамьи, но друзьями мы не были. Да и не могли быть. Я был правильным мальчиком, этаким бойскаутом, а он уже в то время был «вольным художником», живущим своей богемной жизнью. Он увлекался западной литературой и кино, восточной философией и йогой. Одни изучают историю, чтобы знать события, факты, даты... другие же, чтобы брать уроки у истории. Дауру эти культурные материалы служили для самораскрытия.
Последние годы, приезжая из Москвы, он приносил свои новые, уже опубликованные в России произведения. Это и романы «Золотое колесо» («Знамя» №3-4, 1997), «Кремневый скол» («Дружба народов» (№7, 1998), рассказы, стихи, эссе. Он очень хотел, чтобы здесь в Абхазии тоже читали его произведения. К сожалению, большей частью они так и остались неизвестными для нашего читателя.
В один из его приездов из Москвы я спросил, что его держит там, почему не возвращается. На что он шутливо ответил: «Здесь я свой среди чужих, а там чужой среди своих. Так, где мне лучше быть?!»
Вместе с болью утери приходит сослагательное сожаление. «Мы недодали им своего тепла, мы даже не признались им в своей симпатии или любви. И если бы в трудную минуту мы были бы немого внимательней, чутче, возможно такое не произошло бы» - говорим мы себе. Хотя, вряд ли это что-либо изменило. Нам нравился чистый свет, исходивший от них, мы грелись в лучах этого света. Подобный же свет возможен только от горения. Значит, нам нравилось, как они сгорали. А они не могли иначе.
Ҭемыр Надараиа
Даур Занҭариеи сареи ҳаигәылацәан. Аибашьра ашьҭахь ҳаибадырит Аҟәа. Иара иҟны ҳаизон, иажәеинраалақәа дҳазрыцхьон. Дызҿыз ипрозатә ҩымҭақәа рцыԥцәахақәа дрыԥхьон. Усҟантәи ҳаԥсҭазаара иара акалашәа дахәаԥшуан. Икәша-мыкәша иҟаз аԥсабара иацыз абзеирагь ацәгьагь игәаҵанӡа инеиуан, игәнигон...
Сара исгәалашәоит, Даур игәыла-ԥҳәыск уахынла Даур икьыԥхьга машьынка абжьы лаҳауан, дарцәомызт, нас днатәан жәеинраалак лҩит иара ихьӡынҩылланы, убри илызцәырнагаз апоезиатә рҿиаратә гәалаҟазаара анырԥшны. Ларгьы ибзианы еихышәшәа-еиҵышәшәа илҩит, аиашазын. Даур адунеи азна деигәырӷьеит ари, нас иаргьы днатәан жәеинраалала аҭак лиҭеит. Иқәҿиаз акы данаҳзаԥхьалакь, маҷк ихы аазыргашәа, хәмаршақә, дааԥышәырччаны ус иҳәон: «Ирҩааит абас еицырдыруа ҳпоетцәа! Изырмыҩуеи абас...»
Даур акалашәа гәыбылра ҷыдак иман, акала цәажәашьак иман, акала зегьы дырзааигәан. «Шәаргьы шәҟазшьақәа зегьы, «шәӡонӡрақәа» зегьы, шәыбзеирақәагьы убра џьара иасырбоит акы анызыҩуа», - ҳәа ҳаиҳәон лафшақә. Иара ахаан амал дашьҭаӡамызт. Иара ииҭахыз, мал дус иишьоз, иҩызцәа днарыдтәаланы рацәажәара акәын. Чеиџьыка хәыҷык ааҟаҵаны ҳнеидгәалар - убри иара изын жәҩангәашәԥхьаран. Омашәа бзиа ибон иқыҭауаа. Са издыруеит Тамшьаа акы зхимҳәааз, зхаҿсахьа ааимырԥшыз азәгьы дыҟазам, шамахамзар. Иара убас Аҟәаа... Џьара ирониак ихы иаирхәозаргьы, зызбахә имаз ауаҩы длаирҟәуамызт, ирԥшӡан, ирхаан ишьақәиргылон иажәа, иҳәоу.
Даур ипрозагьы ипоезиа алыжжуа иҟоуп. Апроза шиҩуаз ашәа иҳәозшәа акәын, убасҟак иажәабжь алиризм, ацәанырра цқьа аҵан. Уи илафгьы даҽакын. Исгәалашәоит, хҭыск, зны Москвантәи данааз... Ажурнал «Россиа» аҟны аус иуан ускан.
- Санаауазгьы, арҭ акониунктура иашьҭоу ауаа абжьаҟазаратә архәҭақәа аҳәааҿ иахьгылоу, ишгылоу цқьа ианурԥшроуп ҳәа анапынца сырҭеит, сара иабаздыруеи урҭ астратегиатә зҵаарақәа, уара иумдырқәои, усыцхраароуп, исзеиҭауҳәароуп, - ҳәа ахы икит ҳаиҿцәажәара.
Сҩыза иажәа ҩбамтәкәа, абаталион акомандаҟацаоыс саныҟаз исымаз арратә хсаала адашьмаҿы илышьҭасцан, нас иаргьы саргьы ҿыцха ҳиаиы, ахсаала ахәаԥшра ҳалагеит, избанзар ахсаала дун, ус иаҳа иманшәалан ахәаԥшра. «Ҳа ҳтәқәа ахьгылоу, егьырҭ ахьгылоу, абжьаҟазацәа ахьгылоу» ҳәа ирбара саҿын такәаамҭа. Аха ԥыҭрак ашьҭахь, - ԥхынрамзи,ашоура бааԥсын, ахьшәашәара анис, ари абжьарак амҩа иаркарахьаз ауаҩы, изгәамҭазакәа ацәа дҭанагалеит. Уи сышихәаԥшуаз саргьы сылацәа ааихьысшьит. Ус, хәбака минуҭ рышьҭахь, аҭҳарцәҳәа ацәа даалҵын « ҳаи, ишԥасыхьи абас, угәы иалымсааит!» ҳәа ҿааиҭит. «Мамоу, џоушьҭ! Иарбан сгәы иалсыртә иҟауҵаз...» - сҳәеит саргьы.
- Мшәан, сзыдтәалоу астол уахатәаны, сажәеинраалақәа ушрыԥхьо уамхацәар сгәы иалымсуеи... убри ауп сара исыхьызгьы... ухсаала сықәианы сышԥацәеи» - ихы дахашшаауан Даур омак ҟалазшәа.
«Адунеи иамбац акрыҟоу џьыушьоума, зегьы абахьеит... Саргьы сгәы иҭыхоу зыҩуеит, иҭахаз сашьцәа рыӡбахәала акы аансыжьыр сҭахыуп... ҳажәлар иргәакыз атәы акы зҩыр сҭахыуп...» абас игәҭыхақәа сеиҳәалон Даур амшынҭалара ҳанцалоз. - Сроман «Золотое копесо» аҩра, аҭыжьра сзахьӡандаз, исымоу аматериалқәа схы исзархәандаз, - абас тәамҩахә шимамыз збон сҩыза. Дзыхьӡазгьы рацәаӡоуп, дызхьымӡазгьы маҷым. Рыцҳара дуны иҟоу, ҳажәлар дрыгхеит абаҩхатәра дуӡӡа злаз ашәкәыҩҩы, уи иаҳа анилшоз аамҭазы. Шаҟа исахьаркны, иԥшӡаны, лаԥшҵарыла дахцәажәозеи Даур иҟазара аурыс шәҟәыҩҩы Пиотр Алешковски: «Он был поэтом, а потому говорил ритмично, знал, что с чем и зачем сопрягает, но, всегда, балагурл, пересыпал восточную патоку солью самоиронии. В нем было сибаритство, но лень его была созерцательна - качество, нужное для поэтического ума».
Даури ҳашәкәыҩҩ ду Фазиль Искандери ганкахьала иахьеизааигәоу, иахьеиқәҿырҭуа ыҟоуп, даҽа ганкахьала зынӡа иахьеиԥшымгьы ыҟоуп. Аԥсуаа ҳҟазшьа, иҽеиу, иҽеим, уҳәа ҳмилаҭтә цәаҩа иамоу аҷыдарақәа акырӡа иҽырзааигәаитәит Даур... иара ихаҭа инапала аԥсшәахьынтә аурысшәахь иеиҭеигаз иажәабжьқәагьы ирныԥшуеит амилаҭтә иумор аԥсы шахеиҵоз, аԥсуа бызшәа акәама-цамақәа даара иҵауланы ишидыруаз.
Ишәҟәыҩҩра анаҩсангьы, Даур аԥсуа жәлар рхьыцшымразын рықәԥара аӡәы ҳәа далагылан. Аԥсни Нхыҵ-Кавкази рыбжьара ҿыц ацҳақәа хызҵоз дреиуан. Лассы-лассы дцалон Нхыҵҟа, ҳашьцәа рахь. Афорум «Аидгылара» иалаз аԥсуа интеллигенциа дарӷьажәҩаны дрывагылан ианакәзаалакь. Иара ироман ахаҭагьы шьахәла ианыԥшуеит Даур ихатәы знеишьала, хатәы стильла, дахыхәмаршәа ишааирԥшуа ҳажәлар зҭагылаз аполитикатә уадаҩрақәа. Иара итәала усҟантәи аидеологиатә режим дахьаҿагылаз азын диссидентҵас акәын ишихәаԥшуаз. Иара Аԥсны аиҳабырагьы рацәак деилкааны дрымамызт. Аха иагьа ус акәзаргьы, Даур Занҭариа иԥсҭазаареи ирҿиара зегьи ижәлар рхақәиҭра иазкын. Иаҳзынижьыз хәы-змаӡам доуҳатә малуп, иара ихаҭа иакәзар - хашҭра иқәым.
Адгәыр Ҳаразиа
Сара сахьахәаԥшуала, Даур аԥсуа қьабз ахьыҟоу, аԥсуа ааӡара ахьыҟоу иалиааз уаҩын. Аха егьа ус иҟазаргьы иара европатә хәыцра рацәаны иман. Убра Европа дизшәа дара рдунеихәаԥшра гәынкыланы иман. Дара рыҩбагьы иара илаӡеит: аԥсуа ааӡарагьы европатәи адуиеихәаԥшрагьы, абри ҵлакеиԥш иара иҩныҵҟатә дунеиаҿы идоуҳаҿы иалаӡҩаны иҟан. Сара абыржәы Даур данбоудыри, дабоудыри ҳәа усазҵаар, аҭак сзыҟаҵом, иара убри аҟара дҵаулан. Иареи сареи ҳаихырааӡалазшәа, сааиижьҭеи дыздыруазшәа, убас акалашәа иҟан иуаҩышьа. Иара ауаа ахьеилагылоу думбаргьы залшомызт, аха дахьыубогьы, - дыҟами нас аӡәы зегьы сырбандаз ҳәа зыҽцәырызго, - ус акәымкәа иажәа акәын инхоз, иара дышувагылаз умбаӡакәа. Ииҳәоз акәын ауаҩы изынхоз.
Зны-зынла, «абри ақалақь сгәы ԥнаҵәеит, уаала абри Мушьни дахьыҟоу, ашьхара ҳцап» иҳәон. Убас, ҳаиманы зны Ԥсҳәы ҳаиццахьеит, Хәаԥ зныкымкәа, ҩынтәымкәа. Бамбоурагьы Мушьни имҩаԥигон археологиатә ԥшаарақәа. Ҳаизаны, уахынла амца еиқәҵаны ҳанаатәалакь, Мушьни иареи еидтәаланы ашәа рҳәон. Мыцхәык арыжәтә рҽадымцалаӡакәа, Мушьни уи зынӡагьы бзиа ибаӡомызт, аха абас хәба-фба ҵәыца аанкыланы, нас иаҳа аԥсабара рыҽналагӡаны, жәытә ашәақәак ааҵәырыргон. «Абри иаразнак еиҵхәыҵны иҟарҵама» уҳәаратәы, зынӡа ижәытәӡаӡоу, иахьа шьҭа аԥсуаа ирымҳәо ашәақәак аацәырыргон.
...Исгәалашәоит, зны Ԥсҳәы ҳаиццеит. «Убра ҳаԥқәак ыҟоуп, ареволиуциа ҟалаанза амонахцәа ахьынхоз (Афон иқәырцаз амонахцәа цаны иахьынхоз), - иҳәеит Мушьни. Уи Ԥсҳәынтәи алада, мҩахәасҭала, мҩа ҿҟьарсҭараны улбаауеит жәохәҟа верс... Убра ҳцеит. Аҳаԥқәа ахьыҟаз рызнеира даара иуадаҩын. «Даур, уара узцом агьи ҳҳәеит, аха «мамоу, са сышцазымцо, слабашьа цозар саргьы сцоит» иҳәан, лабак икын, иршәны ахра иҩаҿаижьын, «уажәшьҭа саргьы сашьҭалоит абри слабашьа» иҳәан, ҳхалеит, аха албаара саргьы иаасцәымыӷхеит...( ахалара иаҳа имариан). Алада санынҭаԥшы, абра ҳазлахалеи аасгәахәит. Зегь акоуп, Мушьни иеицш ҳазлымбаазаргьы, иареи сареи ҳаибаркәымпылуа албаара ҳаҿын. Ауха ҳанаауазгьы иаҳцәыхәлеит. «Уара, Адгәыр, уажәшьҭа ҳамҩа ааркьаҿи!» иҳәан, «абри имҩа сара изласыркьаҿуеи» сҳәоит сара гәаныла. «Уара исҳәаз афасара уас ҳәа акәӡам, жәабыжьк ҳаҳәала ҳәа ауп», - иҳәеит Даур. Абас алаф шаҳҳәоз, агьиуаз, аухагьы амҩа ҳшықәыз ахәлара ҳахьӡан, уа ҳаангылт. Убасҟаноуп раԥхьаза акәны Енџьы-Ҳаным илызкыз ажәабжьгьы ансаҳаз. Усҟан уи имыҩӡацызт иара. Аха Шабаҭ Амаршьан дзакәыз, Енџьы-Ҳаным дзакәыз ҳәа раԥхьа Мушьнии сареи иаҳзеиҭеиҳәеит. Ус идыруан иара, акы икьыԥхьаанӡа, иҩызцәа ирзеиҭеиҳәалон, ишрыдыркылаз гәеиҭон, нас акәын ианикьыԥхьуаз.
Исгәаласыршәарц сҭахыуп Тамшь иадҳәалоу хҭыскгьы. Аибашьра цоит. Семион Занҭариеи сареи аҭабиа ҳҭатәоуп. Ҳашҭатәаз хыхьынтәи абықҳәа акы лбааҩрын ҳажра иҩҭаҳаит. Сыԥшызар Даур иакәын. «Уара ара уаазгеи?» - сҳәеит сара... «Смаакәа, Камидаҭ, уара арахь ушааз анеилыскаа сушьҭалан смаауаз!», - иҳәеит Даур (Камидаҭ ҳәа дсышьҭан хәмаршақә). Ашьҭахь Гәдоуҭа, Москва уҳәа иҟаз ажәабжьқәа ҳзеиҭеиҳәан, даара ҳгәы ҟаицеит. Мчыбжьык аҟара уа дҳаман. Нас мчыла «Даур, уара уца уахь ҳусқәа уӡбыроуп» ҳәа, джьашәа-агьишәа ишимуаз арахь дааҳашьҭит.
Мушьни Хәарцкиеи иареи злеиԥшыз рацәан. Уи, нас, Мушьни дышәҟәыҩҩымызт, ари - дышәҟәыҩҩын. Мушьни дҵарауаҩын, деибашьҩын, аха даара излеиԥшқәаз рацәан. Абри аԥсҭазаара ԥыршәон аҩыџьагьы. Исгәалашәоит, абра «Амраҿы» зны еисрак ҳақәшәеит қырҭцәақәаки ҳареи. Ҳанеилга ашьҭахь, адырҩаҽны, абри аиҿыхарақәа шцоз, аисра шцоз атәы иара сара ишызбаз акәымкәа, ҽа ганкахьала исзеиҭеиҳәон, са салахәымызшәа... Наукаҵас ибон ауаҩы иԥсихологиа, ихымҩаԥгашьа... уи аҭҵаарадагьы, иара ихгьы есымша иԥишәарц иҭахызшәа, убасшәа избон, дахьыҟазаалакьгьы. «Абри сара ишԥасылымшо» ҳәа: ахра аҿалара аума, аибашьцәа рҿы анеира аума, убарҭқәа зегьы ԥышәаны, нас ишәҟәыҩҩра ианыубаалартә аҟаҵашьа дақәшәон. Ус баша аӡәы иҟынтә исаҳаны, изҩит ҳәа акәымкәа, иара хаҭала убри ахҭыс далаԥшны, ихы-игәы иҭыжьны акәын ииҩуаз шииҩҩуаз.
Владимир Никонов
Мы с ним познакомились где-то в 1987 году. И, почему- то, он сразу почувствовал ко мне какую-то симпатию и сложились между нами нормальные дружеские отношения. А в 1989 году, когда было то самое ГКЧП, помню, мы все растерянные, собрались в Русском театре... Мы были молодые, неопытные, но чувствовали что происходит что-то неправильное в этом мире. И решили написать письмо в ЦК КПСС от жителей Сухума, хотя ГКЧП воспринималось здесь как-то так положительно. Я помню танцы в кафе у Акопа, помню всякие разговоры: «ну, слава богу, наконец-то, что-то чего-то...». Не могу вспомнить сейчас всех, но помню Батала Джопуа, Ахру Бжания, Отара Мацхарашвили, которые поддержали эту идею. Ну и как-то нам с Дауром пришлось это письмо писать. Почему-то все решили, что именно мы должны составить текст этого письма. Как-то очень быстро мы написали это обращение. И под ним было двенадцать подписей. По-моему, Нина Балаева,нынешняя директрисса Русского театра тоже подписала это письмо. И потом где-то прозвучало в СМИ России, что в Абхазии нашлось двенадцать человек, выразивших протест против ГКЧП. И честно говоря, мы почувствовали себя людьми, выполнившими свой гражданский долг. А могло сложиться по-всякому, между прочим. Но инициатором и вдохновителем этой акции был Даур Зантария. Собственно, мои литературные способности там особенно не понадобились. Автором письма был Даур. Письмо было не банальное, исходящее из глубины души. Я свою руку приложил, но очень мало, по большому счету автором был Даур. И вот когда ГКЧП провалился, через несколько дней мы с ним встретились где-то на берегу и он сказал: «Вот этого парня я уважаю!» И вот как-то после этого у нас сложились очень теплые отношения. Нашли с ним общие интересы в отношении того, что происходит в мировой литературе, в русской литературе, то есть многие творческие проблемы мы с ним как-то обсуждали, спокойно беседуя. И почему-то, я не знаю, то ли богу я в этом должен быть благодарен, то ли судьбе, но Даур Зантария включил меня в круг своих друзей. Я горжусь этим, и буду гордиться до конца своих дней, потому что таких людей как Даур Зантария бог посылает нам один раз в сто лет.
Я считаю его великим писателем. Даур Зантария занял нишу постсоветского пространства, когда мы все достаточно болезненно переживали проблемы неусртоенности, неблагополучия. И он, как бы заняв это место, успокоил всех нас, сказав: «Терпите, все будет хорошо!». Даур очень хорошо представил своим мощным и самобытным творчеством нашу абхазскую ментальность, да по большому счету и русскую ментальность...
Ермолай Аджинджал
Он отличался тем, что обладал бурной творческой фантазией, тонким поэтическим чутьем. У него был свой космос, своя космогония. Но помимо всего этого, Даур, как трудолюбивая пчела, собирал информацию: историческую, бытовую, человеческую, нравственную. Внешне могло показаться, что он человек отрешенный, стоит как бы выше нас со своими идеями, замыслами, но, в то же время, трудно было найти еще такого близкого всем нам человека.
Я ему все время говорил «Аҩныҟа ҳцап! Аҩныҟа ҳцап!», то есть приглашал его настойчиво к себе домой. И помню, однажды пришли мы с ним ко мне домой. У меня была огромная библиотека. Там был и Мандельштам и многие авторы,которые интересовали Даура. И я выбрал много книг из художественной литературы XX века, положил их в большую сетку и подарил их своему младшему другу.
Даур отличался от величайших наших традиционных писателей и поэтов тем, что он был еще и большим философом космического масштаба. Если кому суждено попасть в мировое интеллектуально-информационное (космическое) поле, то одним из них, я уверен, по-крайней мере из абхазов, будет Даур Зантария. Приблизительно таким в своей области был Мушни Хварцкия, хотя он не успел достичь такой известности в мире, как Даур. Кстати, их обоих сближало многое и в первую очередь в плане мировосприятия и космического полета мыслей. И еще я хотел бы сказать об одном замечательном парне. Это Заза (Астана) Зантариа. Судьба его, как нам всем известно, сложилась трагически. Я отношу его к числу обожествляемых героев. И Даур, кстати, посвятил ему прекрасные стихи. Их имена должны быть святыми для нас!
Василий Авидзба
Читая произведения Даура Зантария, вошедшие в книгу «Колхидский странник» (Екатеринбург, 2002, изд-во «У-Фактория»), читатель может совершить своеобразное путешествие во времени и пространстве. Он побывает в Тамыше, в горных и прибрежных селах Абхазии, в Сухуме, на знаменитой «Амре», увидит Москву сквозь призму утонченного мировосприятия Даура. Перед ним возникнут события далекой старины, истории Абхазии разных эпох. Читатель откроет для себя образы полумифические и полуреальные. Путешествие это не только познавательное, но и полное приключений и трагических судеб героев, за каждым из которых чувствуются сопереживания и сострадания самого автора. И в этом смысле, название книги «Колхидский странник» ясно и верно характеризует самого Даура Зантария и его героев. Он странствовал и в своем художественном творчестве и в жизни, сопряженной с большими трудностями. Ему как бы не хватало места в ней. Он писал на абхазском языке очерки, стихи, исторические повести, эссе, создал сценарий для фильма «Сувенир». Позже начал писать и на русском языке. Ему было тесно в жизни. И на мой взгляд, тот кто разгадает причину ощущения этой тесноты, может понять и глубоко осмыслить глубинную суть творчества Даура Зантария. Вряд ли какое либо событие могло обескуражить писателя своей неожиданностью. Устами своего литературного героя витязя Хатта из рода хаттов (роман «Золотое колесо») он выражает следующую мысль: «Не может чего-то не быть в бесконечном мире! Все есть, все чего не было - будет, а все, что было - повторится». В этой емкой, наполненной некоторой таинственностью, фразе - весь Даур! Только он мог, как бы экспериментируя на собственном жизненном опыте, постигать сложный и противоречивый мир человеческих страстей. Хоть и близка эта мысль к известному высказыванию Аристотеля о том, что «задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости», - и все же раздумья эти имеют различные смысловые оттенки. Не знаю, был ли он удовлетворен результатами своих художественных изысканий, но за внешней сосредоточенностью взгляда, скрывалось внутреннее горение и беспокойство талантливого писателя. И все это делало его тем, кем он был всегда и во всем - неординарным, в чем-то, может быть, и честолюбивым человеком, писателем. Жаль, что жизнь Даура Зантария оборвалась так рано... я думаю, он мог бы еще полнее раскрыть свои незаурядные творческие способности.
Циза Гумба
Светлой памяти моей сестры Марины и её друзей Ларисы и Даура Зантария
Красивой, обаятельной, жизнерадостной женщине был поставлен смертельный диагноз. Она тихо угасала... Я уверена , что она не знала своего смертельного приговора, хотя все уверяют, что знала и не хотела верить, надеялась победить, и всем своим видом вселяла надежду и веру в окружающих. Может быть, может быть...! Такое поведение, конечно же, удел не многих, а только очень сильных. Моя младшая сестра Марина и Лариса Аргун были одноклассницами, дружили, и были рядом до последнего часа. Марина, надеясь спасти свою любимую подругу, привезла её весной 1993 года в Ригу из ада, который бушевал на нашей трагической и прекрасной родине Апсны.
Когда после операции и длительного лечения стало ясно, что Лариса обречена, мы с сестрой решили пригласить в Ригу ее мужа - писателя Даура Зантария. За долгие месяцы Лариса и Марина так много рассказывали о незнакомых мне людях, живущих в Абхазии, многие из которых сражались в рядах ополченцев с грузинским агрессором, что мне казалось, случайно встретившись с ними, узнаю их сразу. Было много рассказов и о муже Ларисы - Дауре Зантария.
Впервые увидела Даура на рижском вокзале, куда я и Марина приехани встречать его из Москвы. Зная о нем заочно, была уверена, что ничто не сможет поразить меня в этом человеке. Увидев на рижском перроне невысокого, плотного, по-детски улыбающегося, немного растерянного и смущенного человека, я обомлела. Он не был похож ни на писатеня, ни на поэта. Он был похож на бунтаря!
Даур был не только талантлив в Богом дарованной ему профессии, но он любил и ненавидел с одинаковой страстью. История любви Ларисы и Даура - это особый роман. Они расставались, сжигая мосты, и снова возвращанись, и с особой силой все начинали сначала. И так продолжалось все годы их совместной жизни. Родственники, друзья, знакомые видели сложные отношения между супругами, но знали, что Лариса никогда не бросит своего необыкновенно танантнивого, но совершенно непредсказуемого мужа, отца своего единственного сына Нара. Так они и жили, ссорясь и мирясь, обожая и ненавидя, но, никогда не расставаясь до конца. Он посвящал ей стихи и прозу, дарил цветы, любимые конфеты. Их квартира была полна многочисленными друзьями и знакомыми, которые могли прийти в любое время суток, и на пороге их встречала всегда улыбающаяся Лариса.
Она была очень сильной и мудрой, она понимала, что является другом, женой не просто творческого, а гениального человека с очень сложным характером.
На мой взгляд, если бы не было в жизни Даура Ларисы, то не было бы и того Даура, которого мы знали. И после ее смерти, Даур осознанно приближал свой уход из жизни.
Война, расколовшая нашу жизнь на «до» и «после», стремительно меняла все и всех: красавица Лариса ушла в вечность, через полгода в автомобильной катастрофе погибает моя младшая сестра Мариночка, смерть которой изменила и мою жизнь. После двадцати одного года жизни в Латвии я переехала в Абхазию. А еще через несколько лет в Москве скончался национальный писатель Даур Зантария.
Последние годы, когда Даур изредка приезжал в Абхазию, мы с ним виделись. Он мог прийти ко мне независимо от времени суток, многократно извиняясь проходил в кухню, садился у края стола, молча закуривал, пока я готовила очередную чашку кофе и, зацепившись за какое-то моё слово, начинал говорить... Меня не покидало ощущение, что он идет по краю пропасти преднамеренно, что ему не интересно жить. Уставший, надломленный, он страшно скучал по тем, кого любил, но кого смерть разлучила с ним: своим братьям, друзьям, которые остались на поле брани, защищая свое Отечество, и любимой женщине - жене, зеленоглазой Ларисе, его ЧАЙКЕ.
Сухум, апрель 2007 г.

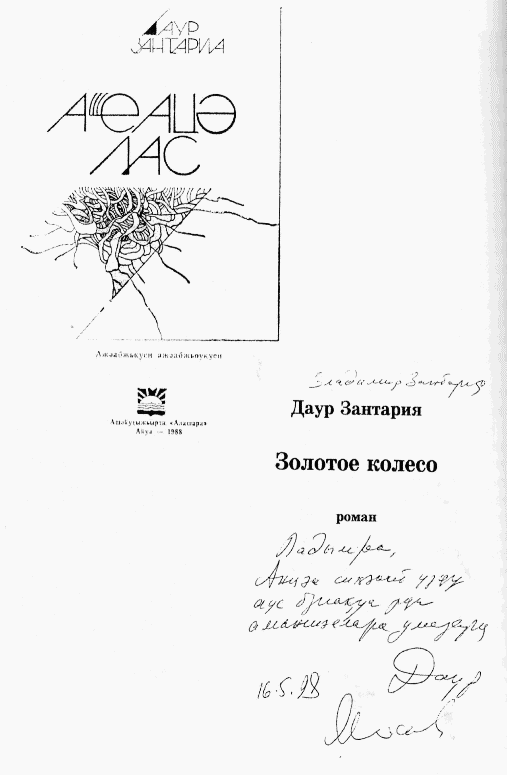
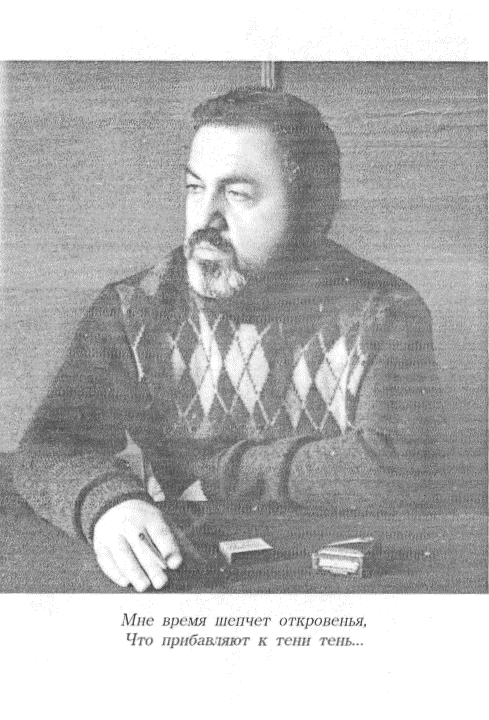


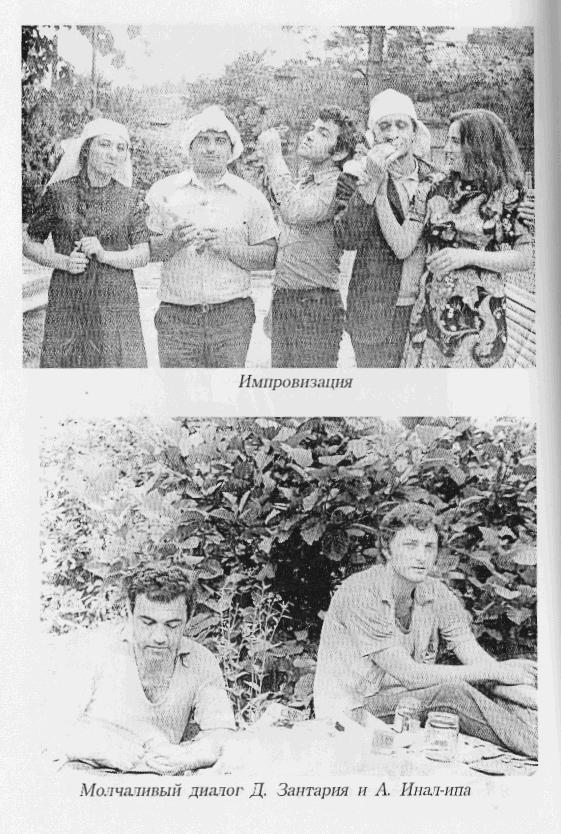
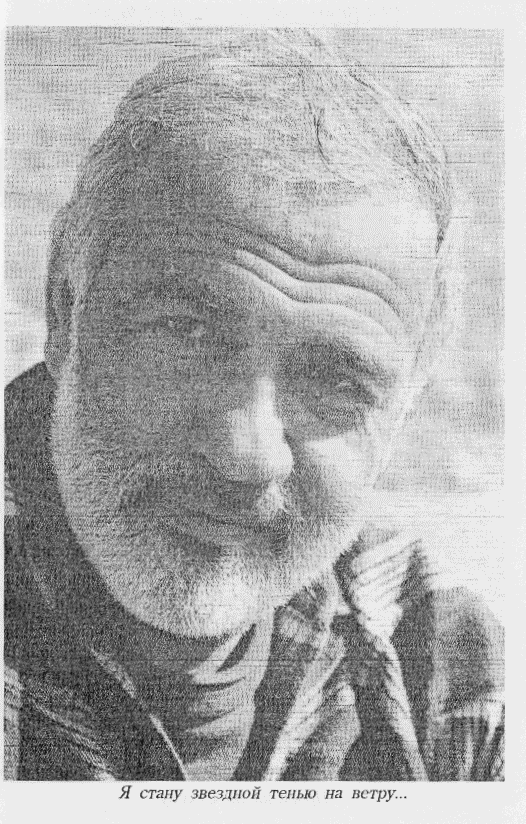

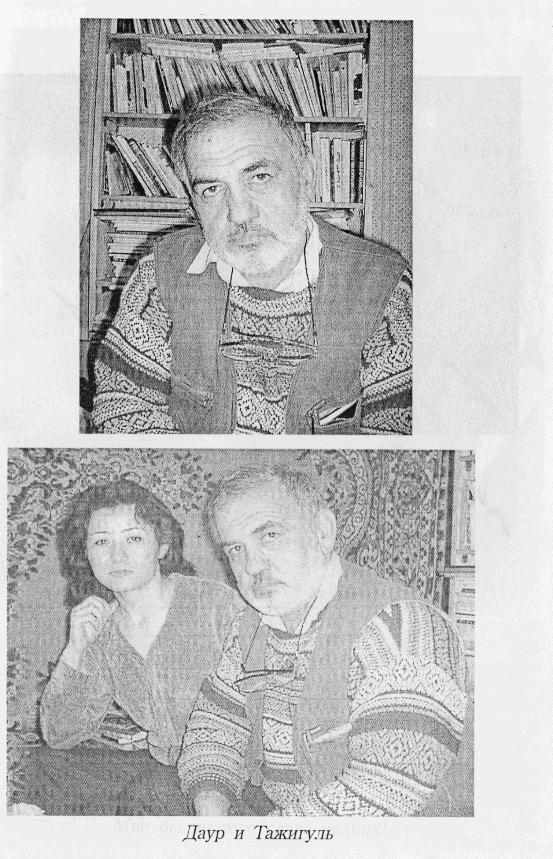
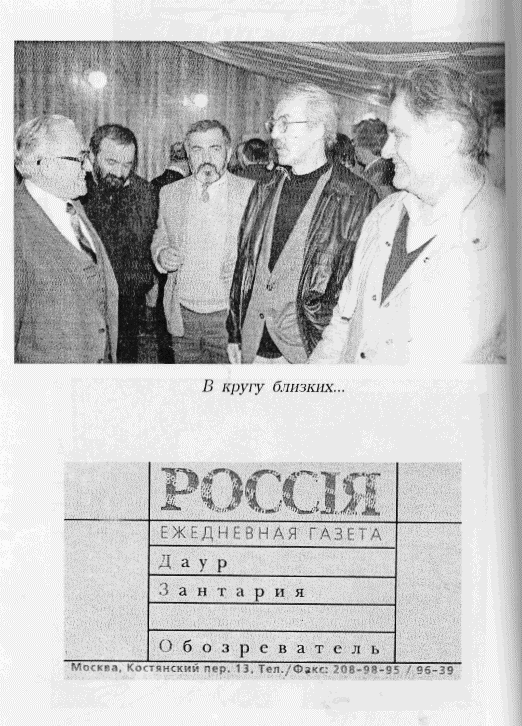


ДАУР ЗАНТАРИЯ
МИР ЗА ИГОЛЬНЫМ УШКОМ
(Поэзия. Проза. Публицистика. Дневники)
Корректор Н. Пилия
Дизайн обложки А. Зантариа
Компьютерная верстка Н. Гунба
Формат 84x108 1/32. Тираж 500. Физ. печ. л. 8,875+0,375 вкл. Усл. печ. л. 14,9+0,63 вкл. Печать офсетная. Заказ №280.
Республика Абхазия
ГПП «Дом печати»
г. Сухум, ул. Эшба, 168
