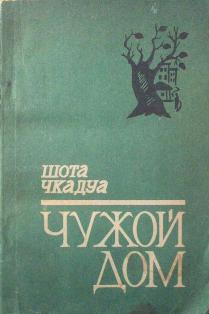

Об авторе
Чкадуа Шота Евгеньевич
(p. 20.VIII.1932, с. Кутол Очамчирского р-на Абх. АССР)
Абх. сов. писатель. Род. в крест. семье. Окончил Сухумский пед. ин-т (1956). Печатается с 1948. Начал со стихов; опубл. книги «Сатирические пьесы» («Асатиратә пиесақуа», 1958), «Пестрота» (1960), «Белое и Черное» («Ашкуакуеи аиқуаҵәеи», 1961), «Сатира и юмор» («Асатиреи аиумори», 1964), «Пчелка» («Ашьхыц», 1965), «Человек и место» («Ауаҩи аҭыԥи», 1972), в к-рые вошли его пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные пережитки в жизни и сознании людей. Повести «Женщина легкого поведения» (1960), «Ну, что стоит улыбнуться?!» (1961) и др. посв. проблемам семейной жизни, любви. Сатирич. комедия Ч. «Кто из нас глухой?» (рус. пер. 1964), из жизни сел. молодежи, передавалась по центр. телевидению (под назв. «Жуля и Мажуля»). Сатирич. и юмористич. пьесы Ч. ставятся на сцене абх. театра.
(Источник: "Краткая литературная энциклопедия". Автор статьи - Х. С. Бгажба.)
Из аннотации издательства к сборнику Ш. Чкадуа "Чужой дом" (1986):
"Рассказы и повести, вошедшие в настоящий его сборник, различны по тематике и проблематике, однако их объединяет нравственное отношение к изображаемому. Много внимания автор уделяет проблемам семейной жизни и быта. При этом он очень наблюдательный и с юмором, что помогает ему окружающую жизнь, характеры людей изоображать живо, точно". |
|
|
|
|
Шота Чкадуа
Повести из сборника "Чужой дом" (1986):
Еще накануне я твердо решил, что завтра с утра никуда не пойду — все-таки воскресенье. Но едва я нащупал босыми ногами шлепанцы и наконец продрал глаза, как передо мной предстал Партен.
— Извини, дорогой, — обратился ко мне он, — но побеспокою тебя... — Обязательно надо сестру проведать.
— Что-нибудь неладное случилось?
Нет, пожалуй, но, правду сказать, и хорошего тоже мало.
— А все-таки?..
Мы уже давно знакомы, я и Партен. Он считает меня своим другом, я же, несмотря на искреннее расположение к нему, не рискнул бы утверждать, что узы, связывающие нас, можно было бы назвать сколько-нибудь прочной духовной близостью.
В истинной дружбе, как известно, годы не играют существенной роли или, вернее, почти не играют. Жизнь порой складывается так, что делает настоящими друзьями людей, которые до этого едва ли больше двадцати дней знали друг друга. И дружба, возникшая между ними, часто оказывается более крепкой, чем двадцатилетнее знакомство или даже соседство.
Так уж устроен человек, что у него — коль скоро суждено ему было явиться на этот свет человеком — должны быть и друзья, и враги, одно он должен безоговорочно любить, другое столь же безоговорочно отвергать и всегда иметь свой собственный взгляд на те или иные события жизни.
Партен, однако, принадлежал к числу тех людей, которые не имели ни закадычных друзей, ни врагов, ни даже собственного мнения по тому или иному вопросу, что, надо признаться, не мешало ему скорее, даже способствсвало, плыть спокойненько по течению, отнюдь не перетруждая себя и не страдая при этом излишней щепетильностью.
Жизнь таких людей не таит, как правило, каких-либо особенных секретов, и причина, заставившая Партена обратиться ко мне с просьбой, не составляла дл меня, как и для многих, тайны за семью печатями: eго младшая сестра Нана не ладила с мужем и Партен полагал своим долгом брата поехать к ним, чтоб там, на месте, разобраться во всем.
— Лучше тебя у меня нет друга. Кому еще можно доверить наши семейные дела?.. — доверительно делился со мной Партен. — Поедем, а? Поговорим с сестренкой и с зятем, даст бог, миром уладим дело, — уговаривал он меня, — а нет, так заберем сестренку и уедем.
Последние слова Партена неприятно кольнули меня! «Заберем сестренку и уедем!» Как это заберем я уедем?.. Что она, на курорте отдыхает, где ей не очень нравится, или у родственников гостит, которые ее не так приняли?! А потому старший брат имеет право заехать за ней и забрать ее!.. Разве не любовь заставила ее покинуть родительское гнездо и белокрылой чайкой улететь под чужой кров? Разве не счастье удерживает ее там, где все стало ей не менее родным и близким, чем дома? Разве...
— Ну, как? Едем? — прервал мои мысли Партен.
Мчаться сломя голову куда бы то ни было да еще с утра пораньше никак не входило в мои планы, но, с другой стороны, и какого-либо видимого повода, чтобы отказаться, тоже не было. К тому же как-то неловко было и обижать Партена отказом... И я нехотя согласился:
— Едем...
Немой укор и нетерпение почудились мне в немыслимом блеске новенькой «Волги» Партена, сорвавшейся с места еще до того, как я успел захлопнуть дверцу. Партен же сразу настроился на философский лад.
— Как быстро растут девчонки, — пустился он в рассуждения, довольный моим присутствием в раскошном салоне «Волги», — для меня Нана все еще остается босоногой сестренкой, а вот поди же — уже жена, своя семья, даже раздоры в семье, которые должен улаживать я... Ну и ну! Со скоростью ветра... Ты узнал его?
Оставив в покое сестренку, Партен моментально переключился на мелькнувший было навстречу автомобиль:
— Это же Дигуа... Тот самый, что на базаре бешеные деньги загребает...
Партен, очевидно, счел своей обязанностью всю дорогу развлекать меня разговорами.
— Ты думаешь, он купил машину так же, как я, продавая мочалки?.. Хе-хе-хе!.. Как бы не так!..
И он снова переключился с одного на другое:
— Все же, скажу тебе, нет машины лучше, чем «Волга»! Чувствуешь?.. Стоит мне чуть газануть, и она, как необъезженный жеребец, сразу же бросается вперед.
И опять без какой-либо связи:
— Знаешь, муж нашей Наны тоже очень богато живет. Ты знаком с его отцом?
Партен не умолкал ни на минуту, и его болтовня уже начала раздражать меня, хотя прежде всего пенять мне надо было на самого себя — нечего было соглашаться ехать, поэтому ответ мой прозвучал сухо и резко:
— Нет!
Я, как ножом, отрезал. Но Партен ничего не замечал, увлеченный новой темой, а похвастаться он любил:
— Ах, да... Ты же уезжал в институт, когда мы выдавали Нану замуж... О, он отличный мужик и выглядит хоть куда!.. Держу пари, что когда ты увидишь их рядом, не угадаешь, кто из них приходится нам зятем, а кто — свекром!..
«Так зачем же, зачем своими руками сгубили вы молодость Наны?! — захотелось мне крикнуть. — Что побудило вас отдать ее старику?!» Но снова, как и утром, эта нелепая неловкость словно бы связала меня по рукам и ногам. Вместо этого я спросил:
— А что он, ваш зять, долго служил в армии или сидел?
При этом я постарался придать голосу интонацию, которая должна была убедить Партена в том, что меня просто интересует сам факт столь поздней женитьбы. Надо полагать, что я не очень удачно справился с этим, потому что Партен насторожился и ушел от ответа:
— Да нет... Не слыхал что-то...
Он замолчал, и я уже вознамерился было возблагодарить бога за то, что красноречие Партена, кажется, иссякло, как вдруг, он вновь оживленно заговорил, торопясь выложить разом все новости, которые были ему известны, хотя я и поддакивал ему вяло и неохотно только из вежливости, чтобы не обидеть его, вставляя пару-тройку ничего не значащих слов и проклинал про себя его неуемную болтливость.
— Ну, вот мы и приехали, — внезапно оборвал сам себя Партен.
Я облегченно вздохнул и поспешил покинуть роскошный салон «Волги», в котором, как мне казалось, все еще продолжают наскакивать друг на друга слова, которыми сыпал всю дорогу Партен.
— Вот бунгало Мыдги, — пошутил он и показал на огромный двухэтажный дом, возвышающийся посреди широкого двора, утопавшего в зелени.
— Мыдга... это кто?.. Ваш зять? Или его отец?..
— Отец! Зятя нашего зовут Мшылды.
«Ну и имечко!» — подумал я.
В это время дверь дома внезапно распахнулась, вытолкнув высокого, толстого, смуглого мужчину, и тут же с силой захлопнулась, подчиняясь резкому движению руки раздраженного хозяина:
— Хочешь, хоть в ад отправляйся! — взревел он трубным гласом. — Ненормальная! Сыта, одета, обута и еще недовольна!
Еще больше согнув сутулую, как у грузчика, спину, верзила тяжело ступая, большими шагами направился к кухне. Занятый своими, мыслями, он, видимо, не замечал нас.
— Неудачно, должно быть, прибыли, — промолвил я с сожалением.
— Так ты решил, что он — наш зять?.. Да нет же, это его отец, — успокоил меня Партен.
Ответить я не успел — Мыдга заметил нac.
— О, к нам пожаловали гости! — лицо его изобразило радушие хлебосольного хозяина, и он быстро направился к нам.
— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Прошу! — улыбка так и сверкала на его лице, разглаживая морщины и лохматые, нахмуренные брови, которые поползли вверх от удивления. С каждым из нас он поздоровался за руку, я почти физически ощутил, как тонет моя ладонь в медвежьих лапах, стискивающих ее сверх всякого усердия. При этом он успел дважды обернуться лицом к дому и выкрикнуть громовым голосом: — Эй, слышишь, у нас гости!.. Где ты там?.. Гости у нас, оглохла что ли?!.
На веранду вышла тоже смуглая, но худенькая, средних лет женщина. Хозяйка изо всех сил старалась выжать из себя улыбку, чтобы показать, как рада гостям, но это плохо удавалось ей — лицо упорно сохраняло горестное выражение, а в глазах стояли слезы.
— Познакомьтесь, супруга Мыдги, — представил ее Партен.
Я молча пожал ее руку — худую, холодную, безжизненную.
Мы поднялись на второй, гостевой, этаж дома, зашли в залу — парадную комнату для гостей, и я понял, что Партен не прихвастнул красного слова ради, — в этом доме жили богато. «И в самом деле - полная чаша», — отметил я про себя.
И если бы обилие дорогой мебели, ковров и хрусталя действительно было бы показателем счастья, то в этом доме оно должно было бы щедро одаривать каждого, кто переступает его порог. Признаться, однако, подобное ощущение не приходило ко мне, хотя я и отдал должное тому, что зала красиво yбpaна, кругом чистота и порядок — все стоит на своих местах и вообще в оформлении интерьера заметно присутствие хорошего вкуса. «Наверное, Нана — молодая хозяйка, так постаралась»! — решил я про себя, и тут Партен вдруг спросил:
— Где же малышка?.. Почему я не вижу ее?
«Да какая же малышка? — чертыхнулся я про себя. — Не нашел ничего более подходящего?» Но Мыдга среагировал почти мгновенно:
— Какая малышка? А, Нана! Она здесь, здесь... — Он тут же перевел взгляд на жену и распорядился:
— Ну-ка, хозяйка, поворачивайся поживее! А пока приготовишь горячее, накрой-ка нам стол тем, что бог послал!..
Не проронившая ни слова за все это время, супруга Мыдги. так же молча повернулась в сторону и пошла, как сомнамбула в собственном доме.
С ее уходом в гостевой, стало тихо, как в погребе, все словно бы онемели. Оказалось, что, кроме обычных приветственных слов и взаимных расспросов о здоровье людям нечего было сказать друг другу. Даже балаболка Партен молчал, будто набрал в рот воды. «Когда не надо, надоедает пустыми разговорами, а сейчас слова из него не вытянешь», — недовольно подумал я, все еще продолжая сердиться на Партена.
Но вот появилась хозяйка, накрыла на стол, разлила по стаканам холодное молодое вино из большого запотевшего графина, и люди вновь обрели дар речи — пошли тосты за тостами. Даже хозяйка разомкнула свои уста, глаза ее уже были сухи, хотя напряжение все еще сковывало ее фигуру, сказываясь в подчеркутой старательности движений рук и тела. Она, пододвигая тарелки, привычно приглашала отведать того или иного блюда.
Ничего оригинального не было и в тостах ее мужа — банальные слова и фразы вылетали из него, как из рога изобилия, обнаруживая полное отсутствие даже элементарной теплоты чувств в его благожеланиях. И это рождало какое-то внутреннее недоверие к нему, усиливая и без того неприятное впечатление, которое складывалось от маленьких бегающих глазок на мясистом, заплывшем жиром лице — казалось, нет такой силы, которая заставила бы их смотреть прямо в глаза собеседника: они либо уходили куда-то поверх них, либо утыкались прямо в тарелку. А тут вдруг он этак гордо вскинул голову и громко возгласил:
— Так где же наша невестка? Или брата старшего своего застеснялась?..
Этот риторический вопрос означал лишь, за кого последует сейчас очередной тост. Ожидание не обмануло меня, лишь слова Мыдги показались нарочито громкими. Громкий голос его еще можно было выдержать, громкие слова — нет. Однако, эти громкие слова не были в диковинку Мыдге, они могли стеснить кого угодно, но только нe его.
— Я живу исключительно ради нее! — без тени смущения витийствовал он. — Был бы жалок и ничтожен удел старика, если бы единственная невестка не подобрала ключа к моему сердцу, Но она, наша единственная невестка, — наша единственная и общая радость! Что и говорить, — обвел он широким жестом залу, — посмотрите, какой порядок в нашем доме! И все это — ее рук дело. А как готовит?! Давно превзошла мою старуху!..
Терпеливо дождавшись конца беспардонных разглагольствований Мыдги, Партен без излишних дипломатических околичностей спросил напрямик:
— Ну, а как все-таки сейчас? Я слышал, Нана с мужем что-то не очень ладят между собой?
Лицо Мыдги на какое-то мгновение вытянулось от столь бесцеремонного вопроса, но тут же довольно искусно изобразило неподдельное удивление:
— Да что ты, Партен? У них какие могут быть нелады? Живут себе мирно, счастливо, на радость нам, старикам... — он поискал глазами свою старуху, не нашел ее и, очевидно, по этой ассоциации, засомневался, не переборщил ли он: — Ну, если и делаем иногда Нане какое замечание, — и он снова широким жестом обвел комнату, — то для того лишь, чтобы не переутомляла себя особенно, чтобы отдыхала больше, берегла себя... Она ведь у нас учительница! Шутка ли!
Мыдга не успел закончить свою напыщенную речь — отворилась дверь задней комнаты и в залу вошла высокая, стройная и, что греха таить, божественно красивая, но бледная молодая женщина.
— Вот и сестренка! — тут же вскочил Партен, подбежал к ней и покровительственно обнял ее за плечи.
«Нана?! Неужели это она?» — не мог я поверить своим глазам. Я искал и не находил черты той Наны, которая так хорошо, я был уверен в этом, сохранилась в моей памяти. Впрочем, той Нане было лет десять, может, чуть больше. Я помнил длинноногую девчонку, очень подвижную, этакую стрекозу-егозу с большим ярким бантом в черных пушистых волосах и с глазами крупными и темными, как слива, в которых то и дело вспыхивали искорки-бесенята, выдававшие озорной характер их обладательницы — жизнерадостной непоседы, радовавшей сердца и души всех окрестных соседей. Нет, красотой, конечно, отличалась и та Нана, которая сейчас царственной походкой приближалась к нашему столу. Не надо было и биться об заклад — она действительно стала еще прекраснее, а эта невесть откуда взявшаяся аристократическая бледность придавала ее красоте еще большую утонченность, но... Но все же, но все же... Что-то неуловимо изменилось во всем ее облике... Эта зябкая улыбка, это холодное, застывшее, как маска, лицо, эти потускневшие глаза — цвета и формы спелой сливы, некогда полные огня... Словно что-то оборвалось внутри ее и лишило простого человеческого тепла эту прелестную телесную оболочку.
Нет, конечно, любоваться и получать наслаждение от красоты нынешней Наны можно было и теперь. Но все же... Но все же нельзя было не почувствовать, как обдает тебя стылостью, исходящей от этой тонкой фигуры женщины, приближающейся к тебе. Даже приезд Партена, родного брата, не заставил затрепетать ее, не всколыхнул в ней никаких чувств — ни кровинки в лице, не дрогнул ни один мускул, словно они расстались всего полчаса назад.
— Ну, сестренка, как твои дела? Как твое самочувствие? — с ходу приступил к исполнению своей миссии Партен.
Слепость и глухость его могли бы войти в поговорку! Столь бездушными словами встретить родное, близкое существо! Все во мне клокотало от возмущения. Спрашивать у больного о его здоровье! Как будто она сама — вся от головы до ног — не красноречивый ответ на вопрос, который можно было и не задавать. Но Партен всегда оставался самим собой, отличаясь завидным постоянством, и я думал не о нем, разумеется. Я думал о Нане, о неблагополучии в этой семье, о неладах между молодыми, лишь краем уха улавливал плоские шуточки Мыдги, пытавшегося рассеять водворившееся отчуждение за нашим столом.
А на столе между тем появилась горячая мамалыга, над которой поднимался такой густой пар, что вызываемые им вкусовые ощущения забивали аромат даже жареных кур! Вот чему было доступно растопить лед отчуждения! Но я ничего не мог поделать с охватившим меня ощущением того, будто я присутствовал не в гостях, а на поминках. Однако и заставить себя встать из-за стола тоже не мог — понимал, что могу обидеть хозяев. Я ждал лишь удобного случая, и как только он представился, извинившись, все-таки поднялся из-за тола. Но тут в залу ввалился Мшылды.
— О-о-о, — прогудел он густым басом, — кого я вижу! И что он стоит в сторонке, как бедный родственничек?..
Мшылды подошел ко мне, довольно бесцеремонно сгреб меня медвежьей хваткой и стал подталкивать к столу, хотя я и пытался устоять на своем месте. Сопротивляться этакой силище было бесполезно. «Копия отца! — пронеслось у меня в голове. — Разница только в том, что у «нашего зятя» рот полон золотых зубов, отливающих хищным блеском. «Модно? Престижно?» Но я так и не ответил себе на этот вопрос, потому что с приходом Мшылды тосты последовали вновь с утроенной силой. Комната наполнилась гулом громовых голосов, в котором тонул петушиный фальцет Партена. Это наскучило мне и, чтобы отвлечься, я потянулся за газетой. Разочарование, однако, подстерегало меня и здесь — она оказалась далеко не первой свежести.
— Почему вы покинули стол? — услышал я за спиной.
Я узнал этот мягкий, грудной голос. Поразила меня только грусть, прозвучавшая в нем. Я поднялся навстречу Нане.
— Сидите, сидите, — тихо попросила она. И это ощущение грусти в голосе только укрепилось во мне. В голосе, некогда звеневшем на такой высокой и жизнерадостной ноте, что ты, бывало, непроизвольно расплывался в улыбке.
Зная, что согласно нашим абхазским обычаям, Нана не сядет в присутствии свекра, я встал и мы прошли в соседнюю комнату, где я усадил ее в мягкое кресло, а сам опустился на диван.
— Как же давно я не видела вас, — вздохнула Нана. — Даже не узнала сразу... Окончили институт, работаете?..
— Да, Нана.
Мы вспомнили наше детство, друзей, школу, в которой вместе учились и, не скрою, мне было приятно, когда, забывшись на минуту, Нана вдруг обращалась ко мне на «ты», как в те добрые, но уже, увы, далекие годы.
— Помнишь, как ты вывихнул на скачках ногу?
— Боль забывается не скоро.
— Да, вы правы, — согласилась она, снова переходя на «вы», и сколько неподдельной грусти было в ее голосе, что непонятная тревога овладела мной. Я говорил с ней, старательно обходя темы, которые, как мне казалось, были небезболезненными для нее, и испытывал настоящее наслаждение от того, если вдруг ее темные и крупные, как сливы, глаза загорались живым огнем. И мне было очень больно видеть, если неосторожно оброненное слово как бы возвращало ее в сегодняшний день, и она снова становилась прежней — холодной, настороженной и ни для кого недоступной Наной.
— Нана, что с тобой? — не выдержал я.
— Да нет, ничего...
— А помнишь, как речка унесла твой бантик? — поспешил я перевести разговор в более безопасное русло, чтобы отвлечь ее от невеселых мыслей, на которые, очевидно, натолкнул ее мой бестактный вопрос.
— Помню, конечно, — с удовольстием поддержала меня Нана. — Сколько же тогда было пролито из-за него слез!
— Я хотел тогда вернуть тебе бантик, но у меня ничего не получилось.
— Да, да, ты еще тогда прямо в туфлях бросился в воду!
— Правда? Вот этого я уже не помню.
— Ну, как же! Ты еще поскользнулся тогда, но удержался, не упал, я очень радовалась этому, но из-за бантика все равно проревела всю ночь... Надо же! Из-за какой-то тряпочки. Впрочем, — мгновенная смена настроения, — и взрослые зачастую прельщаются тряпками.
— Нана, — какая-то сила толкала меня к этому, — скажи, как тебе живется здесь? Свекор уверяет, что души не чает в тебе.
— Да, уж он-то хорош, сыночек его и того лучше!
Этой горькой иронии не нужны были никакие комментарии, и я, желая прекратить неприятный для нее разговор, нагнулся за фотокарточкой, краешек которой выглядывал из-под книжной полки.
Сливовые глаза маленькой девочки, широко открытые тому чуду, которое должно было сейчас произойти — птичке, которая вот-вот выпорхнет из кругленького окошечка фотоаппарата, — не оставляли и тени сомнения.
— Клянусь, Нана, что это ты! — воскликнул я.— Сколько же тебе лет на этом снимке?..
— Ой, не смотри, отдай, не смотри же, — заторопилась Нана, смущенно рассмеявшись и поразительно напомнив ту, что запечатлел объектив фотокамеры.
— Смеяться, конечно, тоже хорошо, но помочь свекрухе, по-моему, еще лучше! — возник, покачиваясь в дверях Мшылды.
Нана мгновенно вспыхнула и поднялась:
— Вот так, дружочек! Не сердись... Верх вежливости, — она беспомощно развела руками и тут же выбежала, не сумев скрыть сразу же набежавшие слезы.
Мшылды вышел вслед за ней. Из-за неплотно прикрытой двери снова донесся его зычный бас:
— Я предлагаю этот тост... — за славные обычаи наших отцов и дедов! — произнес уже заплетавшимся языком Мыдга.
— И ты, Партен, обязательно должен выпить за это, — поддержал отца Мшылды, — обязательно! Эй, — крикнул он тут же, — где вы там запропастились? На столе кончилась зелень! Несите же ее наконец!
У меня окончательно пропало желание присоединиться к этой пьяной братии, к тому же я крайне неравнодушен к книжным полкам, а на здешних — я приметил это с первого взгляда — абхазская литература была представлена достаточно полно. Я с удовольствием листал и тонкие томики, и солидные издания. То в одной, то в другой книге находил я любопытные пометы на полях, оставленные ровным — буква к букве — и четким почерком, который принято считать «учительским». Я не сомневался, что никому другому, кроме Наны, не мог он принадлежать в этом доме. И пометы на полях тоже выдавали читателя вдумчивого и заинтересованного. Поэтому, когда из одной книжки выпали несколько листов, исписанных уже знакомым мне почерком, я решил, что здесь изложены впечатления Наны о прочитанных книгах. Это показалось мне занятным. Я глянул на заголовок: «История нескольких счастливых дней моей несчастной жизни» — и испытал смятение, как человек стоящий у порога чужой тайны. Тайны, волновавшей, не дававшей мне покоя с самого утра. Тайны, узнав которую, я, как мне казалось, смогу наилучшим образом помочь Нане. Я не колебался и потому, что в соседней комнате, как я понимал, напрочь забыли обо мне. Поэтому я удобно устроился в кресле и углубился в чтение.
«Я никогда не писала ничего, кроме писем подругам, да и — признаться — писалa-то их с большой неохотой. Наверное, потому что никогда не могла выразить на бумаге свои мысли и чувства так полно, как они владели мною. Но сейчас именно бумага — моя единственная подружка, которая разделяет со мной эти бессонные ночи... О мой отец! О мой брат! Знаете ли вы, на какую жизнь обрекли свою единственную дочь, единственную сестру? Нет, нет, не подумайте, ради бога, что я проклинаю вас или свою мать! Для этого я слишком люблю вас, я слишком привязана к вам, чтобы проклинать вас!.. При моей жизни никто не увидит эти записки, но, прочитав их после моей смерти, может быть, вы поймете, какой «счастливой» сделали вы свою Нану! Пусть все люди узнают о моей горькой судьбе и пусть постараются не повторять такой тяжкой ошибки!..
Володя! Вот единственное имя, которое все еще волнует меня и будет, наверное, волновать до самого последнего дня моей жизни. Володя — единственный свет в моем окошке...
Он был старше меня, и я его встречала только во время летних каникул, когда он из Ленинграда приезжал к своей тете Ярне, нашей соседке.
— Давай, щебетунья, наперегонки! — предлагал он, лукаво посмеиваясь.
Он называл меня щебетуньей потому, что в детстве рот у меня не закрывался ни на минуту. Что делать, я любила без умолку рассказывать обо всем, что видела или знала. «Так ласточки в теплый летний день щебечут не умолкая», — говорил он мне. А я все равно продолжала сердиться:
— У меня есть имя! Меня зовут Нана!
Но он лишь посмеивался в ответ и упорно продолжал называть меня щебетуньей, и я возненавидела это имя, как дети терпеть не могут, когда их пичкают рыбьим жиром, гоголем-моголем или манной кашей. Поэтому я старалась избегать встречи с ним, чтобы лишний раз не видеть его иронической улыбки, с которой он смотрел на меня, и не слышать его неизменных шуток, с которыми он обращался ко мне, начиная привычно:
«Ну, щебетунья!..»
— Нана, — остановил он меня однажды, — заметил, что ты избегаешь меня. Почему? Неужели только от того, что я изредка подтруниваю над тобой или называю тебя щебетуньей? — Я молчала. — Но ведь ты действительно напоминаешь мне того еще неоперившегося птенца, который только что выпорхнул из родительского гнезда. — Я не понимала, оправдывается он или извиняется, и сохраняла гордое молчание. — И мне очень нравится смотреть на тебя, слушать тебя, когда ты так мило щебечешь... Ну что ты молчишь, надувшись, как бука? Поверь мне, у меня и в мыслях не было обидеть тебя. Ты славный ребенок, но впрочем...
Помню, что я ничего не ответила ему тогда, только, дернув плечиками, — наверное, это было смешно со стороны, — отвернулась и ушла, не оглядываясь, в дом. «То есть как это ребенок?.. — возмущалась и недоумевала я одновременно. — Мне пятнадцать лет, я уже почти взрослая девушка, я уже давно не ношусь босиком ни по двору, ни по улице, я уже давно не дерусь с мальчишками, я уже давно... — больше, как ни старалась, я не могла найти ни одного еще довода, пока не вспомнила: — Да если бы я была ребенком, разве бы объяснялся мне в любви Тарасхан?!» Да, этот довод казался мне самой неопровержимым.
Однако именно после этой встречи меня неудержимо потянуло к Володе. Я хотела слышать его голос, все время быть рядом с ним. «Ва-ло-о-о-дя» — звала его тетушка Ярна в дом, а у меня сердце сначала замирало, а потом начинало бешено колотиться в груди. Я готова была кинуться ему наперерез, остановить, задержать его, не пустить его в дом, чтобы только побыть немного рядом с ним. Но при встрече с Володей я терялась, смущалась, молчала, потому что не находила тех слов, которые мне казалось важным сказать ему, и сама убегала домой. Я считала себя взрослым человеком и не понимала, почему же я не могу разобраться в том, что происходит со мной. Когда же к концу каникул Володя уехал к себе в Ленинград, я почувствовала себя совсем одинокой, брошенным птенцом-подранком.
— Володя, угомонись! — и я вздрагивала от голоса учительницы, произносившей имя моего одноклассника. Забияка и озорник, он стал мне казаться отличным и милым парнем только потому, что его звали Володей. Если кто-то громко окликал кого-то на улице: «Володя!», я, вздрагивая, оглядывалась кругом, ожидая, что вот сейчас из толпы вынырнет мой Володя в неизменной «ковбойке» с расстегнутым воротом и лукавыми смешинками в добрых голубых глазах. Но его не было, солнце меркло в моих глазах, город погружался в сумерки, и я быстро возвращалась домой. Солнце, казалось мне, сияет только там, в Ленинграде, по улицам которого, быть может, именно в этот миг шел Володя, мой Володя...
Запершись в своей комнате, я давала волю слезам! Однажды, когда я, вероятно, забыла закрыть за собой дверь, меня в таком состоянии застала мать.
— Что это с тобой? Что случилось? — сразу же набросилась она на меня с расспросами.
Что я могла ей сказать? Я решила отделаться от ненужных расспросов и сказала, что один одноклассник дал мне подножку и я упала.
— Ах, разбойник, — не в шутку рассердилась мама, — скажи мне, кто это, и я пойду к его родителям...
Но я ей, конечно, ничего не сказала. Да и что я могла ей сказать? Ведь на самом деле не было никакой подножки. Сначала я хотела подшутить и сказать: «Володя», но потом передумала — все шишки посыпались бы на моего одноклассника, который конечно же, был тут ни при чем. А сказать маме правду у меня, наверное, никогда не хватило бы духу, да и не было у меня уверенности, что она правильно поймет меня. Боль моя оставалась со мной...
Как-то ночью я решила, что сейчас напишу моему Володе письмо. «Здравствуй, Володя!» — старательно вывела я и тут же скомкала листок: нет, никуда не годится — слишком сухо. «Дорогой Володя!» — казалось, без всякого моего участия вывела на листке ручка, но я отбросила ее: неприлично девушке так нежно обращаться к парню — этот листок тоже постигла участь первого. «Привет, Володя!» — нет, не то, слишком беспечно и необязательно... Ну как, как обратиться к нему, какими словами описать все, что со мной происходит? От бессилия я зарыдала. Это стало почти правилом — стоило мне остаться наедине с собой, как слезы сами, непроизвольно наворачивались на глаза. Сколько раз я уже засыпала на подушке, насквозь мокрой от слез!..
В школе или дома, во дворе или на улице — перед моими глазами неотступно стоял Володя, мой Володя: высокий, спортивный, голубоглазый, с непокорной челкой светлых, мягких, как шелк, волос. Я закрывала глаза и видела, как приоткрываются его яркие, нежные губы. Мне не надо было напрягать слух, чтобы разобрать, какие слова шепчут эти губы: «Я люблю тебя!» Наивная дурочка? Нет, разумеется, — я прекрасно отдавала себе отчет в том, что это самообман, но ничего не могла с собой поделать — такой это был восхитительный самообман, что я, пожалуй, даже злоупотребляла им, вызывая это чудное видение.
После одной такой бессонной ночи, когда утром я вышла к столу, вероятно, особенно бледной, осунувшейся и с еще красными от непросохших слез глазами, мама решительно приказала:
— Ceгодня никуда не пойдешь! Ты больна, оставайся дома!
— У Наны желтуха! Желтая, как шафран! — запрыгал от радости Партен.
Но я не послушалась маму и пошла в школу. Мои ночные страдания были вознаграждены сторицей! Какой же чуткой, внимательной была наша Теуа Муратовна! Она все поняла, обо всем догадалась! Я верила в искренность ее тактичных, ненавязчивых вопросов, в ее желание помочь мне тем, что в ее силах, но и ей открыться я не могла, а может быть, и не хотела. Я отвечала ей ничего не значащими словами и по глазам ее видела, что она понимает, не осуждает меня, и это было, вероятно, для меня самой ценной наградой в моем тогдашнем томительном ожидании. Ожидании чего?..
Кто не ждет наступления весны? Кого не радует ее приход? Kтo не связывает с ней исполнения своих самых заветных желаний? Нет, наверное, такого человека. Ждала с нетерпением весну и я. Но мне казалось, что никто не ждет ее с большим нетерпением, чем я, — ведь за весной должно было прийти лето, а с первыми днями летних каникул должен приехать Володя! Мой Володя!.. Я радовалась погожим солнечным денькам, я представляла себе — вплоть до малейших деталей — как он входит к нам во двор, как я подхожу и здороваюсь с ним, дружески пожимая протянутую мне руку, как опережая его, я предлагаю: «Давай-ка, Володя, наперегонки!», как он смотрит на меня, ничего не понимая, и как я...
Впрочем, чего уж теперь... Конечно, все произошо совсем не так, как я себе представляла, ибо, едва только услышав о его приезде, я тут же убежала домой и заперлась в своей комнате, прижимая руки к груди и опасаясь, что сердце вот-вот выскочит оттуда. Мне было ясно, как дважды два, что я не в состоянии не только пожать ему руку, но даже ответить на его улыбку. «Лучше уж притвориться, что я не знаю о его приезде», — так я решила, но это была смешная и наивная хитрость, потому что я сразу же прилипла к окну и не было, пожалуй, такой силы, которая могла меня оторвать от него.
И понятно, что я сразу же увидела, как открылась калитка, как вошли во двор ребята — Миха, Ата, Партен, а впереди всех Володя. Мой Володя в белоснежной рубашке с большим отложным воротником. Потом я узнала, что такая рубашка называется апаш. А тогда я только видела, как он вырос, возмужал, стал еще красивее, желаннее, как он гордо и прямо шагает по нашему двору!
Но еще до того, как я открыла окно и высунулась во двор, я услышала такой бесконечно дорогой голос, по которому так скучала, о котором мечтала весь трудный год!
— A-а, щебетунья! Ну где ты там? Выходи! Сейчас побежим с тобой наперегонки!
Опять «наперегонки», опять это ненавистное «щебетунья», о котором я, похоже, успела позабыть, — и я расплакалась. «Для него я ребенок, только ребенок, навсегда останусь ребенком», — проносилось вихрем в моей голове, а из глаз безостановочно текли горькие слезы. И когда ребята вошли, я уткнулась в стенку, пытаясь сдержать рыдания, душившие меня, но вздрагивавшие плечи и сотрясавшаяся от слез спина, конечно же, выдавали меня.
— Что с тобой, Нана? Ты плачешь? — не смог сдержать своего удивления Партен. — Что случилось?
— Что с тобой, щебетунья? — в унисон ему спросил и Володя.
Он взял меня за плечи и повернул к себе, но я не могла оторвать голову от рук и, лишь бы сказать что-нибудь, пробормотала сквозь слезы:
— Кошка оцарапала...
— Ах, эта гадкая кошка! Чуть не съел нашу щебетунью, с кем бы я тогда помчался сегодня наперегонки? — засмеялся Володя и чмокнул меня прямо в макушку. От его близости я чуть не потеряла сознание, но все-таки подумала про себя: «В макушку! Как ребенка! Как игрушку, только живую... Нет, никогда не поймет он меня...»
— Ну что с тобой, Нана? Может быть, ты больна? — серьезно забеспокоился он, стараясь отодрать мои руки от лица и заглянуть мне в глаза, но я лишь заплакала еще сильнее.
— Вот так и плачет с осени, — поспешил вмешаться Партен, — когда кто-то в школе подставил ей подножку...
Володя стоял молча, в некоторой растерянности, не зная, что еще сказать, как поступить. «Может, после этих слов Партена какое-нибудь подозрение закралось ему в душу, — подумала я, — ведь он такой умный, чуткий, внимательный...» И Володя действительно — это было так не похоже на него! — попросил робко, тихо, как маленький:
— Нана, прошу тебя, ну не плачь, пожалуйста... Хочешь, пойдем с нами во двор? — и он взял меня за руку, пытаясь увлечь за собой, но я вырвалась и отрицательно замотала головой. — Ну, хорошо. Тогда успокойся, а потом выходи к нам.
Однако Володя не остался с ребятами во дворе, а направился прямо в дом тетушки Ярны, и то, что он при этом даже словом не перекинулся ни с кем из друзей, даже не пошутил, как обычно, очень обрадовало меня. «Значит, он понял мое состояние правильно? Значит, ему стало больно от моих слез? Значит... Значит...» Я не могла додумать свою мысль, я не мoглa поверить в свое счастье...»
Грохот тяжело рухнувшего тела отвлек меня от чтения, и я увидел распростертого на полу Мыдгу, просовывающего в открывшуюся дверь свое толстое неопрятное лицо, на котором блуждала пьяная ухмылка:
— Слышал, как я грохнулся, дад?! Надо же! Э-э, дад, прошло мое время... Теперь пускай пьет молодежь, а я не могу — возраст уже не тот. Ох-хо-хо, годы берут свое... А ты знаешь, зачем я к тебе шел?..
— Нет, не знаю, — я встал.
— Сиди, сиди, дад. Хотел потолковать с тобой. Партен говорит, ты свой человек. Стало быть с тобой можно быть откровенным?
— Да, конечно.
— Ну, так вот, скажу тебе прямо, как на духу: не повезло нам с единственной нашей невесткой. Определенно не повезло...
— То есть как это?..
— Только прошу тебя, дад, сиди, сиди... Не любит она нас — ни меня, ни свекровь свою, ни мужа... Смотри, — он широко развел руками, — как обставлена комната. Скажи, чего здесь нет? — Он помолчал, ожидая, что я поддержу его. — А для нее всему этому грош цена! Да, грош в базарный день... Не лежит ее душа ни к этому дому, ни к нам, понимаешь? Не будет для нее большей радости, если проснувшись как-нибудь поутру, она всех нас найдет мертвыми...
— Не берите грех на душу! Что вы говорите?! Этого не может быть!
— Да, сынок, это именно так, клянусь тебе прахом отца!.. Обрадуется, вот увидишь, обрадуется...
— Но там, за столом вы так расхваливали ее...
— А что делать, дад, сор из избы кому охота выносить? Всем так говорим, соблюдаем приличие!..
— Но, послушайте, если бы она не любила вашего сына, зачем же ей было замуж за него выходить?
— Вот и мне это интересно было бы знать, уважаемый! Слава богу, мы ее не похищали, все было решено при обоюдном согласии. Впрочем, первое слово сказал Партен...
— Партен?!
— Ну да. Партен. Брат ее старший, который сейчас пирует там, в той комнате. Они же друзья с Мшылды, вместе покупают машины, продают... Вот отец Партена и решил скрепить его дружбу с Мшылды еще и родством. — Он тяжело вздохнул. — Ну что сказать? И собой хороша, и умом бог не обидел, только ненавидит она нас... Почему? Чем мы ей не угодили?.. Всегда ходит хмурая, злая, сердитая, как будто мы у нее отняли, — он поискал глазми по комнате, — какие-то драгоценности... Всем взяла, все при ней, только вот улыбаться, смеяться не научилась. Или, может, разучилась? Ну, скажи, дад, неужели так трудно засмеяться?.. Как бы не так, — зло выкрикнул он, но тут же взял себя в руки и сменил интонацию: — Поговори с ней, дад. Убеди ее, ради бога, пусть улыбается, смеется, а?.. Скажи ей, надо вести себя иначе! Ты сам видел моего сына, скажи, разве не орел?! А? Лев! Можно брезговать таким львом?! Он же, — Мыдга поднял указательный палец вверх и с благоговением раздельно произнес: — Кассир! Скоро «Волга» будет. До этого уже была «Победа», но продал. И единственное, чего мы от нее хотим, — вдруг опять перескочил он, — видеть улыбку, слышать смех... Дом, если в нем не светит улыбка, не звучит смех, разве это дом?!
Сгорбив и без того сутулую спину, он, тяжело ступая, направился в ту комнату, откуда пришел пару минут назад, даже не дождавшись моего ответа. А может быть, мой ответ и не был нужен: накипело, видать у старика, вот и нужно было ему излить душу. В парадной зале Мшылды и Партен пьяно орали слова неладной застольной песни: «Ура, сосоу, ох-хо-хо!..»
— Ну хоть ради брата улыбнись, — донесся до меня голос Мшылды, — не бойся, бог не накажет за это, земля под тобой не провалится. — Трудно было понять, в шутку или всерьез упрашивал он Нану. — Слушай, Партен,— обратился он к своему другу, — она что, и дома не смеялась?..
— Только этим и занималась!
— Так что же произошло, черт возьми! — разозлился Мшылды. — Или вместе с девственностью она и смех потеряла?! — Довольный своей грубой выходкой, он заржал, сотрясаясь всем грузным телом: — Ха-ха-ха!
Почувствовав себя окончательно чужим в этом буйном «празднике жизни», я осторожно прикрыл дверь, чтобы не обращать на себя внимание, быстро нашел то место, на котором прервал мое чтение Мыдга, и снова погрузился в листки, исписанные учительским почерком Наны.
«Я чувствовала, что со мной что-то происходит, что я меняюсь не по дням, а по часам, даже улыбаюсь все реже и реже, а о былом озорном веселье или беззаботном смехе и речи не могло быть. Я ничуть не преувеличила, если бы сказала, что уже забыла, когда в последний раз смеялась легко и свободно, от всей души.
Даже окружающие заметили это. Как-то я услышала, что тетушка Ярна говорит Володе:
— Гляди, как Нана изменилась. Совсем в барышня превратилась. Быстро же растут нынче девчонки!
Володя метнул взгляд в сторону нашего двора и понял, что я все слышала. Он не поддержал тетушку Ярну, но и не возразил ей, он просто промолчал. Однако с этого дня перестал называть меня щебетуньей и предлагать пробежаться наперегонки. Но случилось так, что «щебетунья» все-таки сорвалось с его губ как-то, и я тут же вспыхнула:
— Я для тебя всегда ребенок!..
Володя не смог сдержаться и расхохотался от души:
— А кто же ты, если не ребенок?
— Мне... мне уже... — я собралась с духом и как можно тверже выговорила: — мне уже шестнадцать лет!
Но это еще больше рассмешило Володю:
— Ха-ха, а ты знаешь, насколько я старше тебя? — он сделал многозначительную паузу и назидательно произнес: — на целых четыре года! Вот!
— Подумаешь, четыре года! — поспешила возразить я, чтобы он не подумал, что вот так сразу сразил меня своим возрастным превосходством.
— Нана, а знаешь, когда и какой я впервые увидел тебя? — Володя уже не смеялся.
— Когда? Какой? — я спросила это как можно задорнее, показывая ему, что не боюсь его откровенности.
— Совсем крохотной и совсем голенькой! — с вызовом бросил он. — Ты сидела в ванночке голышом, хныкала, твоя мать терла тебя мочалкой, а я поливал тебя теплой водичкой, смывая мыльную пену! — И Володя расхохотался от всей души.
Я не смогла скрыть своего смущения и уже хотела было рассердиться на него, ответить какой-нибудь колкостью, но не выдержала и, представив себе картину, нарисованную Володей, расхохоталась вместе с ним. Да, вот такой он был, Володя. Сердиться на него не было никакой возможности. Я только обиженно произнесла:
— Теперь иди расскажи об этом всему свету!
— Ну что ты! — сделал притворно серьезное лицо Володя. — Ни одной живой душе! Кроме тебя... Ведь ты уже взрослая барышня! — иронии, как он ни пытался, скрыть ему не удалось.
«Нет, ничего он не понял, — решила я, — ничего. И напрасно только я проплакала целый год!»
— Нана, — обратился однажды ко мне Володя, — почему ты так сердишься, когда я называю тебя ребенком? Разве есть более счастливая пора в жизни человека, чем детство? — И он прочитал мне стихи, две строчки из которых я помню до сих пор: «Умирают царства на земле, детство никогда не умирает!» — Не торопись, — сказал он мне в тот день, — вырасти всегда успеешь.
Как он был прав! Но тогда я думала о другом, мне так хотелось ему сказать: «Может быть, ты и прав, Володя, но ты ничегошеньки не понимаешь. Я потому и хочу быть взрослой, что хочу всегда быть рядом с тобой, что боюсь, ребенком я не интересна для тебя, и еще боюсь, что в один прекрасный день ты пройдешь мимо, не заметив меня, и я навсегда потеряю тебя, боюсь...»
Удивительное дело — я боюсь! Боюсь всего... Вернее, стала бояться. И конечно, у меня не хватало смелости все это сказать Володе, словно все слова улетели куда-то за море, за тридевять земель. Но сам Володя всегда оставался со мной — и в мыслях моих, и, разумеется, перед моими глазами, в воздухе, которым я дышала, в утре каждого нового дня, ибо я засыпала с надеждой, что, проснувшись, вновь увижу его.
Конечно, никто — ни он, ни кто другой — не знал, даже не подозревал этого. Разве можно подозревать утро? Воздух? Мысли? Поэтому каждый мой день был наполнен Володей, и я не уставала несколько раз за день благодарить судьбу за это. Но, видно, и у судьбы бывает плохое настроение, видно, и у нее выпадают тяжелые дни. Именно в такой день, когда судьба явно не была благосклонна ко мне, мама вдруг предложила поехать вместе с Партеном к дяде, у которого всегда любили гостить. Это был ее родной брат, который в нас души не чаял. Мы отвечали ему такой же привязанностью, но уехать сейчас? Сегодня? Предложить такое мне? Когда Володя — вот он, за забором... Уехать от Володи? Даже к любимому дяде! Нет, судьба определенно начала метать в меня свои громы и молнии!..
— Ты так похудела, — уговаривала меня мама, — совсем доканала тебя эта школа!
— Нет, нет, — возражала я ей, — у меня последний год, выпускной... Десятый класс — самый трудный, и я хочу даже на каникулах заниматься...
— Ты можешь взять учебники с собой, — резонно предлагала мне мама.
— Но их слишком много, — не сдавалась я, пока, наконец, мама не оставила меня в покое:
— Ладно! Как знаешь... Не хочешь, сиди дома. Вся равно, что бы мы тебе ни предложили, ты всегда недовольна! Будь по-твоему, но потом — пеняй на себя...
Между тем приближался день отъезда Володи, а мне все не удавалось побыть с ним наедине, когда, как я предполагала, я смогу все сказать ему. Кроме того, я все чаще и чаще задумывалась над тем, что будет со мной, когда он уедет. Пока он жил у тетушки Ярны, я все еще как-то справлялась с собой. Но какой год ждет меня? Опять весь в слезах...
В один из таких дней мама за чем-то послала меня к тете Ярне. Володя стоял на крыльце и брился, заглядывая в небольшое овальное зеркальце, подвешенное за дужку на загнутый кверху гвоздь.
— Прости, пожалуйста, Нана, что бреюсь при тебе, — извинился он, — но я сейчас заканчиваю...
Я кивнула. Он поймал мой кивок в зеркальце и улыбнулся мне, я смотрела, как легко и ловко водит он длинной, чуть изогнутой бритвой по щекам, как при этом играют его бицепсы и как наливается силой всё мускулистое тело, под плотно обтягивающей белоснежной майкой, оттеняющей ровный шоколадный загар. Скосив в мою сторону глаз, Володя спросил:
— Нана, как ты сдала экзамены за девятый класс?
— Неплохо, кажется, только одна тройка — по немецкому... — на нейтральные темы я еще могла говорить с ним.
— Действительно, неплохо, — показалось, что он похвалил меня, — но можно было бы еще лучше, хотя чего об этом говорить сейчас... Куда же ты собираешься поступать на следующий год?
— Не знаю... Куда родители скажут.
— Ну-у-у, — протянул Володя, — вот это уже никуда не годится... Родителей, понятное дело, надо слушаться, но в данном случае важнее, куда лежит твоя душа. Не согласна? — я молчала. — Допустим, родители хотят видеть тебя врачом, а ты мечтаешь быть педагогом. Как быть?..
— Не знаю... — не отвечать казалось мне неприличным.
— О, так нельзя! Нужно поступать только туда, к чем у тебя есть призвание. Вот ты, наверное, думаешь, что я поступил в физкультурный институт только потому, что считаю его самым лучшим? Так нет же! Просто спорт — моя стихия, в нем я — как рыба в воде. А какой предмет твой самый любимый?
— Абхазская литература.
— Ну и прекрасно! Поступай на этот факультет, слава богу, у нас сейчас есть такой.
— Но мама не согласна. Говорит, и так в школе начиталась, хватит...
— Твоя мама рассуждает так, как понимает. Не осуждай ее! Неграмотный человек вообще считает, что раз он говорит на каком-то языке, значит, знает его... Но ты-то ведь так не считаешь!
«Говори, говори, говори же...— молила его в душе я, — брейся подольше и говори...» Ведь занятый бритьем, он не глядел на меня, а я вдосталь могла любоваться им. И, словно бы отвечая на мою немую мольбу, Володя продолжал:
— А то приезжай поступать в Ленинград, Нана. Правда, абхазской литературы у нас нет, но зато в остальном выбор большой — выбирай, что твоей душеньке угодно!
— Ой! — не сдержала я радостного восклицания, едва ли не выдав себя с головой, но Володя понял меня однозначно:
— Любишь Ленинград?..
— Да, — обреченно вздохнула я, — такой большой, красивый...
— Разве ты была в Ленинграде? — удивился он.
— Нет... Но город Ленина не может быть маленьким и некрасивым.
— А ведь верно! — удовлетворенно согласился Володя и, хотя он уже побрился, снова принялся намыливать щеки. «И ему не хочется заканчивать наш разговор», — с ликованием подумала я. Как бы подтверждая мою догадку, Володя заговорил снова:
— Скажи мне, Нана... А почему, помнишь, в тот день, когда я приехал... Почему ты в тот день плакала? Думаешь, я поверил, что тебя кошка оцарапала?! Как бы не так! — он смотрел на меня поверх зеркала, лукаво улыбаясь и ожидая ответа.
У меня все похолодело внутри. Стоило ему тогда взглядом или улыбкой дать мне понять, что он все знает, все понимает, обо всем догадывается, и я... И я... не знаю сама, что было бы тогда, но под взглядом с хитринкой я только стушевалась еще больше. «Он играет со мной, как кошка с мышкой...» — пронеслось у меня в голове и я ответила, как можно независимее:
— Правда... Кошка поцарапала. А больше... Больше что еще могло случиться?..
Почувствовав, что все старания мои напрасны и лицо мое заливается помимо моей воли краской, как наливается в разгар лета помидор, я поняла, что мне лучше уйти, и сделала уже шаг в сторону калитки, но Володя остановил меня:
— Уже уходишь, Нана?
— Да.
— Побудь еще немного, а?
— Нет...
— А хочешь... Хочешь, пойдем сегодня вместе в кино?
«Хочу! Ох, как хочу! Ты и не представляешь себе, как хочу! Хочу, хочу, хочу!» — кричало все внутри меня, но усилием воли я подавила этот крик и с напускным равнодушием спросила:
— А что, какой-нибудь новый фильм?..
В душе же у меня все ликовало: «Пусть старый, пусть трижды старый, пусть хоть десять раз просмотренный, пусть даже немой... Но с Володей... Вдвоем... С Володей вдвоем я была согласна на любой фильм...»
— Думаю, что должен быть новый...
«Ах, какое это имеет значение!..»
Но, оказывается, все имеет значение.
— Что-то ты сегодня долго собираешься, Вади, — раздался голос тетушки Ярны, — раньше, бывало, за минуту управлялся...
— Уже кончаю, — крикнул ей Володя, а мне подмигнул заговорщицки и тихо спросил: — Ну, как — идем сегодня?
— Да, — также тихо прошептала я, не ведая, что творю, — только зайди за мной, ладно?
— Ладно, — быстро согласился Володя, но тут же предложил: — А не лучше, если мы встретимся перед входом в кинотеатр? Скажем, часов в семь?
— Хорошо, будь по-твоему, — так же тихо и согласно прошептала я, быстро сбежав с крыльца.
Если бы Володя не смотрел мне вслед, я бы, наверное, полетела, как птица, до того все пело во мне от радости и счастья. Во всем теле я ощущала такую легкость, будто у меня выросли крылья, и я — еще шаг, еще — полечу сейчас прямо к кинотеатру. Но я была уверена, что он провожает меня взглядом, поэтому старалась идти ровно и медленно. Надо же такому случиться — у самой калитки я споткнулась и от досады готова была провалиться сквозь землю: что подумает Володя?.. «Уже спотыкается, как старушка!..»
... И хотя я рано пришла к месту встречи, Володя уже ждал меня. Я заметила, что и с ним творилось что-то неладное. Когда мы оказались одни, он не шутил, как прежде не подсмеивался надо мной, не поддразнивал, напротив, все больше молчал, а если и начинал говорить, то краснел, даже заикался и никогда не договаривал до конца, словно растерял по дороге остальные слова.
После сеанса, который закончился, как я считала, довольно поздно, мы пошли к морю.
— Присядем, — предложил Володя, а я... я дурочка, запротестовала:
— Нет, нет! Пойдем домой, уже поздно...
Это я в какой-то книге вычитала, что так нужно говорить при первом свидании.
Володя тоже почему-то не настаивал, и мы медленно побрели к дому. Разговор не завязывался, не клеился, сразу же обрывался, и со стороны, надо полагать, мы выглядели смешными, но нам, я думаю, было это безразлично.
У нашей калитки мы остановились, и Володя спросил, что я делаю завтра, не занята ли?..
— Пойдем, посмотрим еще один фильм...
Я молча наклонила голову, волосы упали мне на лицо и вдруг сквозь редкие пряди я почувствовала прикосновение Володиных губ к моей щеке.
Я застыла, не в силах сдвинуться с места, все внутри меня похолодело. Володя давно уже скрылся во дворе своего дома, а я все стояла и шагу не могла ступить...
Противоречивые чувства владели мной. Я думала о том, что первый раз в жизни меня поцеловал парень. «Первый раз!» Но тут же сама одергивала себя: «А разве так можно? Ну, хорошо, — шла я на попятную, — если у него добрые намерения. А если нет? — закрадывалось сомнение. — Нет, — решила я, — я не должна была позволять ему этого делать. «Как будто он спрашивал у тебя!» — усмехаясь, отвечал мне внутренний голос. — Что же мне делать? Как быть? Наверное, завтра при встрече надо показать ему, что я очень сержусь на него. А то он решит, что мне это было очень приятно!.. Вообще-то, признаться, было даже очень приятно. Неожиданно и от того еще более приятно! Но ему этого никак нельзя дать понять. Да, да и об этом я тоже читала в какой-то книге, это был роман и назывался он...
Вероятно, пытаясь вспомнить название романа, я и уснула, наконец.
Говорят, утро вечера мудренее. Это верно. Проснувшись, я уже не помнила о вчерашних страхах и сомнениях. Я жила одной мыслью: сегодня мы снова пойдем в кино, вдвоем, одни, только я и только Володя! И от этой мысли так сладостно щемило в груди, что я тут же принялась готовиться к встрече. Долго выбирала платье, потом начинала гладить его, то и дело подбегала к зеркалу, хваталась за флакончик с духами и снова начинала утюжить и без того уже отглаженное без единой морщинки платье.
Необычное мое поведение не ускользнуло от мамы. Очевидно, она заподозрила что-то, потому что вдруг сиросила.
— Ты вчера где была?
— В кино... Я уже тебе говорила об этом.
— С кем?
— И об этом ты уже спрашивала... С подружками.
— А больше никого не было с тобой?
— Да, вроде, никого, — невинно отвечала я ей.
— А разве Володя не был с тобой?
— А-а-а... И он тоже был, да, — старалась я придать своему голосу беспечность.
Голос у меня ни разу не дрогнул. Я даже не покраснела. Должно быть, смелость придала мне силы, и я была довольна тем, как держусь на той скользкой тропе, на которую меня вывела мама. Но она не тот человек, которого можно обезоружить бесхитростностью. И если уж подозрение завладело ею, она будет пытаться до конца разобраться в нем.
— Не рано ли у тебя появились тайны от меня? Знаю я, знаю, зачем этот кувыркун ходит к нам в дом со своими шуточками и смешочками! Вижу, и как ты краснеешь-бледнеешь при этом! Так вот, чтобы я вас больше вместе не видела! Ясно?!
— Что ты говоришь, мама? Он очень хороший товарищ! Услышит — еще обидится...
Много позднее я узнала, что подозрение в сердце мамы заронила Ярна, Володина тетя. Это она сказала маме: «Следи, соседка, за своей дочкой, а я за своим племянником послежу. Сдается мне, что затевается что-то промеж них. Как бы каких глупостей не натворили... Моему-то что, он парень! Вот как бы дочку твою не ославили!..»
Под двойным надзором и речи не могло быть о том, чтобы встречаться наедине. Но мы с Володей все равно продолжали видеться. Когда я пошла с подружками в театр, и Володя с товарищами оказался там. То ли случайно, то ли наши друзья догадывались о симпатии, возникшей между нами, но Володю посадили рядом со мной, и мы весь концерт проговорили друг с другом. Именно тогда Володя сказал мне:
— Нана, — сказал он, — как только сдашь последний экзамен, приезжай в Ленинград. Поступать будешь у нас...
— А если провалюсь?..
— Я с тобой буду заниматься. А нет — попытаешься еще через год... Год же этот поживешь у нас.
— В чужом доме?! Да ты что! Кто же мне это разрешит?!
— Почему в чужом доме?.. В своем...
— Но это же твой дом, а не мой!
— Вот я и хочу, Нана, чтобы мой дом стал и твоим... Нашим общим домом...
Володя так крепко держал мою руку в своей, что освободиться не было никакой возможности, да и желания, сказать правду, тоже не было.
Тут кончился концерт, и продолжить разговор мы не смогли, так как наши друзья вслух делились своими впечатлениями и, хотя мы с Володей не принимали участия в этой стихийно возникшей дискуссии, но и отделиться от ребят было тоже как-то неловко. Так, всей компанией и подошли к нашему дому. Улучив минутку, Володя наклонился ко мне и тихо сказал, глядя мне прямо в глаза:
— Нана, подумай, пожалуйста, серьезно над тем, что я тебе сказал...
Случается же такое! До сих пор ума не приложу, кто именно поспешил донести эти слова до маминых ушей, во всяком случае, факт остается фактом. Не далее как на следующий же день приступила она ко мне с допросом:
— О чем тебя просил подумать этот кувыркун? Что он тебе сказал такое?
И так, и этак увиливала я от прямого ответа, пoнимая, что ничего хорошего не ожидает меня. То ли силы наши были слишком неравными, то ли мама оказалась упорнее, но заставила-таки она меня все-все рассказать ей. А когда я призналась, что мы с Володей любим друг друга и хотим пожениться, тут и началось...
— Ах, вот ты о чем помышляешь, бесстыжая! — взорвалась мать, влепила мне сильную оплеуху и затем, как маленькой, всласть надавала мне затрещин, не разбирая, куда опускаются ее отяжелевшие от гнева руки!
После такого внушения мне было стыдно показаться Володе на глаза. Я считала, что признавшись во всем, предала не только себя, но и его. От этого нестерпимого стыда я была готова провалиться сквозь землю. Не знаю, сколько бы продолжалось мое добровольное затворничество, на которое я обрекла себя, решив не выходить из своей комнаты, если бы на второй или третий день не влетел ко мне малышка Ата, двоюродный братик Володи. Он ворвался, как метеор, сунул мне в руку записку и столь же стремительно вылетел обратно со словами:
— Я поиграю пока во дворе, Наа...
Дрожащими от нетерпения руками развернула я записку и впилась в нее затуманенными от слез глазами. Строчки прыгали, слова налезали друг на друга, но суть ее я уловила без труда. Володя писал, что завтра уезжает в Ленинград — уже взял билет! — так как здесь ему делать больше нечего, коль скоро нашим встречам наступил конец, ибо приезжал сюда он только ради меня. В конце записки он просил прийти на вокзал к отходу ленинградского поезда и подписался «твой Володя».
Эти слова «твой Володя» заслонили в моем сознании все остаальное, и я, как безумная, повторяла «твой Володя», «твой Володя», пока, наконец, не догадалась поправить себя: «Нет, мой Володя!..» Мой, мой, мой, сам написал, что мой! Зачарованно твердила я: «Мой, мой, мой...», и тут только дошел до меня смысл сказанного в записке. Мой, но завтра он уезжает, а это значит,
что больше я не увижу его. Завтра ленинградский экспресс умчит мое счастье далеко-далеко на север, и вряд ли оно когда-нибудь снова возвратится сюда.
Мне стало страшно. Воочию я увидела, как разверзлась передо мной глубокая пропасть, в которую я лечу и которая неизбежно поглотит меня, потому что чьи-то руки упорно подталкивают меня — о, ужас, я узнаю мамины руки и руки тети Ярны, я упираюсь, я не хочу,
я уже вижу голубоватые тени тумана, поднимающегося со дна пропасти, я ощущаю какой-то легкий толчок, невесомость — все: камнем я падаю вниз, на дно... От страха я, наверное, закричала, потому что в комнату снова пулей взлетел испуганный Ата.
— Ты звала меня, Наа?..
Я понимала, что прежде всего надо успокоить ни в чем неповинного ребенка, но рыдания душили меня, вместо слов вылетали только всхлипы, и Ата испугался еще больше: головка его опустилась, нижняя губка задрожала — верный признак того, что вот-вот расплачется и он. Но, как настоящий мужчина, этот ребенок переборол набегавшие слезы и, приблизившись, начал упрашивать меня, поглаживая по волосам:
— Наа, не плачь, не надо... Тебе больно, да?.. Скажи, где у тебя болит?..
В свои пять или шесть лет он уже твердо усвоил, что человек плачет, когда ему больно. Растроганная этим маленьким рыцарем, я взяла его руки в ладони и приложила к своему сердцу:
— Здесь болит, маленький, здесь!
Ата медленно убрал свою руку и вдруг снова бросился вон из комнаты. И вновь моими мыслями безраздельно завладел его брат — Володя, мой Володя. Впрочем, трезво спросила я себя, почему мой? Ведь он уезжает, значит, покидает, оставляет меня, а вдали от меня... Кто знает, что будет с ним вдали от меня?!
Мое воспаленное воображение услужливо рисовало одну картину невыносимее другой, но все в общем сводилось к тому, что там, в Ленинграде, Володя обязательно позабудет меня. Там, в Ленинграде, столько красивых девушек, столько ослепительных улыбок, столько пленительных взоров, что они обязательно очаруют, уведут от меня Володю. И мой Володя, мое голубоглазое счастье уплывет к другой. Володя... Что ж, вместо «Щебетунья» Володя легко придумает другое ласковое имя...
От этого мне стало совсем невмоготу, слезы ударили из меня фонтаном, я зарыдала в голос, открыто, отбросив подушку, ни от кого не таясь, лишь время от времени, как попугай, повторяя одно и то же:
— Ах, мама, мама... Ну, почему... Почему ты так против моего счастья? Мое сердце не выдержит, разорвется...
И тут Ата ввел за руку в комнату мою мать.
— Что с твоим сердцем?.. — неласково спросила она. Тон ее не предвещал ничего хорошего. Поэтому и я ответила с вызовом:
— Ничего!
— Тогда зачем плачешь? А ты, нан, — обратилась она к мальчику, — иди, иди к себе.
Наверное, все, чему он стал свидетелем, показалось ему кошмарным сном, потому что Ата беспрекословно повиновался и вышел, а мать снова принялась за меня:
— Сейчас же выложи все, как на духу, что натворил с тобой этот проклятый кувыркун! — завопила она. — Да не смей ничего утаивать! Все равно к врачу я тебя отведу! Слышишь?! Не для потехи проклятого кувыркуна я растила тебя, неблагодарная!..
— Не смей, — закричала и я, — не смей так говорить о Володе! Он хороший! Он не способен на подлость!
Чтобы скрыть слезы, выдававшие мою слабость, я стала усиленно тереть глаза, но лишь размазывала слезы по лицу, потому что остановить их было невозможно, ибо мать разорялась все больше и больше, возводя на Володю одну напраслину за другой. Наконец, она выложила, как должно быть, думала последний и неотразимый козырь:
— Знаю я, знаю твоего Володю...
«И она называет Володю моим, а он уже не мой, он уезжает...»
— Знаю я его! Весь в отца! Как две капли воды похож! Такой же бессовестный и беспутный!.. Ты знаешь, что натворил его отец?..
— Не знаю и знать не хочу! Я знаю только Володю и верю только ему! Мне нет дела до его отца! Я люблю Володю, мама, и без него не будет мне жизни...
— Выкинь его из головы!.. Только через мой труп!.. Пока я жива, не бывать этому!.. Забудь об этом!.. — злобно, словно в беспамятстве выкрикивала она. — Я тебя растила, я тебя воспитывала, и я скажу тебе, когда и за кого выходить замуж!
— Но почему не Володя, мама?! Что он сделал тебе плохого? Почему ты его так ненавидишь?..
— У-у, проклятое семя!.. Яблоко от яблони недалеко падает... Его отец был женат на дочери брата моей бабушки! И в один прекрасный день все люди узнали, что oн спутался с невесткой жены. У-у, потерявший совесть, подлец! Потому-то он и подался куда-то на север, где не узнают о его похождениях. К нам же, в Абхазию, ему и нос показывать стыдно. Теперь понимаешь?
— Понимаю... То есть нет, не понимаю... — Я совсем запуталась. — Про отца понимаю, не понимаю про Володю! Он-то тут при чем? Чем он виноват? Он в чем провинился? Не вижу, не знаю, не понимаю!.. Об одном прошу, мама, не губи меня! Не отнимай единственного моего счастья! Хочешь на коленях буду тебя молить? Я этого не перенесу, не переживу...
— Ничего с тобой не случится! — мама была неумолима. — Все, что надо, у тебя есть. Слава богу, ни в чем не нуждаешься: одета, обута, что еще надо — ешь, учись... Отец у тебя есть, мать есть, брат орлом стоит рядом с тобой. Неблагодарная!.. Придет время, и мы сами выдадим тебя замуж. А задумаешь бежать с ним, так пеняй на себя! Видишь веревку? Повешусь, как только узнаю об этом! И пусть тогда все указывают на тебя пальцем: вот из-за нее мать наложила на себя руки!
С тем мама и ушла.
На этом, пожалуй, кончается и история моей первой и единственной любви. Осталось дописать совсем немного.
Дней через десять после этого разговора пришло от Володи письмо. Он писал, что ждал меня на вокзале, до последней минуты, надеясь, что я приду, что он все скажет мне. Из его письма мне стало ясно, что он либо знал о происшедшем в нашем доме, либо догадался, потому что даже среднюю школу предлагал окончить у него, в Ленинграде. Если родители и будут против, успокаивал меня Володя, то лишь в начале, на первый порах, пройдет немного времени и они простят меня. И хотя он писал, что все матери одинаковы — они желают только лучшего своим детям, хотя и не всегда знают, где оно, это лучшее — счастье их детей, — он не знал моей матери. Володя был прав: каждый человек должен сам бороться за свое счастье, но построить его на несчастье моей матери я не могла.
Письмо Володи было теплым, очень нежным, он называл меня разными ласковыми словами, и мне тоже хотелось ответить ему любящими словами, которые переполняли мое сердце. Но что-то, видимо, перегорело в нем, потому что рука моя выводила чужие, холодные слова: мол, спасибо за письмо, но больше никогда не пиши мне и не спрашивай меня, почему я так решила. Даже не подписавшись, я отправила конверт в Ленинград, отныне недоступный, далекий, недосягаемый.
Продолжение у этой истории малоинтересное.
У Володи семья, двое детей. Нашел-таки счастье с другой... К нам, к морю он больше не приезжает. Может, больно ему встретить меня? Или не может простить своей тете, что и она стала помехой нашему счастью? Но семья есть и у меня! Семья!.. Разве лишили бы родители меня «счастья»?! Нашли, не обделили! Часто навещают, сидят за столом, поднимают тосты — так, говорят пустые слова. Им и дела нет до того, что мне здесь все чуждо, не любо — ведь в этом доме за счастье почитают богатство. Да и нас — женщин ценят по тому, сколько кур зарезали мы к столу, как приготовили мамалыгу, как споро и проворно меняем тарелки с закуской и графины с вином.
Я уже ничего не жду от жизни, распрощалась и с мечтой о счастье, ведь мертвое не воскресишь! Но и здесь, в этом доме, я потому, что отчий кров стал еще более чужд мне. Там занялся огонек любви в моем сердце, там разгорелся он во всепоглощающий пожар, в котором сгорело и само мое бедное сердце, там я начала покрываться ледяной коркой, которая со временем превратилась в мощный панцырь, защищающий меня от всех, кто отказывается понимать меня. Жаль мне только своей свекрови — никто здесь не считается с ней. Жаль и мужа — ведь он полагает, что я составлю его счастье, он жаждет любви, женской ласки, тепла моего сердца, но ничего этого я не могу дать ему — обуглившиеся головешки не возгорятся вновь...
Каков же итог? Обошло меня счастье стороной? Да, это так. Но не совсем. Я не разочаровалась в жизни, нет! Пусть у меня не будет личного счастья, пусть! Но жизнь не обделила меня другим счастьем. У меня есть мой любимый учительский труд, мои ученики, которые ждут от меня знаний, и каждый день я должна им давать что-то новое. Поэтому целый день они мои, они принадлежат только мне, и лишь на вечер я возвращаю их родителям. Они помогают мне чувствовать себя человеком, ощущать свою нужность, полезность, необходимость.
И мне нельзя обмануть их ожидания. Но чтобы давать им все больше и больше, чтобы ближе и понятнее становился мир их широко распахнутым глазам, и я — да, и я — должна все время пополнять свои знания. Потому я твердо решила: надо учиться, надо продолжать свое образование и я обязательно сделаю это — вот только отправлю лечиться свою свекровь. Ведь она больна, но ни муж, ни сын не придают этому серьезного значения. Она ходит не в силах сдержать стон, но не встречает ни сочувствия, ни сострадания. «Ну вот, опять начала!» — недовольно бурчат двое мужчин. И тогда, когда сочту свой долг по отношению к ней исполненным, отправлюсь в поход за новыми, более глубокими знаниями, уеду учиться...»
Здесь обрывались записки Наны, хотя свободного места на последнем листке оставалось еще много. Я отложил листки в сторону и задумался, конец ли это ее запискам или она еще продолжит их, а если продолжит, то суждено ли будет мне еще вот так ненароком познакомиться с ними. Я собрал листки, осторожно и нежно разгладил — в них обитала живая душа Наны и мне не хотелось причинить ей боль. Напротив, захотелось поддержать эту исстрадавшуюся душу в таком невероятно сложном и трудном деле, как жизнь. Но ничего путного нe приходило в голову, и тогда, не раздумывая долго, я достал из кармана авторучку и размашисто черкнул на свободном месте: «Нана, ты настоящий человек! Извини, что прочел без спроса!» И тут же отругал себя: «Как будто резолюцию наложил, недотепа!» Но исправить уже ничего было нельзя, оставалось только аккуратно подобрать листки, вложить в книгу, поставить ее
на прежнее место, что я и не замедлил исполнить.
В комнате этой без Наны стало очень неуютно, и я вышел в парадную залу. Здесь было накурено. Табачный дым ел глаза, и только по голосам: «Ох-хо-хо, поднимем, поднимем бокалы... Эй, женщины, поворачивайтесь... Ура! Ура!» можно было определить, где находятся Партен и Мшылды. Они уже не восседали чинно за столом, а стояли, покачиваясь и поддерживая друг друга, безвольно размахивая бокалами и проливая вино на пол. Я попытался было проскользнуть мимо них, но был остановлен громовым голосом Мшылды, которого, очевидно, вдохновило мое появление:
— О-о, вот, выспавшись, явился и наш гость! Штраф с него, штраф! Надо заставить его выпить штрафной! — Пьяно икая, Мшылды двинулся ко мне.
Я увидел приближающуюся красную, налившуюся морду Мшылды и рядом бледного, как полотно, Партена. Он, должно быть, не хотел отставать от «нашего зятя». Мне удалось увернуться от них, и я выскочил на веранду. Яркий солнечный свет резанул по глазам, я зажмурился, в белесой темени шли зеленоватые круги. Медленно, очень медленно разжимал я веки и, когда глаза привыкли к свету, увидел в беседке Нану, горячо убеждавшую в чем-то девочку-подростка, вероятно, свою ученицу, потому что была она в школьной форме и с комсомольским значком на груди.
— Вот оно, Нанино счастье! — тихо промолвил я, глядя на них, и спустился во двор.
Смотрел ли я теперь на Нану другими глазами? Не скажу, не знаю. Но Нана обратила ко мне свой вопросительный взгляд, и я спросил первое, что пришло на ум.
— Нана, а когда ты готовишься к урокам, проверяешь тетради?
— Ночью, когда все уснут...
— В котором же это часу?
— Раз на раз не приходится... Когда в два, когда в три, а иногда и под утро.
И в эту ночь Нана тоже не сомкнула глаз, хотя и по другой причине: Партен, видимо перепил, ему стало плохо и она до утра меняла ему холодные компрессы.
После завтрака, отведя Партена в сторонку, я убедил его на эту тему разговора с Наной не затевать, уверенный в том, что именно он, Партен, никак ей не поможет. Неожиданно для меня Партен безропотно согласился, мы попрощались и уехали.
Пока выбирались на шоссе, Партен молчал, как мне казалось, погруженный в свои думы, быть может навеянные тем, что удалось услышать и увидеть. Но Партен всегда Партен. И едва только «Волга» набрала скорость, плавно покатив по шоссе, как Партен разверз свои уста:
— Чудит, эта Нана, ей-богу, и все-то у них в полном порядке!
— Н-да... — неопределенно промямлил я. Говорить с Партеном на эту тему не было никакого желания, он же, напротив, горел желанием заручиться еще одним союзником.
— Видал, как живут?! — сел он на своего любимого конька.
— Н-да... Видал, — не очень уверенно поддакнул я.
— Пусть Нана меня благодарит за свое счастье! — разошелся тогда во всю Партен. — Все это — моих рук дело... Представляешь, ей, оказывается, нравился этот кувыркун, ну, племянник Ярны. Помнишь его?.. Она даже матери призналась, что любит его. Хорошо, что я слишком поздно узнал об этом, а то бы всыпал обоим — и этой взбалмошной девчонке, и этому физкультурнику. Не посмотрел бы, что она — моя сестра, а он — спортсмен-разрядник!.. Да-а-а, скоро и у нашего зятя будет «Волга», — как обычно, перескочил он с одного на другое. — Видал, как нас принимали? — Я не отвечал, и Партен, обеспокоенный, даже повернулся ко мне: — Что, плохо?
— Да нет, что ты!
— Вот то-то и оно! Такое счастье ей привалило, а она... А она... — от возмущения он видимо не находил слов. — А ей хоть бы хны! Ходит злюка злюкой. Ну что ей стоит улыбнуться!..
______________________________________
Перевод с абхазского Д. Дальнева.
______________________________________
(Публикуется по изданию: Чкадуа Ш. "Чужой дом. (Повести и рассказы)". — Сухуми: Алашара: 1985. С. 103-254.)
(Сканирование, вычитка — Абхазская интернет-библиотека.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
