ГЛАBA III
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОСНОВЫ И ЭТНОГРАФИЗМ РОМАНА В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ.
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КРИТЕРИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ И ЭВОЛЮЦИИ АПСУАРА
(Д. ГУЛИА. «КАМАЧИЧ», 1935-1947; Б. ШИНКУБА. «РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ», 1982-1998)
Может показаться, что в данной главе в одной плоскости исследуются два совершенно разных, несовместимых художественных произведения, тем более что роман Д. Гулиа «Камачич» написан в эпоху становления национальной литературы и формирования крупных эпических форм прозы, т. е. в первой половине XX в., а «Рассеченный камень» Б. Шинкуба — в конце столетия, когда литература уже достигла определенных высот. И в художественном отношении они стоят далеко друг от друга. Однако их объединяет многое. Во-первых, в этих романах сильно отражаются фольклорно-литературные связи и этнографизм. Во-вторых, авторы художественно исследуют прошлое народа не через описание исторических событий и раскрытие образов исторических личностей (как в обычных исторических романах), а через отражение внутренних этнокультурных процессов, судьбы Апсуара (этической культуры, обычаев, традиций и т. д.), которая претерпевала трансформацию под воздействием тех или иных исторических, «цивилизационных» явлений, но сохраняла лицо нации. В произведениях в качестве «исторических личностей» выступают сами авторы-повествователи — свидетели событий, описанных в романах, ибо в творениях (особенно в «Рассеченном камне») сильно присутствие автобиографического элемента. Писатели стремятся раскрыть индивидуальное «Я» личности, тесно связанное с этническим самосознанием, этническим «Я». В результате и Д. Гулиа, и Б. Шинкуба затронули сложную философию этноса, этнософию, изнутри создавая этнический портрет народа, который с течением времени может изменяться под воздействием изменяющейся действительности. Но это изменение может происходить в худшую сторону, по пути нравственной деградации народа (роман «Рассеченный камень»). В такой ситуации писатели пытаются хотя бы в художественном произведении сохранить лучшие черты народа и предотвратить процесс забвения духовного, культурного и этического наследия этноса, процесс потери исторической памяти.
119
Тем не менее, заметим, что этнографизм и фольклорные элементы по-разному функционируют в романах Д. Гулиа и Б. Шинкуба. В романе «Камачич» они главным образом связаны с решением «этнографических» задач, а в «Рассеченном камне» они несут на себе большую художественную нагрузку.
Прежде чем перейти к рассмотрению романа Д. И. Гулиа «Камачич», необходимо хотя бы вкратце остановиться на этнографических и историографических работах основоположника абхазской литературы, то есть поговорить о Д. И. Гулиа-историке.
Он один из зачинателей абхазской исторической науки (1). Гулиа автор ряда научных работ, вышедших в 20-х годах XX в. Среди них «Божество охоты и охотничий язык у абхазов. (К этнографии Абхазии)» (Сухум, 1926), «Культ козла у абхазов. (К этнографии абхазов)» (Сухум, 1928), «Сухум не Диоскурия» (1934) и, конечно же, «История Абхазии. Т. 1.» (Тифлис, 1925) — первое фундаментальное исследование о древней истории и культуре абхазов, в котором сконцентрировано большое количество исторического, этнографического, лингвистического и фольклорного материала; из-за этой монографии жизнь Дмитрия Иосифовича оказалась в драматической ситуации, ибо тогда считалось, что никакой истории абхазов не было, да и само существование народа ставилось под сомнение. Трагическая история книги «История Абхазии» развернулась не в 20-е годы, после фактической публикации труда, а спустя двадцать пять лет, в конце 40-х — начале 50-х годов. Именно тогда, как мы писали в предыдущей части работы, подверглась острой критике повесть сына патриарха Г. Гулиа «Черные гости». Вроде бы случайное совпадение. Но дело в том, что и отец, и сын посягнули на запретную тему: они попытались взглянуть на прошлое родного народа, оказавшегося на грани исчезновения, и изложить свою позицию. И отца, и сына обвиняли в национализме.
В статье «Страницы моей жизни» (15 марта 1960 г.), написанной по просьбе редакции журнала «Вопросы литературы», Д. Гулиа, вспоминая историю создания своей монографии, отмечал: «Хорошо писать стихи на родном языке для родного народа. Но я как-то спросил себя: а кто такие абхазцы? Что я знаю об их истории, происхождении? Какому языку родствен их язык? Оказалось, что история Абхазии не изучена, не систематизирована, есть только разрозненные сведения о ней, о народе. И мне захотелось написать историю Абхазии. Это было трудное дело, слишком трудное, и тем не менее я приступил к нему, не сробел. И вот в 1925 году вышла моя книга “История Абхазии. Т. 1.” В этой книге, могу сказать смело, несмотря на недостатки, имеются и полезные сведения. Худо ли он получилась или хорошо, а потратил я на нее лет десять кропотливого труда»(2).
В 20-х годах труд Д. И. Гулиа был высоко оценен академиком Н. Я. Марром. «... Бесспорный факт, — писал он, — что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни один ученый ни в Европе, ни на Кавказе... не
120
удосуживался и не скоро удосужится для составления работы, по глубине искреннего интереса, подобной той, которая уже готова у Д. И. Гулиа» (3). Добавим: ни один историк до Гулиа так широко не привлекал материалы смежных наук: лингвистики, историографии, этнографии, фольклористики и т. д.
Марр был совершенно прав: после «Истории Абхазии» Д. Гулиа пройдут десятилетия, прежде чем появятся фундаментальные исследования о древнейшей истории абхазов. Впрочем, сам Н. Я. Марр — основатель Абхазского научно-исследовательского института, сыграл значительную роль в развитии абхазоведения, шире — кавказоведения (лингвистики, историографии и т. д.).
Д. Гулиа в своем труде опирается на многие известные в то время греческие, грузинские, армянские, немецкие, русские и другие источники, а также на абхазские лингвистические и этнографические материалы. Недоставало, конечно, данных об археологических памятниках; тогда археологии как таковой и не было, или она только-только зарождалась как наука.
Не прошли даром тесные творческие и дружественные связи Гулиа с крупными представителями грузинской научной интеллигенции: с И. А. Джавахишвили — бывшим в 20-х годах ректором Тбилисского государственного университета, в котором Д. Гулиа вел лекции по абхазскому языку и истории в 1924-1926 гг., с С. Н. Джанашиа, К. Д. Мачавариани и другими.
Дмитрий Иосифович высоко ценил эти контакты и с большим уважением относился к ученым. Известно, в частности, его мнение о И. Джавахишвили. Сын патриарха Георгий Гулиа вспоминал: «Это настоящий ученый, — говорил о нем (о И. Джавахишвили. — В. Б.) отец. — Он пишет не в соответствии с газетными заметками, которые быстро забываются, а в полном согласии с исторической правдой» (4).
В одной беседе Д. Гулиа с И. Джавахишвили в 1929 г., грузинский ученый отмечал, что «История Абхазии» дает наиболее полный список абхазских царей, и что «абхазские цари не Багратиды, как это канонически утверждалось, а Ачба» (5). Когда Д. Гулиа коснулся эпохи средневекового абхазо-грузинского царства, Джавахишвили сказал, что «не в том дело, кто кого поглотил или кто кого покорил, а в том, чтобы установить истину. А истина при всех обстоятельствах будет служить дружбе между двумя нашими народами... Дорогой Дмитрий, давайте будем искать и доискиваться правды и только правды. И тогда нам не будет страшен никакой ученый фальсификатор» (6). А за правду, как правило, могли репрессировать, уничтожить.
Во время работы в Тбилиси Д. Гулиа дополнил «Историю Абхазии» новыми материалами. Вместе с тем, впоследствии, книгой Гулиа широко пользовались в своих лекциях и научных трудах И. Джавахишвили, С. Джанашиа, Н. Марр и другие.
«История Абхазии» состоит из 9-ти глав и Приложения; по времени охватывает более 4-х тысяч лет (т. е. III тысячелетие до н. э. — X в. н. э.). Отдельные главы и части посвящены абхазскому языку, фольклору и традиционным религиозным верованиям; эти материалы по сей день имеют научную ценность.
121
В приложении автор проводит сопоставительный анализ абхазской лексики с древними языками Передней Азии, Африки и Испании: с хеттским, бушменским, баскским и шумерским языками; дает характеристики многих абхазских топонимических названий, собственных имен и названий месяцев, дней недели, звезд и времен года. Основная часть труда сосредоточена на исследовании проблем этногенеза и культурогенеза абхазов.
Д. Гулиа придерживался концепции «южного», в частности эфиопско-египетского происхождения абхазов. Такое мнение высказывали до него Н. Марр, П. Услар, А. Грен и другие, но оно не смогло утвердиться в советской исторической науке, тем более в абхазской историографии. Эта гипотеза, видимо, была спровоцирована сведениями древнегреческого историка Геродота о египетском происхождении колхов, которых Д. Гулиа считал ближайшими предками абхазов. С моей точки зрения, эти вопросы и сейчас еще не получили полного ответа, однако отмечу, что на многие проблемы, затронутые в «Истории Абхазии», впоследствии обратили внимание востоковеды и кавказоведы, в их числе Вяч. Вс. Иванов, Ш. Д. Инал-ипа, И. М. Дунаевская, И. М. Дьяконов, Т. М. Гамкрелидзе, В. Г. Ардзинба и др. Они фактически подтвердили ряд положений исследования Гулиа. Речь прежде всего идет о родстве абхазо-адыгских языков с языками народов древней Передней Азии (Малой Анатолии), в частности с хаттским языком. И. М. Дьяконов, например, еще в 50-х годах отмечал, что хаттский язык, возможно, представляет собой очень древнее ответвление от абхазо-адыгской группы (7). К сожалению, «Историю Абхазии» Гулиа, которая содержала ценнейший материал по истории, этнографии, лингвистике и фольклору, мало кто вспоминал и ссылался на нее. Возможно, на восприятие труда оказала негативное влияние та трагическая история книги Гулиа, которая разыгралась, как говорилось выше, в конце 40-х — начале 50-х годов, когда за правду могли расстрелять. Критика «Истории Абхазии» настолько была сильна, что жизнь Дмитрия Иосифовича оказалась в опасности. Всерьез забеспокоился и сын патриарха Георгий Гулиа — молодой писатель, успевший завоевать читательские симпатии своими повестями, в частности повестью «Весна в Сакене», переведенной уже тогда на многие языки мира. Д. Гулиа могли репрессировать за «Историю Абхазии» и, вероятно, за роман «Камачич», где с точки зрения социалистического реализма явно недостаточно была отражена классовая борьба. Одним из активных организаторов критики труда Д. Гулиа был бывший председатель Совета министров Абхазии М. Делба. Однако, несмотря на резкое неприятие книги Д. Гулиа, все критики были согласны с тем, что в «Истории Абхазии» собран огромный ценный исторический материал, что Гулиа, как никто другой, широко опирался на этнографию, лингвистику и фольклор.
В 1951 г. появляется брошюра в объеме 19 страниц «О моей книге “История Абхазии”», подписанная Д. Гулиа. Она вышла на грузинском, русском и абхазском языках; тираж каждого издания в тех условиях был большой — 4 150 экземпляров (в целом 12 450 экз.). Ни одно произведение самого Гулиа, да и других
122
писателей, в то время не достигало такого тиража, в основном тиражи книг составляли 500—1000 экз., очень редко — 3000. Ужаснулся абхазский читатель, который учился на учебниках и произведениях Д. Гулиа. Заметив в Российской государственной библиотеке эту книжку, я, естественно, ознакомился с текстом и тоже, конечно, был ошеломлен; мысленно представил состояние многих абхазских читателей начала 50-х годов, которые за 1 рубль купили брошюру, дабы прочесть новую работу любимого патриарха. Вероятно, они его здорово ругали. Для других читателей, понятно, брошюра явно стала подарком. В мировой науке и литературе редко встретишь такой пример, когда ученый или писатель беспощадно критикует свой труд или произведение. Значит, ситуация действительно была критическая, видимо, иного выхода не было.
Чтобы объяснить эмоции, вызванные брошюрой «О моей книге “История Абхазии”», полистаем ее и приведем некоторые отрывки: «В силу целого ряда причин в давно прошедшее время из моих рук вышла путаная в своих посылках и выводах, не марксистская, антинаучная работа, изобилующая ошибками фактического и методологического характера... Есть и другая сторона дела, для которой невозможно подыскать никакого оправдания, кроме разве молчаливо принятого мною решения предать забвению незрелое свое творение из-за очевидной шаткости основания и пороков, увенчающих его...» (8).
Далее автор, критикуя тезис о египетском происхождении предков абхазов, отмечает: «Я должен сказать, что и в этом отношении, как во многих других абхазоведных вопросах, мы, в частности и я, не избегли... неимоверно вредного влияния антимарксистской концепции Н. Я. Марра, абсурдность общелингвистической теории которого стала для нас ясной только после недавнего выхода в свет гениальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания... Основываясь на мало знакомых мне и сомнительных выводах “новых трудов немецких ученых” и других крохоборствующих исследователей, я допустил, что завоеватели Египта гиксосы, ввиду частых мятежей среди египтян, “должны были часть египтян и эфиопов выселить в свою страну и на ее окраины — в области, смежные с Закавказьем... Потомками этих невольных переселенцев и могли явиться отчасти те колхи, египетское происхождение которых для Геродота стояло вне сомнения”. Я утверждал родство абхазов также с семитами и хамитами, исходя из родства языков семитических и яфетических» (9).
Первая часть брошюры завершается словами, что «абхазы жили всегда одной исторической и культурной жизнью с грузинами, что абхазы, собственно, те же грузины» (10) и т. д. и т. п. Далее речь идет только о грузинской истории и отвергается собственно история абхазского народа.
Дело в том, что Д. Гулиа действительно не писал работу «О моей книге “История Абхазии”». И настало время, когда он смог во всеуслышание заявить, что он не автор этой позорной брошюры. Как писал Г. Гулиа, «решением соответствующих организаций брошюра была изъята из обращения в библиотеках» (11). Это, конечно, не совсем так, ибо я сам спокойно взял ее в библиотеке и прочел;
123
к сожалению, рядом не было другой брошюры, которая разъясняла бы историю возникновения этой фальсификации, порочащей имя патриарха. Впоследствии, бывший председатель абхазского правительства М. Делба писал, что он сожалеет о том, что тогда настоял на выпуске брошюры, хотя она не была написана Д. Гулиа, а сделал это потому, что хотел отвести от патриарха «грозовые тучи», которые собирались над его головой. Этот эпизод присутствует и в книге Г. Гулиа «Повесть о моем отце» (12). Все же, видимо, М. Делба слукавил. Вероятнее всего, постоянно насаждавшийся страх являлся причиной всех бед, которыми заполнилась жизнь многих людей. Прочитаем самого М. Делба, который в письме в Абхазский обком Компартии Грузии отмечал: «Как видно из моих брошюр “Дмитрий Гулиа” (1949) и “К вопросу изучения языка и истории абхазов” (1951), я выдвинул и отстаивал ошибочные взгляды о том, что абхазцы не являются этнически самостоятельной единицей, что по существу означало, что они не составляют народа. Из отдельных высказываний и осуждений я сделал неправильные выводы и обобщения... Такое положение объективно приводило к отрицанию самобытности абхазского языка и к недооценке его возможностей в деле развития культуры абхазского народа... Вместе с тем считаю необходимым изъять из обращения вышеупомянутые брошюры, как содержащие ряд ошибочных и неправильных утверждений» (13).
По счастливой случайности в начале 50-х годов Д. Гулиа спасся от репрессии. А ведь его обвиняли не в каком-нибудь незначительном проступке, а в «буржуазном национализме», имея, в частности, в виду так называемую миграционную теорию, на которую опирался Д. Гулиа, исследуя этногенез абхазов. А эта теория считалась буржуазной. Гулиа обвиняли и в «местном национализме» за то, что он делал все для развития национальной культуры, и в том, что в художественных произведениях (например, в романе «Камачич») он недостаточно внимания уделял классовому подходу и классовой борьбе. В условиях господства воинствующего атеизма ему также напоминали его работы о религиозных верованиях абхазов. Г. Гулиа писал: «На официальных собраниях официальные ораторы в то время честили его (Д. Гулиа. — В. Б.) всякими нелестными словами, третировали как “националистически настроенного интеллигента”, “критиковали” его научные труды, которые, дескать, не “помогают крестьянину сажать табак”...» (14).
Весьма любопытный факт приводит Г. Гулиа в «Повести о моем отце»: «Однажды, разгневанный обвинениями в национализме, сказал одному партийному работнику (безвозвратно исчезнувшему все в том же 1937 году):
— Так в чем же наш национализм, да еще буржуазный?! Порой я думаю, что вам просто-напросто хочется запугать интеллигенцию, сковать ее действия. Только непонятно — зачем?
— Бог с вами, Дмитрий Иосифович!
— Кстати, мне и бога вспоминают. Тут один горе-критик даже к “Ходжану Великому” (стихотворение. — В. Б.) придрался. Да если мы с этой странной
124
меркой по мировой литературе пройдемся, от нее одни ножки да рожки останутся!
— Нет, этого мы делать не будем.
— А почему? Хотите знать правду? Потому, что вы из Сухума до нее не дотянетесь...
Ортодокс повторял заученные зады (? — В. Б.):
— Мы должны бороться против великодержавного шовинизма и местного национализма...
— Ну и хорошо, боритесь! А при чем здесь мы? Нас (абхазов. — В. Б.) всего около ста тысяч. Прошу не забывать этого. Воинствующий национализм должен ставить перед собой какие-то задачи, хотя бы теоретически. Кому, какой национальности могут угрожать своим господством абхазцы?.. Нам будет туго без русских, грузин, армян, греков. Против буржуазного национализма надо бороться. Это верно. Но для этого прежде всего надо иметь националистов. Не путайте сплочение народа вокруг собственных культурных задач с национализмом» (15).
Д. И. Гулиа прекрасно понимал значение исторической науки для развития национальной культуры и литературы, роста национального самосознания. Знание прошлого помогало понять настоящее и в определенной степени прогнозировать будущее. И, главное, оно исключало манкуртизацию общества, укрепляло в сознании людей чувство национальной гордости, утверждало национальное «Я» человека. А это, в свою очередь, являлось основой и для понимания чужой культуры (в том числе русской, грузинской, народов Северного Кавказа и т. д.) и установления диалога с ней. А попытка подавления этнического, национального «Я» вела к конфликту, к отрицанию межэтнического диалога, к неприятию чужого, к концентрации негативной энергии, чреватой непредсказуемыми последствиями. В таких случаях национальная литература и культура могут уйти в себя, сосредоточиться на этническом. Как ни парадоксально, конфликт между «своим» и «чужим», порожденный подавлением национального «Я», обостряет самосознание народа, усиливает этноцентризм литературы, искусства, а также исторических наук.
В такой ситуации, понимая значение своего будущего произведения, Д. Гулиа в 1933 г. приступил к написанию романа «Камачич». Ему было почти 60 лет. С одной стороны, патриарх думал о развитии крупных эпических жанров прозы в национальной литературе (в начале 30-х гг. романа еще не было). И фактически он — один из первых абхазских романистов. Ряд глав романа («Человек родился», «Сын или дочь?», «Пусть ребенка зовут Камачич») под общим названием «Камачич. (Из быта абхазов)» был опубликован в 1935 г. в журнале «Апсны капщ» («Красная Абхазия») (№ 1, с. 15-18). В 1937 г. первые девять глав романа напечатаны в книге избранных произведений Д. Гулиа «Утренняя звезда». Завершил он роман в 1940 г. Полный вариант вышел в 1947 г.
С другой стороны, писатель хотел художественным словом рассказать о жизни и быте народа, о судьбе абхазской женщины в досоветскую эпоху, свидетелем
125
которых был он сам. И осуществление этой сложной задачи предполагало привлечение большого количества этнографических и фольклорных материалов. В 1936 г. Д. Гулиа писал: «Сейчас я пишу роман “Камачич” о жизни абхазской женщины. Эта тема мне близка; меня привлекала жизнь народа, богатое устное народное творчество. Для меня было важно показать нелегкую судьбу абхазской женщины в эпоху царизма...» (16).
О романе «Камачич» написано немало статей, рецензий и отзывов (17). Ни один абхазский литературовед не обошел его вниманием. Некоторые критики подчеркивали, что «Камачич» «представляет собой эпически широкую картину, поистине художественную энциклопедию дореволюционной абхазской деревни» (18). В. Ацнариа (Цвинариа) называет произведение «народной книгой» (19). По мнению Г. Джибладзе, «фабула “Камачич” настолько велика, что иной писатель создал бы из нее трилогию» (20).
У некоторых исследователей иногда возникало сомнение по поводу жанровой принадлежности произведения: роман ли вообще «Камачич»? Но подспудно возникал и другой вопрос: художественное ли это произведение или этнографическое исследование в форме литературного повествования от лица неперсонифицированного повествователя (автора)? Действительно, в произведении сильно ощущается рука этнографа, кем отчасти и был Гулиа. Во всяком случае это не научный труд, а повествование человека, т. е. автора — свидетеля описываемой эпохи. Так или иначе, для абхазской культуры, возможно и для кавказоведов (лингвистов, этнографов, фольклористов и других), роман «Камачич» имеет художественную и научную ценность. Художественную, ибо он способствовал становлению крупных эпических форм прозы в национальной литературе, совершенствованию литературного языка, обогащал образную систему и т. д. Научную, ибо его можно рассматривать и в качестве одного из источников по этнографии абхазов того периода. В произведении читатель и исследователь могут узнать о многих особенностях патриархальной жизни, национальной этики, об обычае гостеприимства, народных играх, традициях воспитания детей, обряде проведения многолюдных поминок, неотъемлемой частью которых было обязательное проведение конных соревнований, скачек, о народной медицине, суевериях, месте религии в абхазском обществе, кровной мести и т. д. Однако Д. Гулиа не отразил многие важнейшие элементы национальной этики описываемой эпохи, особенности аталычества (воспитания детей князей и дворян в крестьянских семьях, и т. д. Кроме того, в речи автора-повествователя постоянно ощущается критический тон (хотя и не воинственный), слегка отдающий классовым подходом, особенно при описании каких-то суеверий, элементов народной медицины, раскрытии образов представителей княжеско-дворянского сословия. Это, естествено, оказывало негативное влияние на «энциклопедичность романа». Все же «Камачич» не мог охватить весь комплекс проблем, характерных черт народной жизни и полностью избежать воздействия социологического подхода.
126
Почти все литературоведы сходились в оценке идейного содержания романа. Они, думается, больше проявили пристрастия к классовому подходу, чем сам автор произведения. В частности, М. Ладария в 1966 г. писала: «“Камачич” Д. И. Гулиа — первый абхазский реалистический роман — явился своеобразной энциклопедией жизни абхазского села предреволюционного периода... В романе... обнаруживается, хотя и недостаточно полно, эстетическая природа социалистического реализма с его стремлением осознать социально-исторические законы развития общества и как следствие их — становление человеческой личности... В конце романа образ Камачич приобретает новое качество: личные чувства героини, сливаясь с народной ненавистью к мучителю князю Татластану, превращают ее в народную мстительницу. Вот почему финал романа, несмотря на его, казалось бы, трагическое завершение (смерть сына, месть Камачич), звучит оптимистично. В акте мщения Камачич улавливается жизнеутверждающee начало, дыхание кануна революции... В “Камачич” еще не в полной мере выявлена та художественная целостность, которая определяет жанровую природу реалистического романа. Вот почему роман “Камачич” представляется нам поэтическим детищем окончательно еще не отделившимся от тела своей матери — абхазского фольклора» (21).
Подобную точку зрения изложил и Ш. Д. Инал-ипа. Он отмечал: «История смелой, волевой девушки-крестьянки Камачич, ищущей в мрачном мире спесивых князьков и жестоких дедовских обычаев свободы и счастья, изображена писателем-реалисгом, глубоким знатоком народной жизни, с большой художественной силой... Это произведение большого трагического звучания. В основе его лежит вопиющее социальное зло, которое господствовало в старой Абхазии, и с ним в сущности связаны не только отразившиеся в книге мотивы протеста, отрицания существующих порядков, но и финальный порыв личной мести главной героини. “Камачич” живописует страшную картину того, как феодально-капиталистический мир бесчеловечных татластанов (князь Татластан — отрицательный персонаж романа) (Татластан не князь, а дворянин; это важно учесть. — В. Б.) подавлял, душил, уродовал человека, глушил его порывы, низводил до унизительного существования, отнимал надежды на самое простое человеческое счастье у семейного очага...» (22).
Приведенные высказывания (а таких мнений много в литературоведении) говорят сами за себя. Односторонние оценки романа, образов крестьян, князей и дворян, особенно же Камачич, «резкие противопоставления героев с различным социальным происхождением, деление персонажей на «своих» и «чужих» («отрицательных» и «положительных») страдают заданностью восприятия и препятствуют целостному пониманию произведения, приводят к неправильной интерпретации этики поведения персонажей, этнофактов. Это не значит, что Д. Гулиа обходит социальные проблемы общества, скрывает противоречия между различными его слоями; они, естественно, отражены в романе, даже ощущается определенное влияние господствовавшей в 30-е годы идеологии, принципов социалистического реализма. Однако они не полностью поглотили, пленили автора...
127
В произведении Д. Гулиа все же смог сохранить себя, свою внутреннюю свободу, творческий интерес.
Важное место в поэтической структуре романа занимает образ главной героини Камачич, который, как справедливо отмечают многие литературоведы, позволяет говорить о произведении как о художественном творении и отнести к жанру романа (23). Действительно, образ Камачич — единственный фундамент, стержень, на котором держится роман; стоит только расшатать его, как начнет разрушаться все художественное строение, оставляя после себя ряд самостоятельных рассказов этнографа-очевидца. Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением В. Ацнариа, который считает, что Д. Гулиа, прекрасно знавший обычаи и традиции абхазов, «через образ Камачич хотел показать лучшие национальные черты характера» (24). Поэтому, еще точно не знавшие пол ребенка, родившегося у Алиаса и Есмы, близкие семьи на первых же страницах произведения высказывают такие пожелания: «Если Есма родила сына, то поздравьте ее так: “Пусть он будет героем, как Инапха Киагуа, мастером-наездником, как Когониа Абас, веселым и находчивым юмористом, как Чацв Чагу, известным и авторитетным в народе, подобно Барганджиа Гудиа... Если она родила дочь, то пусть она станет прекрасной, красивой и славной женщиной, как Ануа-пха Хауида, Адзин-пха Каиматхан, Гджидж-пха Такуна, о которых слагали песни”» (25). И Д. Гулиа, естественно, увлеченно описывает судьбу своей героини, широко используя фольклорные традиции и традиции ораторского искусства; через нее он раскрывает и собственное отношение к абхазской действительности конца XIX — начала XX в. Он отнюдь не воспевает всю реальность, которая, по его мнению, полна социальными противоречиями, неравенством, несправедливостью. Одни (князья и дворяне, чиновники) вольны в своих действиях, даже преступных, другие (крестьяне) ограничены в правах. Однако Гулиа не заостряет внимания на классовом подходе и «революционных порывах» героев, несмотря на то что они занимают определенное (но не главное) место в романе. Тем более, когда речь идет о Камачич. С моей точки зрения, автор и не думал революционизировать ее образ, хотя она, доведенная до отчаяния, убивает своего бывшего мужа — дворянина Татластана, «классового врага», — как неточно выражались некоторые критики; они также считали Камачич «первой революционеркой» в национальной художественной литературе. Камачич мстит ему не за то, что он «классовый враг», «эксплуататор», а за свое поруганное счастье, страдание близких и, наконец, за смерть ее грудного ребенка (нет сомнения, что Татластан виновен в его гибели). Впрочем, подобными мотивами поведения героев (в т. ч. и героинь), картинами мести (которые, естественно, совершаются разными путями и в разных ситуациях) полна мировая классическая литература. Камачич к мести была готова и физически, и морально, ибо она воспитывалась в рамках традиционной этики Апсуара, которая в прошлом, в условиях отсутствия государственно-правовых норм, допускала
128
кровную и иную месть, эта же этика предполагала и элементы «спартанского» воспитания, которое говорит о многом. Между тем, подобные традиции народной педагогики были распространены в прошлых веках среди многих других горских народов Кавказа, в том числе и адыгов (черкесов) с их национальной этикой Адыге хабзэ. Особенности воспитания детей у абхазов впоследствии были широко отражены в романе Б. Шинкуба «Рассеченный камень». Невольно вспоминаешь слова французского ученого-путешественника первой половины XIX в. Фредерика Дюбуа де Монперэ, посетившего Кавказ в 1833 г.: «Сколько античной Греции, сколько Греции времен Гомера находим мы среди черкесов... Все то, что я говорил о воспитании мужчин и женщин, женских работах, ... о пище... и т. д. — все ведет нас в античную Грецию...» (26). Эти слова можно полностью отнести и к абхазам, которые вместе с адыгами (черкесами) составляют одну этническую группу.
Другой интересный эпизод из прошлой жизни абхазов описывает грузинский ученый, просветитель и педагог второй половины XIX — начала XX в. К. Мачавариани: «В Абхазии нередко можно было встретить ночью женщину, одетую в черкеску, с башлыком на голове и в полном вооружении, скачущую в сопровождении отборнейших всадников во весь карьер на ретивом коне. Переехать вброд через большую реку, сделать стоверстное расстояние, ограбить, поджечь, взять кого-либо в плен, а в случае надобности и броситься с шашкой на неприятеля, — все это казалось для подобной женщины делом обыкновенным» (27). Естественно, такая женщина воспитывалась в духе спартанцев.
Роман начинается с рождения Камачич, и сразу же возникает ощущение, что автор предлагает необычную историю жизни необычной героини. И неслучайно ей дали имя «Камачич» — оно одинаково подходит как мужчине, так и женщине. По словам одного из персонажей, «Имя Камачич созвучно с названием крепкого абхазского вина “Качич”». (С. 9). (Оно изготавливается из сорта темно-синего винограда “акачич”.) Любопытно, что подобное вино обычно называется «мужским вином», ибо, как правило, из акачич получаются крепкие, иногда шипучие (зависит от технологии) вина.
Отец ребенка Алиас, его близкие ожидали рождения сына — будущего продолжателя рода, тем более что он был единственным. Однако родилась дочь, о которой поспешили сказать: «Увидите, эта девочка станет прекрасной девушкой. И достойные мужчины будут завидовать ей, она не будет уступать им и в мужских делах». (С. 10).
Д. Гулиа мог обойтись без описания рождения Камачич, однако, как свидетельствует роман, его влекло к этнографии, он стремился к созданию этнографического портрета народа. Этим обусловлено и расширение сюжетной линии дополнительными рассказами о различных обычаях и обрядах, хотя было очевидно, что они с трудом вписываются в художественную структуру произ-
129
ведения, замедляя движение сюжета. (Например, главы-рассказы «Приезд Нахарбея Чачба», «Игра в мяч», «Поминки Озбака» и др.)
Первые три главы-рассказы («Рождение человека», «Сын или дочь?», «Пусть ребенка зовут Камачич!») повествуют не только о рождении ребенка, но и об обычаях, связанных с ним. Действие происходит весной; именно весной, когда обновляется природа, появляется на свет новый человек. Кто он? — Сын или дочь? — этот вопрос особо волнует родителей, близких родственников, представителей рода, фамилии. Кто-то может подумать: «Да какая разница: сын или дочь, все равны перед Богом. Главное же — родился человек, здоровый и невредимый». Дело в том, что в рамках всего этноса это, возможно, особого значения не имеет. Но для патриархальной семьи, рода оно имеет огромное значение. Писатель, кажется, больше всего придерживается патриархальных взглядов, хотя симпатизирует тем персонажам, которые считают, что дочь иногда может заменить сына. Да, она действительно может стать мужественной, ловкой, может отлично владеть оружием, постоять за себя и честь семьи и т. д. Вместе с тем, патриархально-родовой «культ» сына, до сих пор занимающий особое место в жизни горских народов Кавказа и многих народов мира, давно сформировался как традиция, хотя в древности, по всей видимости, существовал культ женщины (об этом свидетельствует фольклорный образ всемогущей матери нартов Сатаней-гуаша, владеющей сверхъестественной силой, этимология терминов Ан, Анцва /Анцәа/, о которой скажем в соответствующей главе). Дело в том, что по абхазским традициям сын — важнейший представитель семьи, и шире — фамилии, рода, ибо продолжение рода идет по мужской линии; сын — носитель родовой фамилии; он не имеет права жениться на девушке своего рода, и даже на дальней родственнице — представительнице другой фамилии. Кровосмешение никогда не допускалось, нарушителя данной нормы — неотъемлемой части Апсуара, могли наказать, изгнать из рода. Исключения из правил не могло быть. Впрочем, это касалось и женщин.
О девушке в народе часто говорят: «Она принадлежит чужим» («Уи усгьы атәымуаа дыртәуп»), т. е. она становилась хранителем очага (не продолжателем рода, конечно) другой фамилии. В народе также говорят: «У кого нет сына, у того когда-нибудь двери (дома) закроются навсегда» («Ԥа дызмам знымзар-зны ишә ак’уеит»). «Двери закроются» означает, что история фамилии в той или иной семье завершится на том человеке, которому не повезло с сыном, тем более, если он был единственным в семье. Когда он умрет, о нем скажут: «Уи зынӡа дыԥсьҵәҟьеит» (буквально: «Он совсем умер»). Выражение многозначное, оно говорит о том, что у него не осталось наследника — продолжателя рода. Таких выражений и поговорок, раскрывающих суть этнофактов, особенности национального мировосприятия, этикета Апсуара, в абхазском языке встречается немало. Их иногда использует и Д. Гулиа. Вот почему при рождении сына (а не дочери) принято было стрелять (однако трудно сказать, как эта процедура
130
проходила до появления огнестрельного оружия на Кавказе). Заметим, что могли стрелять и после смерти мужчины (именно мужчины) во время похорон. Видимо, это также связано с тем, что мужчине, как правило, отводилась роль главы семьи, защитника очага, рода, общества, страны и т. д. Такое отношение к мужчине никак не унижало женщину-мать, хранительницу очага; иногда бывали случаи, когда в трагических ситуациях (в частности, во время войны) женщина становилась рядом с мужчиной, не уступая ему в мужестве и храбрости.
Теперь более или менее становится ясным, почему Д. Гулиа заострил внимание на описании рождения ребенка. Он часто констатирует этнофакт, показывает реально существующий обычай, порою не объясняя его смысла и не давая оценки с точки зрения его полезности и неполезности для развития национальной культуры и этики. Вероятно, он и не ставил такой задачи, это проблема чистой этнографии, научного исследования. Вместе с тем автор пытается все же мягко воздействовать на стереотипы национального мышления, этносознания. Он разыгрывает эпизод рождения Камачич так, что близкий родственник-однофамилец Алиаса — отца ребенка Торкан, недопоняв слова соседки Селхи (ему показалось, что она известила о рождении сына), выстрелил из ружья, сказав: пусть растет наш род». Произвел выстрел в честь рождения «сына» и брат Торкана Куаблух. Заставили выстрелить и Алиаса, который тоже думал, что у него родился сын, хотя по этическим соображениям, как-то непринято было, чтобы по такому случаю стрелял родной отец. Обычно стрелял брат, дядя, или другие близкие семье мужчины (именно мужчины).
«— Вы выстрелили, и меня заставили стрелять, но, ведь, мы толком еще не знаем, кто родился: сын или дочь, — произнес Алиас вполголоса, чтобы Щарифа (мать Торкана. — В. Б.) не слышала (28).
Однако Щарифа все же услышала его слова и сказала:
— О чем ты говоришь, Алиас? Что плохого, что выстрелил, если даже родилась дочь. Разве не слышал поговорку: «Хорошая дочь стоит двух несносных сыновей». И это правда. Наши предки многое понимали, однако в этом деле ничего путного не предложили: родится сын — стреляли, родится дочь — нет. Зачем так?
Торкан, в свою очередь, продолжил:
— Это правда. Я слышал от отца, что в старину стреляли по разным случаям: когда рождался сын, когда он женится и когда умрет. Совсем недавно перестали стрелять во время похорон. Давайте вместо этого отмененного обычая учредим другой: производить выстрел и во время рождения дочери, ведь она тоже человек. Как сказала Щарифа (29), чем хуже хорошая дочь от сына?
Присутствовавшие начали подшучивать и смеяться. Алиас, постыдившись, не произнес ни слова. Он стоял молча, прислушиваясь, и строгал какую-то палку». (С. 7).
Идя на некоторое нарушение обычая, Д. Гулиа дает ему оценку и выражает свое к нему отношение. Автор берет исключительную ситуацию: Есма (мать
131
Камачич) долгое время не могла иметь детей. Естественно, рождение живого, здорового ребенка было величайшей радостью для родителей, родственников и односельчан, поэтому соседи и стреляли в его честь.
Камачич оправдывает ожидания ближайшего окружения, она растет прекрасной девушкой, с мужской закалкой, что не совсем противоречит абхазской действительности. Это подтверждают фольклорные памятники, которые безусловно оказали сильное эстетическое воздействие на писателя. Впрочем, об этом скажем отдельно.
Заметим, что Гулиа словно заранее предопределяет судьбу героини, во всяком случае высказывает опасение за ее будущее. Камачич едва исполнилось два или три месяца, а автор пишет о ней, уже используя емкую поговорку: «Ребенок уже достаточно подрос... Все с ней играли... Некоторые женщины поговаривают: “ребенок, которому не суждено дожить до старости, не помещается в люльке (т. е. пытается развязать себе руки, вырваться) (Ахуҷы инамӡаша агара дак’уам (30) )”. Девочка стала слишком хорошей, прекрасной; как бы что-нибудь ужасное не произошло с ней в будущем». (С. 28). А через год, когда отмечали день рождения Камачич, участники пиршества (родственники и сельчане) с удивлением говорили о девочке, ее необычном имени «Камачич» и т.д.; никто не сомневался в том, что Камачич станет красавицей, лучшей из лучших среди женщин, возможно, лучшей (в физическом смысле) и среди мужчин.
Думается, что Д. Гулиа как раз в данной части романа мог вполне раскрыть суть обряда, связанного с молением (аныҳәагатә) за ребенка, которое сопровождается пиршеством с участием ближайших родственников. Этот обычай до сих пор сохраняется в абхазских селах. К сожалению, писатель решил обойти этот вопрос. А кампания в честь дня рождения Камачич превратилась в обычное пиршество.
Далее мы видим Камачич, которая, как единственный ребенок в семье, выполняет и мужские работы, помогает матери по хозяйству во время отсутствия отца Алиаса, которого несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Она играет с мальчишками, прекрасно ездит на коне, в джигитовке ей равных нет, метко стреляет, в «горячих» национальных танцах может сменить нескольких партнеров, любит носить мужскую одежду (черкеску, башлык и т. д.). Ее часто называют «ахаҵамԥҳәыс» (дословно: «и мужчина, и женщина»). Кроме того, она одаренная, могла бы получить хорошее образование, однако, как ни старался Алиас, ее не приняли в Сухумскую школу, где оказалось, что у детей крестьян мало шансов поступить в прогимназию. Главы романа «Камачич решили отдать в школу», «Поездка в Сухум», «Оказывается, некрещеных в школу не принимают», «Оказывается, у невенчанных в церкви родителей дети считаются незаконнорожденными», «И снова в Сухум» написаны под явным влиянием биографии самого Д. Гулиа, который также испытал унижения во время поступления в Сухумскую горскую школу. Свою «школьную историю» Д. Гулиа впоследствии
132
отразил в «Воспоминаниях» (31), рассказе «Как я поступил в школу» (32). Разница лишь в том, что Д. Гулиа поступил в школу, а Камачич так и не получила школьного образования.
Камачич повзрослела, ее стали замечать не только крестьянские парни, но и сыновья князей и дворян. Мнение о Камачич, ее героизированный образ раскрывается в речах не только неперсонифицированного повествователя, но и персонажей, относящихся к различным слоям общества. Их высказывания о ее достоинствах, характере совпадают. И даже князья и дворяне высочайшего мнения о ней. Примечателен диалог князей во время пасхального праздника в поместье князя Нахарбея Чачба.
«— Если бы эта девица была хотя бы дочерью самого последнего (бедного) дворянина, ... я с радостью женил бы моего сына на ней. К сожалению, она дочь простого крестьянина, — сказал Иуана.
— Ты говоришь о дочери Алиаса? — спросил Хабуг.
— Именно о ней.
— Да, она прекрасна! И слишком молода, ей, видимо, не более 16-17 лет, но она славится по всей абжуйской Абхазии (Восточная часть Абхазии от Сухуми до Ингура. — В. Б.), мало кто ее не знает! Княжеские и дворянские сыновья не рискуют делать ей предложение (хотя очень желают) из-за того, что она дочь крестьянина. А крестьянские парни, в свою очередь, не решаются на это. Кроме того, она владеет русской грамотой, очень одаренная девушка, — сказал Хабуг.
— Уважаемый Хабуг, эта девица, о которой вы говорите, очень боевая и храбрая: она может выбить из седла весьма достойных парней, а в стрельбе ей равных нет, она без промаха сбивает мишень, — сказал один из молодых князей, слушавший разговор старших». (С. 117—118). И никакая девушка княжеского или дворянского происхождения не могла сравниться с ней.
Ситуация, сложившаяся с Камачич (имея в виду и стремление дворянина Татластана любым путем завладеть ею), беспокоила родителей девушки и близких. Чтобы избежать осложнений, оградить Камачич от опасных притязаний Татластана и возможного позора, родители решили поскорее выдать ее за какого-нибудь крестьянина (именно, за какого-нибудь). Выбор пал на Алхаса, сына Чалиа Дзыкура. В начале разговор об этом завела Рафида, соседка и родственница Алиаса. Только странно одно: Камачич, вероятно, знает Алхаса, но между ними нет никаких любовно-романтических отношений, и даже намека на них. Хотя Рафида утверждает, что Камачич как-то хвалила Алхаса и отмечала, что он видный парень, хороший наездник, владеет ораторским искусством, и в двух-трех селениях лучше его нет. (С. 127). Довольно странное рассуждение для героини — одаренной девушки. В таком случае Камачич не могла не знать и о других чертах Алхаса, о которых говорит та же Рафида Есме — матери Камачич: «Он совсем молодой, ему не более 25—28 лет. Но боевой; он будет всегда рядом и в хорошем, и в плохом. И внешне выглядит хорошо. У него замечательные родители, к тому же состоятельные. Парень очень способный. В воровстве и грабе-
133
жах ему равных нет, поэтому князья и дворяне жалеют его, и постоянно берут его с собой (куда бы они не пошли)... Он прекрасный джигит... Правда, Камачич есть Камачич, но и он смел, ловок и храбр. Когда все заняты грабежами, когда люди жалуются на воров, без конца обкрадывающих их, ты когда-нибудь слышала, что у его отца увели корову или лошадь. Воры никогда не посещают дом Дзыкура с целью грабежа... Поэтому всяк старается сблизиться с ним». (С. 122— 123). Конечно, в старину было время, когда воровство (речь идет главным образом об уводе коней, скота) считалось героическим поступком; это, безусловно, не означало, что весь народ одобрял подобные преступления. Алхас напоминает нам главного героя рассказа того же Д. Гулиа «Под чужим небом» Елкана, который погибает из-за подобных «героических поступков» и благодаря князю Алдызу.
В романе (если говорить о его художественной стороне) слабо развита сюжетная линия «Камачич — Алхас». Никак не раскрыт и образ Алхаса, о котором читатель что-то узнает только из уст других персонажей.
Изначально судьбу Камачич решают без ее участия, хотя потом героиню ставят в известность и она, обдумав предложение в течение короткого времени, дает согласие.
Вызывает интерес весьма эмоциональное рассуждение В. Ацнариа (Цвинариа), автора одной из лучших статей о романе Д. Гулиа. Литературовед считает, что писатель в романе смог показать мужество, смекалку, красоту и другие идеальные черты Камачич; ей все это изначально пожелали близкие, но «они забыли пожелать ей самого главного — счастья... Если бы счастье раздавали, кто, как не Камачич, его заслуживала! Однако она оказалась обделена счастьем. Ее судьба не сложилась не из-за того, что она вышла замуж за Татластана. Допустим, Татластан оставил ее в покое и Алхас женился на ней. Была бы она счастлива? Разве удачное замужество сделало бы жизнь Камачич полнокровной? Вряд ли! Она, природно одаренная, была рождена для большего счастья (если это слово понимать не в примитивном, а в широком плане), его не мoг дать и Алхас. Когда думаем о Камачич, мы прежде всего во главу угла ставим ее мужественный характер (ахаҵамԥҳәыс), мы как-то забываем, что она женщина» (33). Разделяя волнения В. Ацнариа, повторим нашу мысль: Д. Гулиа не меньше переживал за судьбу своей героини, но свою задачу он видел в создании этнографического портрета народа конца XIX — начала XX в., отражении реальной картины времени. Поэтому писатель избегал романтизации образа Камачич и ее судьбы. Как очевидец событий той эпохи, Гулиа черпал материал из самой жизни, привлекал богатейшие традиции национального фольклора, но не с целью простого придания роману национального колорита, а хорошей индивидуальной оркестровке. (Подобное легкое обращение с памятниками устно-поэтического творчества народа мы уже видели в произведениях о коллективизации сельского хозяйства: рассказ М. Ахашба «Алло», повести В. Агрба «Рождение колхоза “Вперед”», С. Чанба «Сейдык» и др.)
134
В той исторической ситуации Камачич не могла получить полноценного духовного развития; у нее не было выбора. По словам В. Ацнариа, «ее физическое развитие явно опережало духовное. Иначе не могло быть в той действительности, которая не давала ей возможность самой решить собственную судьбу» (34). Ацнариа характеризует ту эпоху, как «темное время», насыщенное социальными противоречиями и невежественным, отсталым патриархальным сознанием; и «для этого патриархального сознания голос женщины ничего не значил» (35). Она бесправна, а диктат родителей — матери и отца — силен. Глупо было бы доказывать, что в тот период народу жилось прекрасно, без проблем. Да и вообще в мировой истории неизвестны идеальные общества, в которых царили бы добро, любовь, равенство, социальная справедливость. Если же говорить о положении женщины вообще, то тут тоже возникает масса вопросов. Нет спора, в XX веке женщина-горянка получила широкий доступ к образованию, духовному развитию; а в прошлом считалось, что ей необязательно учиться. Если заглянуть, скажем, в историю литературы и культуры народов Северного Кавказа и Абхазии до 20-х гг. XX в., то очень редко встречаются имена горянок-просветителей, ученых, писательниц и других деятелей культуры. В основном одни мужчины. Однако с «эмансипацией женщины», как принято было говорить, исчезли какие-то таинства, и даже ценные национальные обычаи и традиции, которые способствовали гармонизации семейных отношений, отношений между мужчинами и женщинами, возрастными группами людей, матерью и ребенком и т. д. Следовательно, несправедливо огульно охаивать патриархальное сознание — неотъемлемую часть этнического, национального самосознания, которым пропитана и художественная литература; характеризовать его только с негативной стороны. Оно и сегодня не исчезло, как не исчезло и мифологическое мышление, слившееся с современными художественными представлениями. Именно этот синтез сознаний рождает национально-самобытные, оригинальные, художественно значимые произведения литературы и искусства. Трудно также оспорить тот факт, что благодаря патриархальному сознанию были созданы величайшие памятники культуры, фольклора, сформировалась национальная этика Апсуара, до сих пор играющая важнейшую роль в жизни народа, хотя современнее социально-экономические, политические, цивилизационные процессы и научно-технический прогресс оказывают пагубное влияние на него. Именно благодаря патриархальному сознанию человек был тесно связан с природой, он относился к ней как к матери, сохранял гармонию с ней. Словом, масштабная трансформация патриархального сознания в сторону его «индустриализации» может привести к его полному исчезновению.
Д. Гулиа по мере возможностей через образы Камачич и других персонажей раскрывает особенности «творений» патриархального сознания. Конечно же, Камачич дитя эпохи. Она не может игнорировать существовавшие в обществе правила жизни и быта. Что бы ни говорили литературные критики, она
135
все же имеет определенную свободу. Вряд ли исторические и этнографические материалы подтвердят «ужасное», «унизительное», «угнетенное» положение абхазской женщины в прошлом. Если Камачич следует неписаным законам Апсуара, национальной этики, своим поведением демонстрируя лучшие черты абхазской женщины, значит ли это, что она несвободна как личность и ее индивидуальное «Я» приглушено? Вряд ли, так как Камачич, как и любая другая представительница народа, не может представить себя вне этнического; ее собственное «Я» тесно связано с ним, даже если эта связь сохраняется только на уровне подсознательного, иногда не проявляя себя открыто. В таком случае этика не может подавлять собственное «Я» Камачич, ибо оно («Я») живет в ней (этике), и, наоборот, этика сохраняется, живет в индивидуальном «Я».
Трагически завершилась история несостоявшейся свадьбы Алхаса и Камачич. Алхаса посадили в тюрьму, его ложно обвинили в воровстве; в тюрьме он и умер. Родители и родственники предполагают, что арест Алхаса организован его «конкурентом» Татластаном, который подобным образом мстил Камачич и, главное, не дал ей возможности выйти замуж за другого. Он еще питал надежду, что она «добровольно» придет к нему. Несмотря на то что автор как бы «просит» сжалиться над Алхасом, он (Алхас) все же когда-нибудь оказался бы за решеткой, и, видимо, если остался бы жив, был бы сослан в Сибирь как Елкан из рассказа Д. Гулиа «Под чужим небом».
О слабости сюжетной линии «Камачич — Алхас» уже говорилось. Но Д. Гулиа использовал ее для описания одного любопытного обычая, который не дошел до наших дней, он даже не встречается в этнографической литературе. Это еще раз подтверждает, насколько пристальное внимание обращал писатель на уникальный этнографический материал, иногда жертвуя художественностью произведения.
Камачич и Алхас были помолвлены. Об этом знал узкий круг людей, которые участвовали в скороспешном сватовстве. Они решили не разглашать тайну до свадьбы, ибо опасались Татластана, который мог помешать этому. Неожиданно Алхас умирает, что делать? Вопрос волнует две семьи — Алиаса Цугба и Дзыкура Чалиа.
Ситуация исключительная и очень редко встречающаяся. Решение проблемы требует очень тонкого подхода, ибо она больше этического, нравственного плана. Сохраняя своих героев (особенно же Камачич) в рамках традиционной этики, Д. Гулиа не унизил, а возвысил их.
«Вечером того же дня, когда привезли гроб с телом Алхаса домой, Цугбовцы — Алиас, Торкан, Мац и другие — послали к отцу Алхаса Дзыкуру человека со словами (по этическим соображениям они сами, как близкие Камачич, не могли пойти к Дзыкуру):
— Как нам поступить: оставить помолвку Алхаса и Камачич в тайне или объявить об этом всем?
136
А Дзыкур передал им следующее:
— Здесь тайны нет, народ уже знает об этом. Мы остались без сына (видимо, он был единственным. — В. Б.), ...но после него с надеждой смотрим на нее (Камачич), не отдаляйте ее от нас». (С. 147).
И когда стемнело, однофамильцы Алиаса, близкие родственники, пойдя на похороны, взяли с собой и Камачич. И всем стало известно, что Камачич была помолвлена с Алхасом. «С этого дня Камачич, как помолвленная девушка, должна была вести себя в соответствии с обычаями (Апсуара)» (36). Даже после похорон Камачич в качестве невесты находилась в доме Чалиевцев в течение сорока дней. И с тех пор Чалиевцы и Цугбовцы стали общаться как родственники. А когда Камачич через сорок дней возвращалась домой, Дзыкур купил ей в подарок дорогую одежду.
События, связанные с помолвкой Камачич и смертью Алхаса, произошли быстро и во время отсутствия русского социалиста-революционера Ивана (он некоторое время жил в доме Алиаса, который относился к нему как к родному брату) и его единомышленника Левана (видимо, грузина, к которому также Алиас и односельчане относились благосклонно). Примечателен вопрос Ивана к Алиасу: «Почему вы держите Камачич в семье Чалиевцев как вдову, при жизни он (Алхас. — В. Б.) не успел жениться, а что, после его смерти надо было отвести ее (Камачич. — В. Б.) в дом жениха? Какая в этом необходимость?» (С. 148).
Это — свидетельство двух совершенно разных мировосприятий, пониманий этики. Иван, конечно, не мог знать местные национальные обычаи, хотя человек, который вроде бы пропагандирует те или иные социально-политические идеи (в данном случае социалистические), должен изучать, знать особенности региона и обычаи народа. Алиас на вопрос Ивана ответил: «Когда мы оказались в такой ситуации, мы не могли поступить иначе. У нас, абхазов, есть обычай, согласно которому Камачич (после смерти Алхаса. — В. Б.) около сорока дней должна была находиться в доме жениха». (С. 148). Обычай отражает высокую нравственность и глубокое уважение к семье, потерявшей сына. Вместе с тем, Алиас говорит, что, кроме обычая, их заставили пойти на это скрытые преследования Татластана. Они надеялись, что, возможно, после «вдовства» Камачич он отстанет от нее.
Однако Татластан был упрям, он добивался руки Камачич нечеловеческим путем, так считали близкие героини. Воры и грабители не давали покоя Цугбовцам и Чалиевцам. Не было семьи, у которой не увели бы двух или трех голов скота. Многие подозревали Татластана, хотя он сам не участвовал в воровстве. В результате представители двух фамилий собрались у Торкана для обсуждения создавшегося положения. Были прекрасные выступления, с точки зрения ораторского искусства. Особенно привлекают внимание эпизоды, связанные с Камачич. Алиас говорит о том, как Камачич в честь своего дня рождения организовала кампанию (отмечать день рождения научил Иван, а абхазы в старину, вплоть до 20-30-х гг. XX в., никогда не справляли эту дату). За сто-
137
лом она подняла стакан (37), поблагодарила всех, выпивших за нее, и неожиданно произнесла удручающую речь: «С малых лет от всех наших близких я слышала одно: “Она и женщина, и мужчина; будет счастлив тот, за кого замуж выйдет, ее ждет большое счастье”. Но ни того, ни другого не произошло: счастья у меня не оказалось, и в мужестве я не отличилась (ахаҵарагьы сара исызныҟумгеит), и как женщина ничего не достигла (аҳәсақуа рахьгьы сара схьысҳахеит, акгьы сызмырҽеит). Кроме того, я чувствую себя виновной во всем, что с нами происходит (она имеет в виду грабежи и воровство. — В. Б.). Поэтому особо не радуйтесь, если у меня что-то “хорошее” получится (бзиарак сақушәаргьы, уи дуӡӡак шәамеигурӷьан); и если со мной что-то ужасное приключится (цәгьара сақушәаргьы), не переживайте за меня, я сама разберусь в том, в чем виновата (сара исхароу аус сара ахы асҭап)». (С. 160). Здесь же Мац приводит слова Камачич, высказанные ею его жене Рафиде. Героиня выразила уверенность, что Татластан является причиной грабежей. Камачич открыто сказала, что он предлагал выйти за него замуж, но она отказалась, понимая, что они не пара и оба принадлежат к различным сословиям. «Сейчас я похожа на вдову, — говорила она. — Думала, раз я связала уже свое имя с другим, Чалиа (Алхасом), он отстанет от меня. Но, к сожалению, этого не произошло. Теперь я не должна жалеть себя, ибо из-за меня будут страдать мои близкие, братья (однофамильцы. — В. Б.)». (С. 160).
Цугбовцы и Чалиевцы на собрании ничего не решили, и единственный человек, который нашел выход из создавшегося положения — это Камачич. Она фактически тем самым жертвует своим будущим, счастьем. Ими, оказывается, она жертвовала и тогда, когда дала согласие на брак с Алхасом. В итоге, вопреки своему желанию, она выходит замуж за Татластана. Камачич многое взвесила, она прежде всего думала о своих родителях, близких, об их авторитете; не хотела «втоптать их имя в грязь» (рыхьӡ ахәынҵәа илалкуаҳар лҭахымызт), опозорить фамилию. При этом было важно «сохранить свое лицо» и соблюсти необходимые нормы Апсуара. И самое главное: не сама героиня проявляла инициативу, а он добивался ее руки. Кроме того, они не один раз встречались, хотя и случайно, и при каждой встрече Татластан говорил одно и то же: предлагал выйти за него замуж. Автор не описывает эти встречи, читатель узнает о них через Камачич, которая часто раскрывает свои секреты Рафиде. И одна из самых любопытных встреч состоялась после собрания представителей Цугбовцев и Чалиевцев. Она не могла быть случайной, ибо Татластан постоянно искал встреч с Камачич. Очевидно, что он сильно влюблен в героиню, хотя автор-повествователь открыто не говорит об этом. Права Татластана любить не признает и критика, которая представляла его как злодея и «классового врага». В абхазской действительности бывали случаи брака дворянина или князя с крестьянской девушкой. Одна из жен даже владетельного князя Келешбея Чачба (о нем мы говорили при анализе повести Г. Гулиа «Чернь гости») была крестьянкой.
138
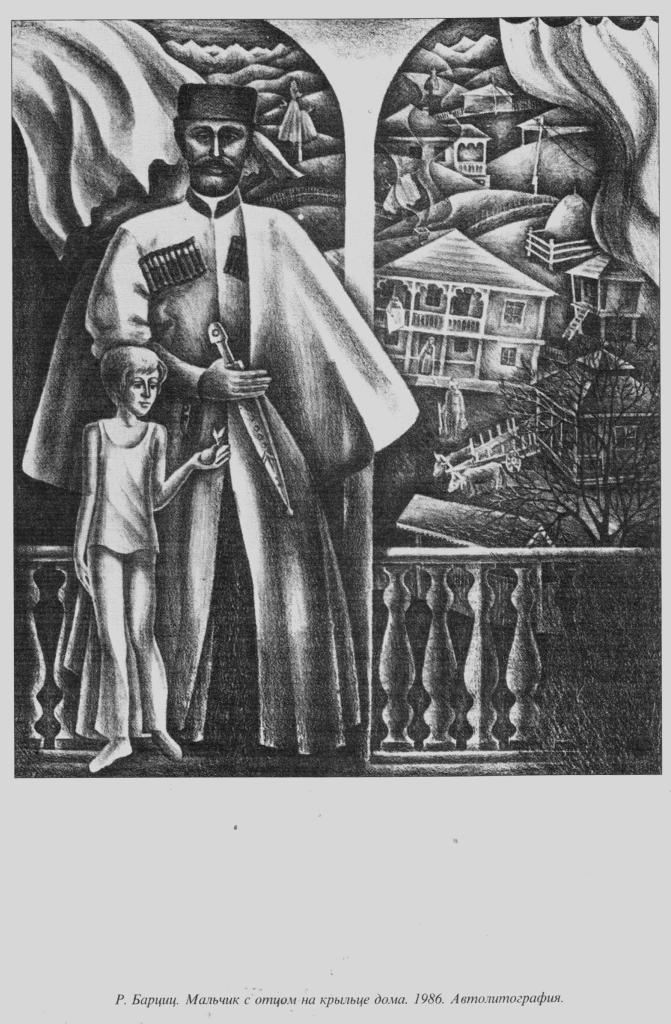
139
Камачич рассказывала Рафиде: «...Я возвращалась от Адки (сестра матери Камачич). По пути встречается он (Татластан). (Оба были на конях. — В. Б.) Немного пошутив, предложил посостязаться в джигитовке (лошади направляются друг на друга и сталкиваются, при этом надо удержаться в седле. — В. Б.). Я не имела никакого желания, но он вынудил... Два-три раза столкнулись, он похвалил меня... Затем говорит: “Почему же ты не выходишь за меня замуж, почему избегаешь меня?..” Я и сказала: С какой стати я должна за тебя выходить, и как ты можешь на мне, крестьянской девушке, жениться. Вообще, а когда ты делал мне предложение и когда, я говорила, что отказываюсь выйти за тебя замуж? Такого разговора, насколько помню, не было. Кроме того, ты должен знать, что я вдова... А он в ответ: “Я не первый раз слышу подобные слова, ... лучше выйди за меня; если я даже раньше не делал тебе предложения, то делаю его сегодня... Дай мне слово (согласие)”. А как же я могу дать согласие?.. Ты из-за этого сделал так, чтобы я овдовела, а моих братьев грабили воры? — сказала я. “А тебя, оказывается, многое беспокоит, а я не знал”, — обиделся он. Затем добавил: “Видимо, кто-то тебе солгал, я непричастен в этих делах. Не только вас коснулись грабежи, они распространены везде”». (С. 168-169). Камачич поведала Рафиде, что она еще раз столкнулась с Татластаном и не хочет оказаться на месте дочери Джаныма, которую изнасиловал некий Аслан; такого позора она не вынесет. Тогда Камачич спросила Татластана: «Если я выйду за тебя замуж, вероятно, ваши княгини и дворянки мне места не дадут, и тебя тоже будут упрекать князья и дворяне [за то что женился на крестьянке]». А Татластан ответил: «Я знаю, о чем они будут говорить, пусть говорят что хотят, это меня не касается. У меня своя голова на плечах. Но ты выходи за меня». «Мне нужно подумать, однако не забудь свои слова», — предупредила она Татластана.
Мы мало знаем о Татластане. И если что-то узнаем, то только из слов других персонажей, у которых превалирует негативная оценка героя. Видимо, автор не счел нужным шире показать его характер, хотя следовало бы. Известно лишь, что он дворянин, упрям, наверняка удалой парень, но скандальный и сложный человек. Поэтому видеть в его дворянском происхождении главную причину всех бед Камачич и ее близких, с моей точки зрения, было бы неправильно; причина больше кроется в характере самого Татластана. И трудно ответить однозначно на вопрос: был ли Татластан искренен с Камачич во время последних (предбрачных) встреч? Во всяком случае, это после них Камачич решилась выйти замуж за Татластана. Отсюда вытекают и другие вопросы: насколько Камачич ненавидит Татластана, что могла все-таки согласиться на его предложение? Неужели в Абхазии в старину князья и дворяне могли обращаться с крестьянами как с крепостными, имели полное право решать их судьбу по своему усмотрению (как, скажем, в крепостной России)? В абхазском обществе не существовало крепостного права, но были рабы, в основном из пленных, которых хозяин должен был нормально содержать (кормить, одевать и т. д.). Крестьяне также имели право владеть рабами и землей. Об этом свидетельствует, например,
140
русский офицер Ф. Ф. Торнау, собиравший исторические, географические и этнографические материалы об абхазах, черкесах и других горцах Северо-Западного Кавказа в 30-х гг. XIX в. Он отмечал, что в Абхазии не существует смертной казни, не используют телесного наказания, все спорные вопросы часто решаются третейским «судом по обычаю» (38). А говоря об отношениях родителей и детей, он писал: «Власть родителей неограниченна» (39), а если дело касалось девушки, то, несмотря на диктат родителей, она в определенной степени была вольна в своих решениях и ее без ее согласия не выдавали замуж. Кроме того, национальная этика Апсуара одинаково распространялась на все слои общества, будь то князь, дворянин или крестьянин. Этика допускала и месть; могли отомститъ за убийство отца, матери, брата, сестры, близкого, за опороченную честь девушки, сестры...
Татластан и не помышлял о насилии над Камачич и даже об умыкании героини вопреки ее воле, которое нередко встречалось в реальной жизни (40). Нет сомнения, что при желании и то, и другое сделать он мог. Возможно, он понимал последствия таких действий (Камачич сама никогда не простила бы ему этого), или его «дворянская гордость» не позволяла похитить крестьянами» девушку, или же он, воспитанный в духе того же Апсуара, соблюдал правилa приличия и не хотел оскорбить, навредить Камачич, которую он, думается, все же любил.
После замужества Камачич, сельчане (в том числе и близкие героини) начали обсуждать это событие. Естественно, активизируется диалог, который для Гулиа является важным средством раскрытия характера. Именно через него мы еще многое узнаем о Камачич, об отношении сельчан к тем или иным явлениям жизни. Часто диалог подтверждает авторскую позицию по отношению к Камачич. В таких случаях писатель увеличивает количество персонажей (персонифицированных и неперсонифицированных) — участников диалога, дабы отразить «общественное мнение», которое частично социологизировано. И как же эти люди воспринимают героиню и ее действия?
Мац сказал: «... Как мы слышим, Камачич не вышла бы за Татластана из-за страха. Она не из пугливых... Она сперва обдумала все... Камачич решилась на это, так как хотела, хотя бы на какое-то время, остановить грабителей и воров. Если же Татластан будет плохо обращаться с ней, то она не простит [отомстит], и об этом как-то говорила ему. Камачич и в знании не отстает... В случае ухудшения ее положения она для них (семьи Татластана. — В. Б.) превратится в огонь...». (С. 170). «Давайте будем вести себя так, как она повелела...». (С. 170).
А когда до Торкана и Дзыкура дошла весть о замужестве Камачич, они кратко отметили: «Эта девушка нас всех спасет или погубит». (С. 170).
Некоторые сельчане говорили; «Как дворянин смог жениться на крестьянке, пусть даже прекрасной?!» Другие подчеркнули: «Он тоже парень не промах (иаргьы иара иоуп...), но и она подобна огню (энергична), никому не уступит (аха ларгьы мцабзк лоуп, уи иаҵахо лакуӡам). Среди жен братьев она лучше всех.
141
Если к ней будут пренебрежительно относиться, то и она тем же и ответит». (С. 170). «Разве из этого что-нибудь хорошее получится? — крикнули иные». Третьи ответили: «Если ничего хорошего для нее не будет, ему тоже несдобровать. ...Она способна и на крайние меры, способна уйти в абреки (41)». (С. 170).
Диалог завершается авторским голосом, который продолжает объективное повествование: «Все как-то по-разному рассуждали, но Алиас и его семья со страхом ждали, чем все это закончится...». (С. 170).
Между тем, подобные речи героев и самого автора-повествователя, а также действия героини иногда формируют противоречивое отношение к образу Камачич. Создается впечатление, что весь груз ответственности за судьбу и честь семьи, рода, родственников и т. д. лежит на ее плечах, он давит на нее, хотя она и выдерживает. И странно выглядят те (близкие Камачич), которые как бы пассивно молчат, «скрываются за спиной героини». А где же они воспитывались, росли? Не в той ли тоже среде, что и Камачич?.. Разве национальные традиции, этика их не касаются?..
Автор местами так увлекается эпической героизацией образа, что Камачич в своих действиях незаметно вступает в конфликт с этическими нормами. По справедливому замечанию В. Ацнариа, «автор не смог соблюсти пропорции между женственностью и мужеством (ахаҵамԥҳәысра)... У Камачич слишком превалирует мужской характер... Такого культа мужества (женщины. — В. Б.), отраженного в романе [Д. Гулиа], трудно найти в тогдашней абхазской литературе» (42). И далее добавляет: «Читателя удивляет... пассивность ее близких родственников, братьев-однофамильцев Цугбовцев, которые никогда и ни перед кем (и даже перед князьями и дворянами) не унижались, не вставали на колени... Насколько Камачич, словно лучи солнца, выделяется, настолько униженными оказываются мужчины, окружающие ее» (43). Отсюда и неизбежная «заданность образа Камачич» (44), в котором не видны какие-либо духовные перемены.
Процедура женитьбы Татластана происходила в рамках обычая. Он привез Камачич не в собственный, родительский дом, а в дом воспитателей (абаӡӡеи анаӡӡеи) (45), они вероятнее всего крестьянского происхождения (или из мелких дворян /типа “акуаҵа аамсҭа”/; к сожалению, эту деталь Д. Гулиа не уточняет) Там сыграли маленькую свадьбу с участием соседей и сопровождавших Татластана и Камачич людей. Аталыки (воспитатели) вообще хотели организовать для своего воспитанника большую свадьбу с приглашением всех родственников, сельчан и других гостей (как правило, более 400-500 человек). Однако Татластан запретил, хотя такую свадьбу обычно проводили не только князья и дворяне, н и крестьяне; препятствием могли стать неожиданная смерть и похороны близких родственников и даже соседа, а также и другие крайние ситуации. Если девушка выходит замуж легально (аргама), то она выходит из дома родителей (аҩны ддәылҵоит). В таком случае свадьбу (ачара) играют и в доме родителе невесты и, естественно, в доме родителей жениха (именно в родном доме, а не доме родственника или аталыка). В случае с Камачич (она выходит замуж как бы
142
нелегально /маӡала/) автор учел эти нюансы обычая и придал ему смысл. Д. Гулиа прекрасно знал, что если со стороны жениха не было никакой свадьбы или кампании, то это прежде всего отражало неуважение к невесте, ее родителям и фамилии. Девушка и ее родственники могли быть оскорблены и при случае могли упрекнуть жениха и его близких. Писатель взял из обычая нечто допустимое среднее. Чтобы не было лишних разговоров, сторона Татластана все же провела кампанию. Однако молодые так и остались жить у воспитателей. Жаль, что в романе ничего не сказано о родителях Татластана, мнение которых небезынтересно было бы узнать. Даже фамилия Татластана неизвестна, а это было важно: по ней многое можно было определить.
Родственникам Татластана не понравилось, что он женился на крестьянке, но когда они узнали в невесте Камачич, они успокоились, смирились, а затем даже полюбили ее. Было, конечно, за что любить ее... Хвалили героиню и сельчане. В разговорах подчеркивали, что она могла быть и женой лучшего князя. Кто-то даже говорил: «Я знаю одного известного князя, у него такая жена, которая недостойна и мизинца Камачич... (лнацәкьыс апацәара даԥсаӡам). Дело не в происхождении (роде), а в человеке (человечности)... Она лучше всех княгинь, которых я знаю». (С. 171-172). Даже Камачич признается своей матери Есме: «Не знаю, как дальше сложится, но пока все нормально, меня очень уважают». (С. 173). «Мы тоже внимательно прислушиваемся к разговорам... О тебе говорят только хорошее», — подтвердила Есма. (С. 173). Камачич добавила: «Вы уж так не беспокойтесь... Будет хорошо — лучше и для меня, и для них, плохо — тем хуже и для меня, и для них самих». (С. 173).
В счовах Камачич чувствуется, с одной стороны, разделение «Я» (Камачич) и «Они» (сторона Татластана), с другой — угроза, исходящая от героини. Есма, видимо, права: «Ты и до замужества таким тоном разговаривала...». (С. 173).
Диалог матери и дочери, которая гостила у родных (кстати, с разрешения мужа), на этом не заканчивается, он раскрывает некоторые черты характера Камачич.
Есма, обеспокоенная разговором дочери, сказала:
«— Ты разве сможешь тягаться с князьями и дворянами?..
— Не надо об этом заранее зарекаться. Я то думала, что ты скажешь: “если будут унижать, оскорблять не урони свою честь, отомсти”. А ты ведешь совершенно иной разговор. Но пока все нормально; посмотрим, что дальше будет. Ухудшится ситуация, тогда и поговорим по-другому, — [ответила Камачич].
— Хорошо, как ты скажешь... Все же веди себя хорошо, ... не дерись (бырмеислан), следи за своими словами, не груби и не спорь с ними, словом, не делай так, чтобы тебя ненавидели...
— Я понимаю тебя, мама, знаю, почему ты так говоришь. Но как я уже могу поменять свой характер; если он был хорошим по сей день, таким и останется в будущем, если, конечно, по их вине не испортится. Из-за моего характера никто не может упрекнуть меня, пока что всем нравлюсь». (С. 173).
143
Так или иначе, у Камачич тоже сложный характер. Мы плохо знаем о ее семейной жизни, и если что-то и знаем, то благодаря диалогам и речи автора-повествователя. Очевидно, что недостает психологической обоснованности поведения героини: писатель совершенно не использует внутренний монолог, хотя он раньше как-то обращался к этому важнейшему средству для раскрытия характера Елкана в первом своем рассказе «Под чужим небом» (1919).
В заключительных главах-рассказах «Татластан бросил Камачич» и «Камачич убила Татластана» назревавший конфликт между Камачич и Татластаном достигает кульминационной точки (особенно после гибели ребенка Камачич) и получает трагическую развязку. Именно в этих частях романа четко слышен голос автора-повествователя, в котором преобладает оценочный тон, ярко ощущается его отношение к персонажам, главным образом к Татластану и Камачич. Вместе с тем, благодаря автору-повествователю, события начинают развиваться стремительно, как бы спеша к логическому завершению. В финале нет никаких неожиданностей, он лишний раз подтверждает героико-эпический характер образа Камачич.
Глава «Татластан бросил Камачич» начинается с авторского слова, которое характеризует события и его участников. Автор-повествователь явно на стороне Камачич, он ее ни в чем не винит и защищает, а клеймит Татластана. «Здесь я хочу рассказать о том, как разошлись (реилыҵра) Татластан и Камачич, но в начале своего повествования я озаглавил свой рассказ, используя слово “бросил”, а не “разошлись”, ибо они не стали достойными друг другу мужем и женой. Татластан с чувством высокомерия бросает жену. С тех пор как женился, никто не слышал, чтобы он говорил о своей супруге “моя жена” (“сыԥҳәыс”) (46). Однако она... никогда в людях не говорила о домашних ссорах...». (С. 188).
Писатель, повторяя черты характера главных героев, о которых не раз говорилось в предыдущих частях произведения, усиливает эмоциональный накал, подчеркивает несовместимость психологии, мировосприятия двух категорий людей, представленных в лице Камачич и Татластана, именно двух категорий.., но все-таки не двух «враждебных классов», хотя писатель не скрывает своего стремления к дифференциации двух слоев общества: крестьянства и княжеско-дворянского сословия. Однако и те, и другие — часть народа. Д. Гулиа, думается, об этом не забывал. Такой, как Татластан, может встретиться и среди простого народа, хотя в произведении нет образов «плохих» крестьян. Ни в какой другой главе-рассказе романа автор-повествователь так широко не описывает образ Татластана, как в предпоследней (36-й) «Татластан бросил Камачич». Многое о Татластане становится известным. И его скверный, неуравновешенный, невыносимый характер, в прямом смысле этого слова, является причиной многих бед; встает проблема человечности, нравственности, этики и т. д. В данном случае, мне кажется, дворянское («эксплуататорское») происхождение супруга Камачич отступает на второй план. «В действительности, он (Татластан. — В. Б.)
144
не только со своей женой обходился плохо, но и по отношению к другим (в том числе и к близким родственникам. — В. Б.) вел себя скверно. ...Характер его был ужасным, — говорит автор. — Однако Камачич укрывала [пошлости Татластана] перед его братьями, сестрами, сверстниками... И это не все: он издевательски вел себя и с воспитателями (ианаӡӡеи, иабаӡӡеи)... Но с появлением Камачич в их доме, его характер немного смягчился, стал лучше. Возможно, по этой или другой причине они, и даже соседи, сильно полюбили Камачич.
Сейчас, когда его отношение к Камачич резко ухудшилось и чувствовалось, что это ни к чему хорошему не ведет,.. все они (воспитатели, молочные браться и сестры. — В. Б.) ... забеспокоились, но они не в силах что-либо поделать!..
Родные братья и сестры Татластана (заметим: тоже дворяне. — В. Б.) все слышат, но молчат, не знают, как вести себя в такой ситуации. С одной стороны, они понимают, что их брат больше никогда не женится на такой воспитанной, видной, красивой девушке; с другой — немного не по душе ее крестьянское происхождение... Вместе с тем, они опасаются Камачич...». (С. 188—189). Ибо они знали, что Камачич не только женственна, но и в критической ситуации может повести себя по-мужски, постоять за свою честь и достоинство.
Камачич прекрасно понимала, что совместная жизнь с Татластаном становится все труднее и труднее. Вероятно, она возвратилась бы к родителям без громких скандалов и смирилась бы со своей судьбой (да мало что в жизни бывает...), тем более что она еще молода и красива. Хотя, конечно, в абхазском обществе разведенным женщинам бывало не легко устроить новую счастливую семейную жизнь.
Автор выражает свои симпатии и антипатии к главным героям романа и путем описания развода (реилыҵра). При этом он умело использует обычаи и традиции, связанные с семейно-брачными отношениями. Вопрос не в том, что он подробно описывает те или иные обряды. Д. Гулиа, как писатель-этнограф, хорошо их знал и понимал, что несоблюдение норм национальной этики Апсуара и при разводе часто ведет к осложнению отношений между супругами и фамилиями, родами. С точки зрения национального восприятия, развод (аилыҵра — также этическая проблема. Поэтому он не может сразу состояться по желанию супругов; в нем обязательно участвуют близкие родственники, иногда — и старейшины фамилий. Все зависит от особенностей причин конфликта между мужем и женой и инициатора развода (он или она). Если инициатива исходит от мужа (бросает жену), то он становится главным виновником развала семьи. В таком случае близкие мужа (отец, мать, брат, сестра, родственники), хотя бы ради соблюдения приличия перед стороной невесты (которая особо и не виновна в конфликте), пытаются уладить отношения между супругами, отговорить eго от этой затеи. Положение мужа осложняется, если он изначально умыкнул (похитил) жену вопреки ее воле (в данной ситуации девушка /после похищения/ редко возвращается домой, ибо она /после одних суток, проведенных в доме
145
похитителя/ считается замужней). Но если девушка все же решила возвратиться домой, то ее братья могли преследовать несостоявшегося жениха и отомстить (могли убить), дабы смыть с себя позор. От невыносимой ситуации девушка может уйти от мужа, возвратиться к родителям. Тогда представители (как правило, старшие, почетные мужчины из числа ближайших родственников /но не отец и братья/) стороны мужа едут к ней домой, чтобы уговорить ее возвратиться к мужу (который желает ее возвращения). Если муж упорно настаивает на возвращении жены, то подобное посещение его близкими родителей невесты повторяется несколько раз: ведутся как бы «мирные переговоры». Часто сами родители женщины уговорами пытаются возвратить дочь в дом мужа. Но все зависит от ее решения.
Когда муж бросает жену, то сторона девушки никогда не упрашивает бывшего зятя и его родственников вернуть ее обратно, считая это унизительным занятием; они перестают общаться как родственники, иногда между ними долго сохраняются натянутые отношения. В прошлом такие отношения порой заканчивались местью оскорбленной стороны, которая рождала и месть противоположной стороны. Впрочем, могут встречаться и другие варианты ситуации, которые провоцируют всякого рода конфликты.
Д. Гулиа выбрал один из самых конфликтных вариантов, которому попытался придать и социальную окраску: Татластан бросает Камачич; Камачич еще у Татластана, но ходят слухи, что за него уже засватана дочь какого-то князя Чагу Химур; как только Камачич уйдет, Татластан женится на ней. Писателю показалось, что для еще большего обострения конфликта и оправдания дальнейших действий (мести) Камачич, этого недостаточно. И он вводит в сюжетную линию эпизод с ребенком (одна из самых сильных и напряженных по эмоциональному накалу частей романа). Между Татластаном и Камачич ребенок; ему не более года. Ясно, что ребенку без матери будет трудно, а Татластан не желает оставить его Камачич. Вот последний диалог (их и так немного было в романе) между Татластаном и Камачич.
«...Вечером Камачич с большим трудом усыпила ребенка, немного успокоилась и решила поговорить с Татластаном; ... она просила его не отнимать ребенка...
— Если ты слушала, я уже все сказал и точка. Сообщи своему отцу, он придет и заберет тебя, хотя и сама доберешься домой. Твои высокомерные братья (имеются в виду однофамильцы, у Камачич не было родных братьев. — В. Б.) вместе с Чалиевцами обвиняли меня во всем. Сейчас, думаю, поймут, что я тогда был не при чем (в грабежах. — В. Б.), как не виновен и теперь (видимо, в разводе. — В. Б.).
— Я никак не пойму, о чем ты говоришь; что значат твои слова: “и тогда не был виновен, и теперь не при чем, сейчас они все поймут?” Но тебе лучше было бы не забывать то, что ты сказал мне [перед женитьбой] и мой ответ тогда.
— Какие слова, я не помню, что я говорил тогда. И зачем это вспоминать? Ребенка оставишь моей воспитательнице (санаӡӡеи). А ты возьми какого-нибудь
146
мальчика или мою молочную сестру Мину для сопровождения и возвращайся домой». (С. 192-193). Диалог пока развивается спокойно, но постепенно приобретает острый характер.
«— Я сама знаю дорогу домой, но не могу оставить ребенка. Он без меня не выдержит, разлука с матерью погубит его... Прошу, не заставляй брать грех на душу, и сам не бери... — [сказала Камачич].
— Ребенок не твой, он мой, не забывай об этом!..
— Зачем тебе ребенок, рожденный простой крестьянкой?
— Это не твое дело!
— Хорошо, пусть будет по-твоему, но позволь мне поставить его на ноги, потом заберешь сына. Не разлучай его со мной, ему будет трудно без матери, не губи его!.. Меня, обесчестив и опозорив, отправляешь домой, ладно уж, я потерплю, ибо я дочь крестьянина. Но лучше было бы для тебя, если не забывал свои слова, сказанные во время той встречи. Тогда я предупреждала: “запомни свои слова и не забывай”.
— Ты, видно, и угрожать мне собираешься! Перестань! Хватит! — закричал Татластан.
— Кому хватит увидим потом, — сказала Камачич и плача покинула комнату...
Словами не описать, как она провела ночь с ребенком. Она не сомкнула глаз
и без конца смотрела на сына, слезы текли по щеке. И сам ребенок иногда просыпался, словно чувствовал беду». (С. 192-193).
Любопытно, что Татластан и раньше, и сейчас, когда резко обострились семейные отношения, ни разу не упрекнул Камачич в ее крестьянском происхождении. Сама же героиня нередко напоминала об этом. Иногда слегка обсуждали данную социальную проблему неперсонифицированные персонажи. Как же автор, так или иначе подчеркивающий сословное происхождение своих героев, совершенно не симпатизирующий Татластану, упустил такую «важную» деталь? Или он решил, что не стоит обобщать единичные явления из прошлого абхазов в романе, претендующем на «реалистическое произведение» с этнографическим уклоном... Может быть, правда жизни намного важнее, чем какие-нибудь идеологические клише?.. Д. Гулиа застенчив, скромен в отражении «классовой борьбы», «классового антагонизма», ибо понимает, что в абхазской действительности они не имеют благодатной почвы. И Татластана надо воспринимать и осуждать прежде всего как человека с определенной психологией и характером. Он мог бы остаться жив, если бы не совершил тяжкого греха: фактически он виновен в гибели ребенка, хотя нельзя сказать, что он этого желал; он тоже по-своему любил сына, однако дурное упрямство, мнимая гордость, бессердечность взяли верх.
Разве можно спокойно читать такие строки, они вряд ли кого-нибудь оставят равнодушными: «Об отношениях Татластана и Камачич узнало все село. Утром прибыли братья и сестры Татластана. Были здесь и его воспитатели, молочные сестры. Воспитатели [также братья и сестры] усердно просили Татластана: раз
147
возвращаешь ее домой, отправляй с ребенком... Но Татластан стоял на своем и кричал: пусть быстрее проваливает отсюда, иначе это плохо закончится!
К этому времени прибыли родители Камачич вместе с Торканом, Мацом, Рафидой и другими (47). Они тоже, через воспитателей (ианаӡӡеи иабаӡӡеи рыла) передали ему просьбу позволить матери воспитать ребенка. Но Татластан не внял их просьбам.
А что оставалось делать? — Пришлось насильно разлучить мать с ребенком. А ребенок,.. широко раскрыв глаза смотрел на мать,.. маленькими ручками держался за ее грудь и не отпускал...». (С. 194).
«Когда ребенок почувствовал, что мать оставляет его, он начал плакать. Это был необычный плач. Камачич тоже плакала, она чувствовала, что без нее ребенок долго не протянет. У всех — свидетелей этой горькой сцены — проступили слезы. Только Татластана ничего не трогало, он продолжал кричать: “...Пусть уходят!” (без ребенка, конечно. — В. Б.).
Потом ... насильно разлучили их (мать и сына). ... [Близкие] Камачич вместе с ней направились обратно домой. Непрекращавшийся крик ребенка был долго слышен... Камачич везли с трудом, она иногда теряла сознание». (С. 194).
Татластан думал, что у его воспитателей ребенок успокоится и постепенно привыкнет к ситуации. Камачич дома места себе не находила, она перестала есть. Через день она тайком послала человека узнать о состоянии сына. Тот принес плохие вести: «Ребенок перестал есть и пить, он умирает. Татластан сам тоже находится там». (С. 194).
На третий день воспитательница Татластана (ианаӡӡеи) прислала человека к Камачич со словами: «Мы сами тоже переживаем за тебя... Ребенка мне дали, однако с тех пор, как ты ушла, мы не смогли его успокоить; он ничего не ест, вот-вот умрет. Видимо, он ждет встречи с тобой, приходи, пока он жив, посмотри на него...
Уже темнело. Камачич быстро оседлала коня, взяла с собой какого-то мальчика и отправилась к сыну. Прибыв, она остановилась у соседей, соскочила с коня и пошла в комнату, где лежал ее сын. Ребенок умирал (аԥсхыхра даҿын). Она два-три раза окликнула его и прижала к груди; он узнал ее голос, с трудом открыв глазки, посмотрел на мать. “Нан!” (“Мама!” — В. Б.) — выговорил он и, приложив свои ручонки к ее груди, он сделал последний вздох. Ее слезы мигом полились на ребенка. Она тихонько уложила его и поправила. Затем сказав: “Пусть такая же участь ждет твоего отца, пусть он отправится туда скоро!” — плача повернулась и ушла...». (С. 195). Именно в эти минуты Kaмачич приняла роковое решение: отомстить Татластану за смерть сына (это главная причина) и, возможно, за оскорбления и унижения. И никто ее уже не мог остановить, даже родители. Она оделась в мужскую одежду, подстерегла Татластана и застрелила его.
По мнению В. Ацнариа, «убийство Татластана, который обесчестил, унизил не только Камачич, но и все крестьянство, — самый заметный (выдающийся)
148
героический поступок героини... Личная месть и социальный протест соединились в той горячей пуле, пущенной в Татластана...» (48). Возможно, это так, но следует ли слишком социологизировать поступок Камачич? Думается, что месть Камачич имеет более личностный характер и связана с судьбой героини; сам текст романа свидетельствует об этом. Хотя заметим, что Д. Гулиа делал едва видимые попытки связать Камачич даже с социалистами-революционерами Иваном и Леваном, однако они превратились в мелькающие образы: Иван и Леван часто исчезают, уходят на выполнение каких-то подпольных заданий; у местного населения они не имеют широкой социальной и политической поддержки, к ним относятся осторожно, несмотря на то что их уважают за «правдолюбие». Если этих персонажей не было бы в произведении, роман, в художественном отношении, ровным счетом ничего не потерял бы; и в раскрытии образа главной героини они существенной роли не играют; она живет своей жизнью, а Иван и Леван своей (незаметной). Они также не влияют на ход событий. По-моему, эти образы оказались в романе под давлением «нового времени», социалистического реализма, особенно же — сложной и трагической эпохи 30-х годов. И хорошо, что они имеют фрагментарный характер, ибо в тех исторических условиях конца XIX — начала XX в. (а Гулиа стремился не отдаляться от реалий времени и этнических особенностей народа) революционные идеи не могли будоражить и поднять на восстание коренное население Абхазии; оно не знало классового антагонизма и классовой ненависти (речь не идет, конечно, о единичных случаях). А действия Камачич укладываются в рамки той патриархальной жизни со своими плюсами и минусами. Нельзя сказать, что национальная этика полностью поощряла кровную месть, которая уносила немало человеческих жизней, уничтожала целые фамилии (вспомним поэму И. Когониа «Как уничтожили друг друга Маршановцы»), Апсуара предполагала и препятствия, которые могли остановить кровную месть, ими могли быть: народная дипломатия, использование авторитета старейшин, собрания почетных представителей фамилий, родов, изгнание из села, общества ярых виновников необоснованной мести и т. д.
Роман «Камачич» завершается местью, убийством Татластана. Автор как бы зло (в лице Татластана) безнаказанным не оставляет (49); кстати, это из фольклорной эстетики. Но есть и другая сторона: побеждает ли добро, благородство?.. (Такая развязка тоже разработана фольклором). Вопрос более чем открытый... Резкий трагический финал произведения рождает много проблем, о решении которых можно лишь догадываться. Единственное, что можно предположить: месть могла спровоцировать ответную месть, а далее — замкнутый круг, из которого бывает трудно выбраться.
Да, «произошла трагедия — убийство человека, — утверждает В. Ацнариа, — но трагедия заключается не в том, что погиб скверный дворянин Татластан, а в том, что убийство совершено рукой женщины... Потому что она, благодаря той же эпохе (жизни), оказалась в такой ситуации, когда ей самой пришлось отомстить за себя. Это — трагедия, ибо природно одаренная женщина была рожде-
149
на не для убийства, а для более высокой миссии!..» (50). А где же были мужчины? — может спросить читатель, неплохо знающий горские обычаи и традиции. Странно, но таких в романе просто нет, а есть вроде бы приличные, благородные, хозяйственные люди (Алиас, Торкан и др.; только молодых бравых парней особо не видно), которых, вероятно, не коснулось «спартанское воспитание».
Проблема кровной мести неоднократно ставилась абхазской литературой. К ней обращались Л. Квициниа (поэма «Щаризан»; 1933), И. Папаскир (роман «Темыр»; 1937) и другие. Этих писателей и поэтов объединяло одно: они решали сложную проблему мести с идеологических позиций, и с этих же позиций они предлагали путь искоренения вредного для народа пережитка прошлого.
В поэме «Щаризан» Л. Квициниа рассказывает, как его героиня Щаризан с помощью секретаря сельской комсомольской организации Acтаны и его друзей отказывается от старых обычаев и становится передовым строителем новой социалистической жизни.
Крестьянин Щмат и его супруга Харихан решили женить единственного сына Ясона на девушке, которую они выбрали. Им это удалось сделать. Но Ясон любил другую. Естественно, семейная жизнь сына продолжалась недолго: Ясон разошелся с женой. Однако ее братья, оскорбленные действием зятя, убивают его. Пожилые родители Ясона жаждут мести. Но кто из близких родственников отомстит за сына?.. Они не смогли найти такого человека. Тогда совсем юная сестра Ясона Щаризан, видя, как мечутся родители, решила отомстить за брата: она оделась в мужскую одежду и взяла ружье. Родители особо не препятствовали ей. Только, как отмечалось выше, комсомольский вожак Астана и его друзья предотвратили трагедию и направили жизнь Щаризан по новому пути.
Не вдаваясь в подробный анализ поэмы, скажем, что, создавая образы героев, автор пренебрег художественно-психологической, этической и историко-этнографической достоверностью характеров персонажей и описываемых событий.
В романе «Темыр» И. Папаскир показывает духовное «перерождение» главного героя, который также отказывается от кровной мести и активно включается в процесс строительства «новой жизни».
Сын бедного крестьянина Темыр, который рано потерял родителей, влюбился в Зину, дочь соседа, крестьянина Ахмата. И она отвечает взаимностью. Oн хочет жениться на ней, однако считает своим долгом (до женитьбы) отомстить за брата Мыту, которого, как оказалось, убил отец любимой девушки Ахмат. Темыр стоит перед выбором: следовать законам предков и отомстить за брата или отказаться от обычая, который никак не стыкуется с порядками «новой жизни» и сохранить свою любовь. В этом выборе определяющими стали: любовь к Зине — передовой девушке и активистке колхозного строительства, влияние секретаря партийной ячейки Михи, учеба Темыра в Москве. Кроме того, он узнает, что в гибели брата больше всего был виновен князь Мырзакан, он «заказчик убийства». В итоге Темыр, начав мыслить «по-новому», «по-социалистичес-
150
ки», отказывается от мести. Ярким событием, подтвердившим «перерождение» главного героя, стала его женитьба на Зине — дочери убийцы брата. И. Папаскир решает сложнейшую проблему кровной мести, которая сохранялась и в 30-е годы (в той или иной степени сохраняется и сегодня), несмотря на функционирование государственных структур, суда и т. д., с точки зрения социалистического реализма. Безусловно, его роман (один из первых романов в национальной литературе) сыграл большую роль в развитии абхазской прозы, укреплении в ней позиций психологизма. Однако при всей психологической обоснованности действий Темыра ощущается некоторый легкомысленный подход к этносознанию, этнопсихологии, этническим особенностям народа, этнофактам. Идеологизация сознания персонажей не могла освободить их от жизненной реальности. Это в какой-то мере ослабляло художественную достоверность характера. Конечно, литература может интерпретировать, осмыслить события по-своему, но и художественная правда, видимо, должна быть свободна от любой идеологизации, идеологической целесообразности. Темыр мог перебороть себя, уйти от мести, но мог ли он простить убийцу брата, тем более породниться с ним, женившись на его дочери?.. Ахмата можно оправдать тем, что Мырзакан фактически является главным в организации убийства, но курок-то нажал он?.. Трудно все же представить Ахмата в качестве тестя Темыра. Конечно, Прощение требует от личности величайшего духовного напряжения, высочайшего духовного развитая, подготовки. Прощение — высший нравственный поступок, вечная, но пока еще недостижимая проблема человечества... Думаю, что для политизированного, идеологизированного сознания Прощение не может стать естественным состоянием души.
Если нет Прощения, то страх становится единственным средством предотвращения мести (в прошлых веках — это страх перед ответной местью; а в XX в. — страх перед законом, судом, тюрьмой и т. д.). А отсутствие Страха и Прощения предполагает совершение мести.
Отсюда и сомнения относительно образа главного героя романа «Темыр». Произведение завершается декларативным заявлением: «Пусть с сегодняшнего дня будет искоренена кровная месть!» А базой для ее искоренения, естественно, является строительство новой социалистической жизни, которая предлагает новые обычаи вместо старых, отживших традиций (и не только кровной мести).
Д. Гулиа не ставит таких проблем. У его героини Камачич не возникает дилеммы: «Отомстить или не отомстить? Убить или не убить?». Камачич выбирает первое, по-другому она не может. И неслучайно писатель уходит в прошлое, сосредоточивая внимание на жизни и быте народа конца XIX — начала XX в. По времени события в романах «Камачич» и «Темыр» происходят с разницей в 25-30 лет. Достаточно ли было времени (несмотря на революцию, коренную ломку общественной системы и психологии людей) для того, чтобы в национальном самосознании, этнопсихологии произошли такие глубинные изменения, что герои произведений Д. Гулиа, И. Папаскира, Л. Квициниа и других
151
писателей, если встретились бы, едва могли узнать в друг друге представителей одного народа. При встрече они, вероятно, справились бы о каждом, пытаясь узнать, откуда он (или она), к какой нации принадлежит. Здесь речь идет не только о кровной мести, но и о национальной этике вообще. «Новая жизнь» предлагала иные ценности, принципы жизни, свою этику, которая во многих случаях скрыто или открыто вступала в конфликт с Апсуара. Эти процессы так или иначе отражены в литературе 20-40-х гг., в эпических произведениях И. Папаскира, С. Чанба, повестях и рассказах В. Агрба, М. Ахашба и других о коллективизации сельского хозяйства. В них обязательно побеждает социалистический образ жизни, «новый положительный герой», который часто пренебрегает традиционной этикой ради осуществления идей социализма. И, естественно, между этими персонажами и героями Д. Гулиа огромная разница. Героям Гулиа было бы легче общаться с персонажами романов и повестей 60-90-х гг. (Б. Шинкуба, А. Гогуа и др.), ибо в литературе этого периода усиливается обращение к историко-культурным (в т. ч. этическим) традициям народа. Д. Гулиа опирался на них, пытаясь сохранить национальные традиции, фиксируя их в художественном произведении. Это в той или иной мере отражается в образе Камачич.
В абхазском литературоведении существовали мнения, согласно которым в создании образа Камачич определенное влияние на Д. Гулиа оказала русская классическая литература, в которой большое место занимают женские образы. М. Папаскир, в частности, отмечал, что в романе Д. Гулиа «Камачич» ощущается воздействие «формы повествования» произведения Ф. Достоевского «Бедные люди» (51). А В. Анкваб считал, что «Камачич» и «Бедные люди» совершенно разные творения. Вместе с тем, он не отрицал влияния русской классики, особенно романов А. Пушкина «Евгений Онегин», Л. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина», драмы А. Островского «Гроза» и др. По его мнению, Д. Гулиа обратился в 30-х гг. к новой теме, которую еще не затрагивала национальная литература (52). Речь идет о создании образа абхазской женщины. И это, как был убежден В. Анкваб, не случайно: образы Татьяны Лариной, Наташи Ростовой спровоцировали абхазского писателя на создание образа Камачич. Сравнивая, например, Наташу Ростову с Камачич, литературовед писал: «...Вспомним, как Наташа умела прекрасно танцевать. И Камачич тоже в танцах не уступает никому... Если Л. Толстой показывает свою героиню как замечательную наездницу, то героиня Гулиа держится в седле не хуже мужчин, и даже лучше. Воспитанность, энергичность, красота, женственность — характерные черты как Наташи Ростовой, так и Камачич. В доме родителей Наташа занимает особое место, о ней заботятся, на нее обращены все взоры... И образ Камачич раскрыт в этом композиционном ключе...» (53). И далее В. Анкваб сравнивает образ Камачич с образами Катерины («Гроза») и Катюши Масловой («Воскресение») и зачастую приходит к привычным для литературоведения прошлых десятилетий выводам: «... Камачич, как и Катерина, в жизни не достигает идеала своей мечты. Ее счастью препятствует
152
эгоистичный мир угнетателей... Она тоже протестует. Однако протест Камачич сопровождается и прогрессивной борьбой. В финале романа погибает не Камачич. Она победила, выстрелив в классового врага» (54) и т. д. и т. п. Выше уже говорилось о «классовой борьбе» и «классовом антагонизме». Только добавлю, что текст романа «Камачич» вряд ли полностью подтверждает позицию В. Анкваба.
Здесь, конечно, возможно говорить о воздействии не только русской, но и мировой классики, которая изобилует женскими образами. Однако речь должна идти больше об общеинтеллектуальном влиянии, чем о конкретном (например, на создание образа Камачич, структурную организацию произведения и т. д.). Д. Гулиа прекрасно знал мировую литературу, она сыграла огромную роль в становлении писателя, в формировании его эстетических взглядов и художественного мышления. Но было бы неправильно, и даже бессмысленно искать конкретные факты влияния в структуре романа «Камачич» или образе героини, (они порою и не видны), хотя допустимо сопоставление характеров Камачич и Наташи Ростовой, Камачич и Катерины, Камачич и Катюши Масловой и т. д. Вместе с тем, очевидно, что, по большому счету, эти персонажи ничего общего между собой не имеют; в образе каждой из них отражен конкретный мир, индивидуальное мировосприятие, национальный характер. У героинь Пушкина и Толстого — русский стиль жизни, поведения, отчасти смешанный с европейским. Камачич — дитя патриархальной, суровой горской жизни со своими обычаями и традициями; при всей видимой ее раскованности, решительности и свободе, собственное «Я» героини слито с этническим «Я». Определенное сходство, которое, в частности, выделил В. Анкваб, говорит о наличии параллелизмов в различных национальных литературах. Другое дело, проблема историко-духовных основ, истоков возникновения параллелизмов; она требует глубокого изучения подобных явлений, погружения от поверхностного восприятия в национальные корни, в исторические, культурные, может быть этнические и этические связи.
При создании крупного эпического произведения об абхазской женщине Д. Гулиа прежде всего опирался на этнографические материалы (об этом говорилось выше) и фольклор. Образы героических женщин встречаются в Нартском эпосе (всемогущая мать нартов Сатаней-Гуаша, ее дочь Гунда-красавица). О Гунде-красавице, как и о Камачич, говорили: «ахаҵамԥҳәыс» (т. е. она и женственна, и мужественна одновременно, девушка-героиня в прямом смысле этого слова). Она была известна и на Востоке, и на Западе. Лучшие храбрецы сватались к ней. Но она дала обет, согласно которому мужем Гунды мог стать только тот, который победит ее в борьбе. 99 героев-женихов она одолела, но сотого не смогла... Им оказался знаменитый Хуажарпыс. Нарты обрадовались: они наконец-то увидели будущего достойного зятя.
Типичные героико-эпические образы женщин занимают особое место в фольклорных историко-героических произведениях. Они, с моей точки зрения, оказали наибольшее влияние на создание образа Камачич. В главе-рассказе романа «Игра в мяч» Д. Гулиа сжато, но емко рисует портрет Камачич, которая участво-
153
вала в празднике, состоявшемся в день Пасхи в усадьбе князя Нахарбея: «Умением танцевать она удивила всех. По красоте своей никто не мог тягаться с ней. Ее речь (манера говорить) была прекрасной. Была воспитанна... Стройна. Никто не мог оторвать от нее глаз. Танцевали с ней сыновья князей и дворян... Всем понравилась. Как она мастерски ездила на коне,.. метко стреляла, как она умела вести себя... Об этом говорили без конца... В джигитовке побеждает достойных парней; стреляет метко, попадает прямо в центр мишени... ». («Лыкуашарала ауаа лыргачамкит. Ԥшралеи сахьалеи уи илыцназгоз уа уаҩ дыҟамызт. Лыҿцәажәара зынӡак уаҩ дархагон. Лыуаҩышьа уеизгьы ибзиан. Лычаԥашьа наҳәак аҭахымызт. Иахьа абраҟа уи зегьы длаԥшықурҵеит. Абраҟа ҭауади-аамсҭеи рыҷкунцәа аә длыцкуашеит, ҩыџьа лыцкуашеит, зынак ргу дахуаеит. Леи лкуадыри уҳәа, нас аҽы шлырхумаруа атәы, лхысшьа атәы, лыуаҩышьа атәы зегьы инеимда-ааимдо уа ҳәатәыс ирыман... Ҿыҳәҵәыла арԥарцәа заманақуа ҿыжәыҟьҟьа икалыжьуеит, шәақьла ахысразы ацәҟьара кыдылԥаауеит». (С. 117).
Такое описание образа Камачич с использованием обилия «непереходных эпитетов» (55) придает ему особый героико-эпический характер.
В народной поэзии, в историко-героических сказаниях повествователь (в лице сказителя) играет особую роль в раскрытии образа эпического персонажа. Он часто в начале повествования использует эпитеты, сравнения и другие художественные средства для того, чтобы запечатлеть незабываемый портрет героя; особое внимание обращает на внешние атрибуты героического характера (одежда, оружие, конь и т. д.), подчеркивает его физические возможности, храбрость, ловкость и т. д. В частности, в сказании (аҳәамҭа) о герое Абатаа Беслане читаем:
Аԥсны иааӡаз Абаҭаа,
Дхаҵа Ӷьеаҩын иаамҭала,
Ԥшреи сахьалеи чаԥашьалеи
Дкаҷҷа каҷҷон мра ҳасабла,
Ҽыуаҩ-хаҵан, ҽыбӷа ҟазан.
Иаҳәеи иҟамеи,
Кумжәи кабеи,
Хҭырԥарқьақьеи —
Абарҭ рыла имҩашьаӡоз
Аԥсуа хаҵа Абаҭаа.
Ишәақь ҭаҳәҭеида
Ибӷа икыдын —
Игу змыршәоз,
Ила зымжьоз.
Аԥсаатә мҩас
Абла ҭиҟьон,
Аԥслаҳә мҩас
154
Абӷa ԥиҵәон,
Аҽыбӷаҟны
Шәара зқумыз
Абаҭаа Беслан хаҵа... (56)
Абатаа Беслан, воспитанный в Абхазии,
В свое время был героем,
Был красив, статен,
От него исходили лучи, словно солнце.
Был джигитом, удалым наездником.
Его сабля и кинжал,
Черкеска и папаха —
Выделяли героя Абатаа.
Его ружье в чехле...
Закинуто за спину,
Оно никогда его не подводило.
Он мог попасть в глаз летящей птицы,
Прострелить позвоночник скачущей косули,
А на коне он был бесстрашным
Герой Абатаа Беслан...
В описании образа Камачич Д. Гулиа исходит из фольклорных традиций. Вместе с тем, образ воинственной (axaҵaмԥҳәыс) женщины, способной на героические поступки, раскрывается в ряде фольклорных произведений, которые встречаются в стихотворной и прозаической формах. Примером может служить образ Баалоу-пха Мадины в сказании «Герой Пшкиач-ипа Манча и Баалоу-пха Мадина». В произведении Мадина женственна и мужественна, как и Камачич. В нем говорится, что «она была подобна солнцу, о ее чести и славе знали везде». И далее:
Мрада дыԥхон,
Мзада дкаҷҷон.
Касыш зхаз лара дреиӷьын,
Хҭырпаш зхаз лыдҽырбалон,
Арԥар шьахуқуа ҽырбацәа,
Ааигуа-хара ныҟуацәа
Лҳәара иашьҭан иацәнымхауа... (57)
Словно солнце сияла,
Словно луна блистала.
Она была лучше всех, кто носил косынку...
Удалые парни
155
Издалека и изблизи
Сватались к ней...
Кроме того, Мадина прекрасно играла на ачамгуре (58) и пела.
На ней женится герой из героев Пшкиач-ипа Манча. Через два дня после свадьбы владетельный князь вызвал к себе Манчу и попросил возглавить армию в борьбе против захватчиков, напавших на Абхазию. Манча не мог отказаться, однако в кровавом бою он геройски погибает. И далее события развиваются так же, как в романе «Камачич», после гибели ребенка Камачич. Перед нами встает образ уже не хрупкой, нежной женщины, а мужественной Баалоу-пха Мадины. После похорон мужа, она оделась в мужскую одежду, «взяла оружейные принадлежности, порох и свинцовые пули, большую саблю ... оседлала коня, вскочила на него и вылетела из двора...» (59). Она отомстила за мужа, проявила в бою чудеса храбрости, и, благодаря ей, были разбиты вражеские войска.
Эпическая героизация образа женщины встречается и в других фольклорных произведениях.
В абхазском литературоведении не раз писалось о влиянии поэтики фольклора на произведение Д. Гулиа. Одни исследователи отмечали воздействие Нартского эпоса на роман «Камачич». В частности X. С. Бгажба пишет, что «Камачич» состоит из 37 более или менее автономных, самостоятельных глав-рассказов (60). Придерживаясь этой мысли, В. Авидзба считает, что Нартский эпос бытует в народе как «рассказы о Нартах» (Нарҭаа ирызкыу ажәабжьқуа), хотя иногда встречается и термин «сказание» (аҳәамҭа). «При этом каждый рассказ имеет свой собственный, автономный сюжет и повествует о тех или иных эпизодах из жизни нартов или, действиях кого-нибудь из них, главным образом — его основного героя, Сасрыквы» (61). В итоге, Авидзба утверждает: «Композиция романа Д. Гулиа также построена на рассказах из жизни главной героини Камачич, ее семьи, соседей и родственников... В основе их лежит цикличность, то есть цикл тематически близких рассказов» (62). Здесь уместно и сравнение названий глав Нартского эпоса и «Камачич». Возьмем цикл о нарте Сасрыкве, который состоит, например, из таких «рассказов» (или сказаний): «Рождение Сасрыквы», «Как Сасрыква достал звезду», «Дочь Аергов — невеста нартов» (о женитьбе Сасрыквы; впрочем и здесь встречаем героический образ храброй дочери Аергов), «Гибель нарта Сасрыквы» и т. д. А в романе Д. Гулиа следующие главы-рассказы: «Родился человек» (о рождении Камачич), «Камачич пасет буйволов», «Камачич выдают замуж за Алхаса», «Камачич вышла замуж за Татластана», «Татластан бросил Камачич», «Камачич убивает Татластана» и др. Очевидно, что название каждого рассказа предопределяет содержание главы. Рассказы, как правило, небольшие, в них нет монологов, развернутых психологических и иных описаний. Фольклорно-эпическое повествование от третьего лица (сказитель), для которого характерна образно-лаконичная речь, отражается и в главах-рассказах произ-
156
ведения Д. Гулиа. Его же использовал Д. Гулиа ранее в своем первом рассказе (или повести) «Под чужим небом»; в нем писатель очень сжато, но емко показал судьбу главного героя Елкана.
Любопытна еще одна деталь. В Нартском эпосе после необычного рождения Сасрыквы рождается и прекрасный конь (арашь) Бзоу, которого смог приручить (оседлать) только Сасрыква. Конь был его верным другом. В романе Гулиа, в главе-рассказе «Как извлекают душу утопшего из воды» автор кратко сообщает о дорогом коне, подаренном юной Камачич Леваном. На нем Камачич показала себя настоящим джигитом. Д. Гулиа пишет: «Она (Камачич) была легкой, ловкой, природно одаренной девушкой, но... и лошадь была хороша, красива; никто не знал о ее способностях (возможностях) (абаҩ иалаз уаҩы цқьа издыруамызт). О Камачич тоже говорили, что она замечательная наездница, но об этом мало кто знал еще» (С. 81).
В поэтической структуре романа «Камачич» значительное место занимают пословицы и поговорки (их более 40) и вставные рассказы (около 20), которые несомненно принадлежат к жанру «устного рассказа» (63); они непосредственно связаны с жизнью и бытом народа, отражают особенности этносознания, мировосприятия абхазов, в определенной степени философию жизни этноса (этот аспект усиливается и введением в структуру произведения элементов традиционных /«языческих»/ религиозных верований, примет, «языческих» обрядов и т. д.). Эти материалы, с одной стороны, углубляют этнографизм романа, с другой — обогащают поэтику произведения, отражают мудрость народа, характеризуют самих героев, в устах которых звучат пословицы и устные рассказы, усиливают экспрессивность речи повествователя и других персонажей. В данном случае писатель учитывает и традиции ораторского искусства, в котором часто присутствует фольклорный компонент.
Даже некоторые названия глав-рассказов романа сформированы из пословиц и поговорок: «Мышкы иахыԥо шә-мшы иахыԥоит» («Отложенное на один день дело, откладывается на сто дней»), «Аусқуа зегьы ҿҳәарак-ҿҳәарак рымоуп» («Все дела имеют свой срок») (вероятно, это афоризм Д. Гулиа, созданный под влиянием поэтики пословиц и поговорок).
В некоторых случаях писатель через речь персонажа объясняет историю происхождения пословиц или поговорок. Так, например, когда Алиас повез Камачич в Сухум для поступления в школу и поездка оказалась неудачной, он (Алиас), расстроенный, говорит родственнику Махазу, что они «похожи на того, кто бесцельно (бестолку) поехал в Псху (горное село. — В. Б.) и приехал» («Ԥсҳәы амала ицаны иааз еиԥш»). Конечно, эта поговорка читателю ничего не говорит. Махаз попросил объяснить суть выражения. И далее «устный рассказ» (вставной рассказ) со слов Алиаса, в котором раскрывается образ недотепы. Этот краткий рассказ, с небольшим самостоятельным анекдотичным сюжетом, усиливает содержание речи Алиаса. Вот сюжет рассказа: однажды князь позвал своего подчиненного и сказал ему, что он завтра должен отправиться в Псху к
157
тамошнему владетелю. И завтра же князь собирался изложить ему суть поручения. Однако недотепа решил: «Давай-ка я лучше отправлюсь в Псху сегодня и раньше возвращусь; за это мой господин похвалит меня». Так он и поступил. В Псху он зашел к местному владетелю и сказал, что его собирался отправить к нему князь завтра, но он решил не ждать и прибыть сюда сразу, не спросив господина о поручении.
Псхувский князь подумал и сказал: «Я знаю, что хотел твой господин, я с ним уже договорился. Он просил передать ему вон тот большой камень. Отнеси его князю, только не разбей». И недотепа, обрадовавшись, привез тяжелый камень своему князю.
Алиаса как прекрасного рассказчика мы видим в 19-й главе «Проводы ночи» (64). В ней, насыщенной этнографическим материалом, присутствуют и другие рассказчики: Луман, Капщ, Щмат. Они встречаются в романе только один раз; вообще произведение изобилует «разовыми» персонажами. Многоголосие героев подчеркивает «народную» черту творения Д. Гулиа. Глава «Проводы ночи» интересна и тем, что в ней автор использует также традиции «народного театра», на их основе молодые ребята организовывают небольшое импровизированное театральное представление с сатирическим содержанием. В нем высмеиваются царские чиновники, взяточничество и другие пороки общества.
Заметим, что «устные рассказы», пословицы и поговорки (добавим: народный юмор, анекдоты, небылицы) встречаются в речи представителей различных слоев общества: крестьянина, князя, дворянина. Все они вместе составляют единый народ. Несмотря на социальное происхождение, каждый из них обладает чувством юмора, владеет традициями народной культуры, отчасти ораторским искусством. Об этом свидетельствуют, например, речи крестьян Алиаса (отца Камачич), Дзыкура (отца Алхаса), Басиата и других (главы-рассказы: «Есме привезли лекаря», «Отложенное на один день дело, откладывается на сто дней», «Проводы ночи», «Камачич выдают замуж за Алхаса», «Цугбовцы и Чалиевцы провели собрание» и др.), князей и дворян (главы-рассказы: «Приезд Нахарбея Чачба», «Игра в мяч», «[Сухумский] начальник в гостях у Мырзакана Чачба»).
Подводя итоги анализа романа «Камачич», можно сделать следующие выводы.
Роман Д. Гулиа «Камачич» — это противостояние тому типу литературы, которая была насквозь социологизирована, отрицала традиции, этику, а такж историческую тематику. Вульгарный социологизм трактовал все это как проявления «национализма», «национального чванства», безыдейности. А идейносп понятно, была связана с классовой борьбой и социалистическим строительством. Д. Гулиа нашел выход: он обратился к прошлому народа. Роман «Камачич» был смелым и небезопасным для того времени актом писателя.
Произведение Д. Гулиа несомненно является романом, но структурно несовершенным. С одной стороны, писатель стремился отразить судьбу абхазсксой женщины (в лице Камачич) конца XIX — начала XX в. Образ главной героини,
158
при создании которого автор широко использует фольклорные традиции и этнографические материалы, — это стержень, который соединяет, скрепляет все части романа; именно он (образ) дает основание говорить о романной структуре произведения.
Камачич — дитя своего времени, но она никакого отношения не имеет к революционным событиям начала XX столетия, хотя близко знакома с социалистами Иваном и Леваном. Д. Гулиа слегка касается этого вопроса, не делая его главной темой, не «революционизируя» образ героини, ибо он как писатель-реалист, свидетель эпохи пытался отразить реальную картину абхазской действительности описываемого времени. Он прекрасно понимал, что в тогдашней аграрной Абхазии, с преимущественно патриархальным крестьянским населением, революционные идеи не имели широкого распространения и социальной базы. Вместе с тем, Д. Гулиа не скрывал социальные противоречия, существовавшие в обществе. Возможно, автор хотел показать, что месть Камачич — это протест против социальной несправедливости, неравенства и т. д. Однако текст романа в этом не убеждает, он сосредоточен на отражении быта народа, этнофактов.
Поэтому, с другой стороны, писатель стремился создать этнографический портрет абхазов досоветского периода. Увлеченность автора этнографией подтверждает и структура образа Камачич.
Повествование в романе ведется главным образом от лица неперсонифицированного повествователя, в котором легко угадывается сам автор. Автор-повествователь является важнейшим структурообразующим элементом поэтики произведения. Через его лаконичную речь, в которой ощущаются элементы ораторского мастерства, раскрываются характеры героев, особенности конкретных национальных обычаев, обрядов, этики и т. д. При этом повествователь сосредоточивает внимание на описании видимого, внешнего портрета героя (главным образом Камачич), действий персонажей, не углубляясь во внутренний мир действующих лиц; особое внимание уделяется этике повеления персонажей. От речи повествователя зависит и характер развития сюжета. Благодаря ей основные события происходят то медленно (особенно тогда, когда вводятся рассказы /часто вставные/ о тех или иных обрядах и обычаях /например, «Поминки Озбека» и др./), то быстро (когда речь идет о судьбе Камачич).
Язык повествования близок к языку фольклора, который, как правило, отличается легким, не усложненным стилем.
Часто объективное повествование прерывается диалогами (тоже важное средство раскрытия характеров), в которых участвуют как персонифицированные, так и неперсонифицированные персонажи. Лаконичные речи действующих в романе лиц способствуют воссозданию картин жизни и быта, социальной структуры общества, мировосприятия различных слоев населения. Кроме того, они играют существенную роль в раскрытии образа Камачич и других героев.
159
Этим не ограничивается функциональное значение речи повествователя и персонажей; она также формирует этнографизм романа, отражает этносознание, этнопсихологию народа, позволяет говорить об этнософских аспектах литературы.
В данном случае можно было бы поставить вопрос и об «этнографии речи», которая может стать объектом лингвистического исследования.
Как уже отмечалось, в романе сильно ощущается влияние эстетики фольклора (в языке, новеллистической организации произведения, в создании образа главной героини и других персонажей и т. д.). Автор активно использует пословицы и поговорки, народные (устные) рассказы и юмор. Однако в произведении фольклорные материалы не претерпевают глубокой трансформации, не превращаются в символы и метафоры, как это происходит, например, в более поздних романах (Б. Шинкуба «Рассеченный камень», А. Гогуа «Большой снег» и др.). Фольклорные, как и этнографические материалы, в основном сохраняют свое первоначальное значение, ибо они связаны с главной целью автора — отражением реальной жизни и особенностей быта народа в конце XIX — начале XX в., свидетелем которых являлся сам Д. Гулиа. Поэтому, во-первых, произведение представляет ценность как художественное творение; во-вторых, оно в той или иной мере может быть использовано как источник по этнографии абхазов. А язык романа дает ценный материал для лингвистики.
* * *
Произведение Д. Гулиа «Камачич» опубликовано в первой половине XX в. А в конце столетия появляется роман Б. Шинкуба «Рассеченный камень», состоящий из двух книг. Первая книга написана в 1978-1981 гг. и напечатана в журнале «Алашара» («Свет») в 1982 г. ( №№ 4, 5, 6, 7), отдельной книгой вышла в 1983 г.; сразу же была переведена на русский язык И. Бехтеревым и выпущена издательством «Советский писатель» (М., 1986). Ко второй книге автор приступил в июле 1987 г. и завершил в мае 1991 г. Ее написание и публикация стали возможны благодаря новым переменам в стране и ликвидации цензуры. Вторая книга еще не переведена на другие языки. В итоге окончательный вариант романа опубликован в 4-м томе собраний сочинений Б. Шинкуба (Сухум, 1998). К сожалению, том издан со многими ошибками; местами (особенно во второй книге романа) текст перепутан, отсутствуют целые абзацы. Видимо, необходимо второе исправленное издание произведения.
Б. Шинкуба, продолжая традиции Д. Гулиа, художественно исследует важнейшие проблемы истории и культуры народа в переломную эпоху, наступившую после установления советской власти в Абхазии в 1921 г., то есть после времени, описанного в романе «Камачич»; он создает историко-духовный портрет этноса 20-30-х гг., раскрывает судьбу Апсуара — основы этнической иден-
160
тичности — в сложнейших условиях, особенности этнического сознания абхазов, их мировоззрения, философских взглядов. «Рассеченный камень» — уникальное явление в национальной литературе, которое осмысливает этнософские вопросы. Кроме того, примечательной чертой романа Б. Шинкуба является то, что в нем фольклорные и этнографические материалы органично вплетаются в поэтическую структуру произведения и выполняют художественную функцию. А в романе «Камачич», как уже отмечалось, часть фольклорных и этнографических материалов едва удерживается в художественной структуре произведения; она больше всего имеет этнографическую ценность.
Литературоведение еще не высказало своего мнения об окончательном варианте романа «Рассеченный камень». Однако после публикации первой книги на абхазском (1982) и русском (1986) языках на нее откликнулись почти все абхазские и некоторые русские критики и ученые: Ш. Инал-ипа (65), В. Ацнариа (Цвинариа) (66), С. Зухба (67), Ш. Царгуш (68), В. Кожинов (69) и другие. Многие авторы отмечали энциклопедическую широту романа. Ш. Инал-ипа писал: «“Рассеченный камень” отразил почти все стороны жизни абхазского села 20-х годов. В романе показаны особенности жизни и быта... крестьянина, его деятельность ... гостеприимство ... питание, обычаи и традиции ... этику, его песни и сказки, религиозные верования... [Однако] “Рассеченный камень”... не этнографический роман, и не учебник, но можно сказать, что он — художественная энциклопедия по этнографии абхазов...» (70). По словам С. Зухба, «Рассеченный камень» — это многоплановое, полифоничное произведение, в котором широко раскрываются характерные черты жизни абхазов послереволюционной эпохи (71). В. Ацнариа (Цвинариа), поддерживая мнение Ш. Инал-ипа, отмечает, что энциклопедичность романа достигается благодаря универсальности писателя: Б. Шинкуба выступает в нескольких ипостасях — в лице прозаика, поэта, лингвиста, фольклориста и этнографа (72). Именно это, по мнению В. Кожинова, позволило автору отразить полную картину эпохи, историко-культурное наследие народа, которое по сей день продолжает функционировать. Через всю повествовательную структуру проходят мифологические, фольклорные и исторические образы; они связаны с современной жизнью главного героя Лагана, его родственников и соседей (73). Короче говоря, «Рассеченный камень» — это роман о судьбе Апсуара, которая пережила тяжелейшие испытания в XIX-XX вв., но смогла сохранить свои основы благодаря своей же духовной силе. О том, что Б. Шинкуба постоянно волновала судьба Апсуара, свидетельствует все его творчество. Поэтому некоторые критики (например, С. Зухба, В. Ацнариа) отмечали духовную связь «Рассеченного камня» с другими произведениями писателя, в частности с романами и поэмами «Последний из ушедших», «Песня о скале», повестью «Чанта приехал» и т. д. (К этому вопросу мы еще вернемся в ходе анализа образов героев). Вместе с тем, С. Зухба проводит параллели между «Рассеченным камнем» и романами Ч. Айтматова «И дольше века длится день», Г. Маркеса «Сто лет одиночества» и Р. Гамзатова «Мой Дагестан»; в них, как полагает исследователь, писатели рас-
161
крывают общую для всех проблему взаимоотношений «старого» и «нового», придерживаются идеи необходимости сохранения хороших традиций, преемственности, духовных связей поколений. Однако критик ограничился лишь заявлением о типологических связях между различными произведениями, возникшими на базе далеких друг от друга национальных культурных и литературных традиций. В. Ацнариа, говоря о допустимости таких сравнений, подчеркивает, что между названными произведениями больше различий, чем схожести. Он считает, что, например, в поэтике романа Г. Маркеса «Сто лет одиночества», посвященном трагической судьбе Маконды, символизирующей столетнюю историю Колумбии, преобладают фантастика и гротеск; его сюжет мифологичен. «По художественным традициям Маркес больше напоминает Рабле, Гофмана, Гоголя, Достоевского, Джойса, Кафку, Камю, Т. Манна... Логичнее было бы сравнивать другой роман Б. Шинкуба “Последний из ушедших” с произведением Маркеса, ибо он описывает историю гибели целого народа... В “Последнем из ушедших” мотив исчезновения народа за одно столетие во многом перекликается с содержанием и названиями... романов Маркеса и Айтматова “Сто лет одиночества” и “И дольше века длится день”. В поэтическом плане трагическое содержание произведений раскрывается с помощью “принципа сжатого времени”. 3а один или несколько дней перед нами проходит картина вековой жизни... С этими произведениями нельзя соотнести роман “Рассеченный камень”... У “Рассеченного камня” совершенно иные черты; он написан на автобиографической основе... В произведении через раскрытие жизни одной семьи показывается, мировосприятие целого народа. “Рассеченный камень” — семейный роман и роман-воспитание одновременно... [В нем], как нигде в другом произведении, отразилась абхазская народная педагогика ... [национальная] этическая культура, “апсуара”» (74). Далее В. Ацнариа, характеризуя Апсуара, пишет: «Если осмыслить высокочтимые абхазами человеческие качества — мужество, человечность, дворянское воспитание (аамысҭашәара), терпимость, сдержанность ... мы не можем не заметить, что духовная культура народа близка к древнейшим культурам (Кавказа, Греции), с создателями которых абхазы постоянно поддерживали духовные контакты... Богатейшая абхазская этическая культура — результат взаимодействия культур народов; она корнями уходит в патриархально-родовой строй, в эпоху военной демократии, вбирает в себя затем феодально-рыцарский этикет. Однако, несмотря на общечеловеческие особенности абхазской духовной культуры, ей присущи такие черты, которые делают ее национальной культурой,.. которую народ в целом называет “апсуара”» (75). По мнению литературоведа, в «Рассеченном камне» проявляет себя сочетание двух художественных традиций — современной литературы и литературы эпохи Просвещения, главным образом «романа-воспитания». Идеи Просвещения пронизывали все творения Д. Гулиа. Размышляя над произведением Б. Шинкуба, В. Ацнариа вспоминает прежде всего автобиографическую книгу В. Гёте «Поэзия и правда», два его романа о Вильгельме Мейстере («Годы учения Вильгельма Мейстера» и «Годы
162
странствий Вильгельма Мейстера»), произведения JI. Толстого «Детство», «Юность» и «Отрочество», М. Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты», Руссо «Исповедь» и т. д. и делает любопытные сравнения. Он останавливается на точке зрения Гёте о значении биографии в раскрытии характера связей между человеком и эпохой, временем. Для Гёте правда — реальное событие, а поэзия — художественный взгляд на это событие, образное его раскрытие с использованием вымысла. В биографии необходимо показать конфликт между человеком и эпохой, если он в действительности был, насколько эпоха благоприятствовала ему, диалектику его мировосприятия, как человек, будучи писателем, смог воссоздать все пережитое им. Эти мысли встречаются в романе Гёте «Поэзия и правда», в котором рассказывается о детстве, юности, духовном становлении писателя, создаются образы его отца, матери, окружающих людей, выражаются интересные взгляды автора на мировую и немецкую литературу. Роман «Поэзия и правда», как и произведения Л. Толстого, М. Горького и других писателей, считает В. Ацнариа, помогает понять многие стороны романа Б. Шинкуба «Рассеченный камень».
В. Ацнариа, называя произведение Б. Шинкуба «романом-воспитанием», акцентирует внимание на характеристике народной системы воспитания у абхазов, которая отражена в «Рассеченном камне». Эта система включает «спартанский» метод воспитания, который главным образом был нацелен на подготовку мужественного, выносливого, физически крепкого и ловкого воина, владеющего всеми видами оружия. Абхазский фольклор свидетельствует об особенностях мировосприятия народа, о его героическом характере, терпимости и сдержанности. Человек должен с честью прожить свою жизнь, мужественно и достойно переносить трудности, сохранять отцовский очаг, родной язык, обычаи и традиции народа, преемственность поколений, беречь Апсуара — это неполный круг вопросов, затронутых в романе «Рассеченный камень».
Попутно заметим, что Б. Шинкуба непосредственно обратился к теме Апсуара в конце 1993 г., после завершения второй книги «Рассеченного камня»; он пишет небольшую этнографическую книгу «Пока живы корни — дерево растет (живет). Размышление об абхазском этикете» (Сухум, 1995. — На абх. яз.). Эт не обычное научное исследование, а пространные заметки писателя-публициста, этнографа и философа об Апсуара, рафинированное изложение взглядов автора на национальную этику, ранее отраженных в повести «Чанта приехал», романе «Рассеченный камень» и других произведениях. Говоря о своей книге, писатель отмечает: «Предложенную читателю работу под названием “Пока живы корни — дерево растет (живет)” я не собирался перегрузить всеми подробностями (решить в ней все проблемы Апсуара). Эту книгу следует воспринимать как некоторые заметки человека, который всю жизнь интересовался духовной культурой народа, но не нашел времени обстоятельно ее изучить» (76). Да, конечно, Б. Шинкуба не написал специального объемного исследования о национальной этике, которую он считает важнейшим и бесценным культурным достоянием абхазов,
163
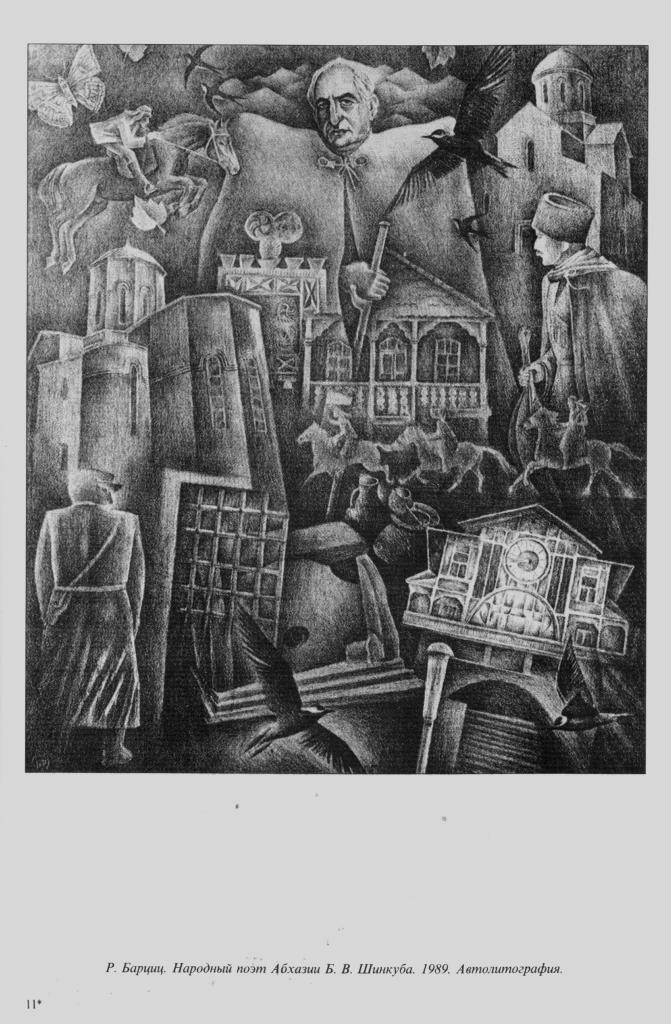
164
хотя мог. «Неиссякаемы источники, которые способствуют сохранению обычаев и традиций, оживляют корни. И пока эти корни живы — народ продолжает жить» (77), — пишет автор. Речь идет не о физическом существовании народа, а о его духовности, национальной идентичности, этническом облике, судьба которого непосредственно связана с судьбой Апсуара. Можно сказать, что Б. Шинкуба, как и многие абхазские писатели, стоит на позициях «почвенничества» (78). Писатель отмечает: «Когда кто-то видит падающую звезду, он обязательно скажет: “И моя звезда горит на небе!” Он убежден, что у каждого живого существа есть своя звезда на небе... Обычаи и традиции, составляющие Апсуара, как те звезды освещают жизнь нашего народа. Несмотря на свою древность, эти обычаи всегда новы. Некоторые традиции испытали на себе сильное воздействие исторических процессов, но сохранились, а другие вовсе исчезли, не выдержав давления жестокого времени... Упадет одна звезда, вместо нее появляется другая; в противном случае небо давно опустело бы... К сожалению, иначе обстоят дела с народными обычаями и традициями: если они стерлись из жизни, то их... практически невозможно возродить. Другая судьба у едва сохранившихся обычаев, их можно оживить, укрепить и развивать» (79). По мнению автора, все национальное духовное богатство определяется одним словом — Апсуара! Благодаря именно ей абхазский народ, не раз оказывавшийся на грани исчезновения, сохранил свою самобытность и не растворился среди других многочисленных народов. «Наши предки не случайно всегда первый тост поднимали с такими словами: “О Всемогущий Бог, не дай погибнуть нашей Апсуара!”» — пишет Б. Шинкуба. И не случайно они ревностно относились к обычаям и традициям, и для них их исчезновение было равносильно смерти этноса. «Почвеннические» взгляды Б. Шинкуба сформировались прежде всего на основе Апсуара, в рамках которой он рос, воспитывался (об этом свидетельствует образ Лагана в «Рассеченном камне», о котором еще скажем ниже).
В книге «Пока живы корни — дерево растет (живет)» Б. Шинкуба описывает многие нормы Апсуара, которых следует придерживаться в определенных ситуациях. Так, автор характеризует особенности этики семейных отношений, поведения мужа и жены, снохи и свекра, воспитания детей, свадебный обряд, обычаи, связанные с похоронами, этикет застолья, гостеприимства и т. д.; размышляет над такими категориями, как «сдержанность», «терпимость» и «зависть». С точки зрения писателя, Апсуара является мерой оценки добра и зла. Нравственные установки Апсуара часто перекликаются с христианской моралью, что свидетельствует о синтезе традиционных и христианских ценностей. Автор (как и в «Рассеченном камне») постоянно использует фольклорные материалы (пословицы, поговорки, загадки, обрядовую поэзию и т. д.), которые образно, лаконично отражают суть многих норм национальной этики. Например, в одной части книги, отличающейся художественными качествами, размышления писателя о сдержанности и терпимости сопровождаются «Песней ранения» и пословицами. Б. Шинкуба утверждает, что человек, воспитывавшийся в настоящей
165
абхазской семье (т. е. в семье, для которой законы Апсуара незыблемы), не может не приобрести такие важнейшие позитивные качества, как совестливость, порядочность, честность, чувство ответственности (ламыск имамкуа дзыҟалом). Следовательно, ему должны быть присущи сдержанность и терпимость. Эти качества он перенял у деда или отца. Дед был прекрасным рассказчиком и оратором (очевидно, что его прототипом является дед Б. Шинкуба Жажа /Жьажьа/ (80), который напоминает и героя романа «Рассеченный камень» Бежана — деда Лагана). «Когда он говорил, внимательно следил за своей речью... и слушателями, пытаясь уловить их реакцию... В большой семье деду не раз приходилось слышать обидные слова, но он никогда резко не воспламенялся,.. сдерживал себя, хотя мог сказать пару слов обидчику. Дед выжидал, и, когда наступал подходящий спокойный момент, он открыто обсуждал то, что его задело раньше. Его поучительная речь была адресована не только тому, который позволил себе высказать непристойные слова, но и всем остальным членам семьи» (81). Затем автор рассказывает о трагическом случае, происшедшем когда-то с дедом. При чрезвычайных обстоятельствах он упал с лошади и поломал левую ногу. Свидетелем событий был внук. Деда привезли домой и осторожно положили на кровать. Он не стонал, хотя испытывал сильную боль. Не стонал и тогда, когда известный в народе костоправ вправлял ему ногу, он лишь скрежетал зубами, ибо, как считал старец, мужчине не подобает стонать и выдавать свою боль. В памяти внука навсегда запечатлелись слова из «Песни ранения», которую неожиданно запел больной дед. В ней есть строки, встречающиеся и в романе «Рассеченный камень»:
Неспроста говорят, видно:
Для мужчины боль — испытание.
От кинжала рана мучительна
От обиды — еще больнее.
Но терпи, если ты мужчина,
Зубы стисни, но боль не выдай!
И не стоном глуши страдания,
А спокойной и звонкой песней.
Пусть покажется потом горьким
Кровь твоя, что из раны хлещет.
Злая пуля, тебя сразившая,
Пусть покажется мелким зернышком... (82)
(Перевод И. Бехтерева)
На этот раз дед похож на эпического певца, мужественного старца Мамсыра из «Рассеченного камня», который лежал с раздробленным бедром и без стона переносил острую боль, напевая «Песню ранения».
166
Завершая свои мысли о сдержанности и терпимости, автор пишет: «Если человек не сдержан и не терпелив, от него можно ожидать всякое; он может совершить и преступление. Неспроста в народе говорят: “Кто много терпел, тот многое увидел (или добился)”» (83).
В книге «Пока живы корни — дерево растет (живет)» Б. Шинкуба размышляет и о «зависти» как о человеческом пороке. По его мнению, она противоречит канонам Апсуара и, как правило, часто приносит людям беду, ибо от зависти до ненависти всего один шаг. В связи с этим он рассказывает о судьбе одного талантливого поэта (автор не раскрывает его имени), которого осудили в 1937 г. как «врага народа» и выслали в Магадан, где через десять лет он умер в лагере для заключенных. Таких примеров было много в то время. Одна из главных причин гибели поэта — зависть. Ведь доносили на поэта свои же «братья по перу». Ситуация явно напоминает «маленькую трагедию» А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Автор считает, что «зависть — наследие старины, она вечна, но с ней постоянно надо бороться. Понятно, что ее обычно трудно выявлять... Поэтому молодежь надо уберечь от этой ужасной болезни...» (84). Продолжая свою назидательную речь, писатель предлагает: «... Детям необходимо прививать любовь к человеку; они постоянно должны осознавать, что добро и зло вечно соседствуют... в душе каждого. Человека, думающего только о себе, ничего хорошего не ожидает. Кто сделал доброе другому, он себе же сделал хорошее... В воспитании детей надо широко использовать христианские моральные нормы, особенно заповеди Иисуса Христа... “Возлюби ближнего как самого себя” — ...эту главную заповедь они должны понять и запомнить...» (85). Словом, зависти автор противопоставляет человеколюбие, призывает сохранять Апсуара для будущих поколений. Он приводит слова известного в первой половине XX в. долгожителя Абхазии, уроженца села Тамыш Очамчирского района Шхангери Бжаниа, записанные в 1946 г. (тогда ему было 148 лет). «Наверху небо, внизу земля, а между ними светится солнце. Для абхаза Апсуара подобна им. Он будет жить до тех пор, пока жива Апсуара! Наша родина и Апсуара рождены друг для друга... Вот это не забывайте вы, молодежь!..» (86). Вместе с тем, Б. Шинкуба понимает, что не все соблюдают Апсуара; одни не знают ее сути, другим она невыгодна, ибо мешает, по их мнению, нормально, сытно и роскошно жить. Об этом свидетельствуют и произведения других абхазских писателей и поэтов. Классик национальной поэзии второй половины XX в. Т. Аджба в четверостишии «Ответ тому, который сказал мне: “Ты не смог перешагнуть через свою Апсуара”» писал:
Исыздыруам уара ушыԥаз,
Исыздыруам уара узхыԥаз!
Сара сагъсуара сзахымԥеит,
Уи сахыԥартә илаҟумхеит!.. (87)
167
Не знаю, как ты прыгал,
Не знаю, через чего ты перепрыгнул,
А я через Апсуара не смог перепрыгнуть,
Она не оказалась такой низкой, чтобы через нее я перепрыгнул!..
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
Поэт воспитан в духе Апсуара, на основе высоких нравственных начал, и он, естественно, не мог пренебречь этикой. Когда он оказался перед выбором: или Апсуара, или личная выгода (которую можно было получить, отрекшись от чести и совести /аламыс/), поэт не отступил от Апсуара.
«Апсуара» называется другое стихотворение Т. Аджба. В нем автор отмечает, что Апсуара имеет глубокий смысл, ее нельзя отбросить в сторону, без нее жизнь — пустой звук; у Апсуара большая трагическая история, омытая кровью. Т. Аджба пишет:
Аԥсуара иадоу рацәоуп,
Ӡыхьуп — изқум ҭабара,
Уаҩроуп уи, разҟыуп, лахьынҵоуп,
Инкажьны узаԥырҵуам џьара.
Дызбоит, иара итәала, акгьы згым,
Дтәы-дыԥха, дԥагьа зегьрыла,
Ԥынгылакгьы хьаас изкым...
Са саԥсуара сымоуп ԥынгылас!
Аԥсҭазаара еижьагоуп, имцуп, —
Аԥсуара анаваха адәныҟа.
Аԥсуара зцым — зегь тацәуп,
Аԥсуара аныҟам — егьыҟам!..
Аԥсуара ахыҵәон ҳдунеи —
Аныҟугара ус имариазар.
Аԥсуара анырх’уан, аиеи —
Аныхраҵәҟьа ус имариазар.
Аԥсуара мчыҵәҟьоуп кыргьы,
Изакуҵәҟьоу здырхьада ҽеила?..
Уцәымзақуа рызынтәык ԥсыргьы
Аԥсуара уарӡуам, унеила!
Иаҵаӡхьоу даара ирацәоуп,
Алеишәақуа цәгьоуп аҭоурых.
168
Аԥсуара — шьала икуабоуп,
Иааира бираҟыуп — ишьҭых! (88)
Апсуара многозначна,
Она — неиссякаемый источник,
Человечность, счастье, судьба,
Не отказаться от нее никогда.
Кто-то живет в достатке,
У него есть все, что он хочет,
Никакое препятствие ему не помеха...
А меня держит моя Апсуара!
Жизнь становится бессмысленной, лживой, —
Если Апсуара будет забыта.
Без Апсуара — все пустота,
Не будет Апсуара — исчезнет все!..
... Апсуара охватила бы весь мир,
Если было бы легко выполнять ее нормы.
Да, Апсуара уничтожили бы, стерли бы вовсе,
Если было бы легко ее уничтожить.
Апсуара — могучая сила,
А кто же полностью понимает ее суть?..
Если в твоих руках потухнут все свечи,
Иди вперед, Апсуара не даст тебе затеряться!
Многое пережила Апсуара,
Ее история сложна и трагична.
Апсуара обогрена кровью,
Это знамя победы — держи его выше!
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
Представитель абхазской диаспоры в США, религиозный деятель П. С. Харчилаа подчеркивает, что «нас, абхазов, населяющих землю, должно объединить одно, общее — Абхазское, Апсуара» (89).
В 1994 г. вышла книга другого абхазского писателя, автора многих рассказов, повестей и романов Н. Хашига «Апсуара», в которой описываются многие особенности национальной этики. Прозаик рассматривает Апсуара как феномен (90). Н. Хашиг, как и Б. Шинкуба, не претендует на исчерпанность темы, на обстоятельное раскрытие всех сторон Апсуара в своей книге. Вместе с тем он
169
пытается определить содержание Апсуара. «Апсуара, — пишет писатель, — это этическая культура, созданная народом в течение веков... Она включает в себя: особенности быта народа, национальную кухню, одежду,.. песни и танцы; семейный этикет, обычаи и традиции абхазов, уважение к старшим, почтительное отношение между людьми, соседями, кровно-родственные связи, гостеприимство, культ народа и его отношение к государству, его мировоззрение и религиозное верование. Много, очень много охватывает Апсуара. Она бесконечна... Апсуара присуща вариативность. Существует семейная традиция, традиция села...» (91). Кроме того, «Апсуара — это сотворенная совестью (рыламыс) и мудростью народа национальная... этическая культура, объединяющая все стороны жизни [народа], отражающая особенности поведения, мировоззрения [абхазов]. Иначе говоря, Апсуара — это духовная культура, объединяющая всю нацию» (92).
В конце 80-х — первой половине 90-х гг. XX в. было опубликовано немало статей и исследований о национальной этике; их авторами выступали не только писатели, но и этнографы, обществоведы, лингвисты, фольклористы, журналисты, художники и др. (Ш. Инал-ипа, О. Дамениа, Г. Смыр, М. Квициниа, Р. Читашева, Л. Мхонджиа и т. д.). Несмотря на противоречивость позиций, все сходились в мнении, что Апсуара нечто большее, чем обычная этика; это — духовная культура народа, которая формирует национальный характер, миропонимание, от ее судьбы зависит и будущее нации. Л. Мхонджиа в статье «Главная наша действительность» даже определил Апсуара как религию, «религию абхаза» (93). По его мнению, «Апсуара — эта наша идеология» (94). Многие авторы выразили озабоченность по поводу возможного негативного влияния современных цивилизационных процессов на Апсуара, которое может привести к деградации национальной культуры, понесшей в XIX-XX вв. невосполнимые человеческие и духовные потери. Кстати, я об этом уже писал в книге «В конце столетия... (История Абхазии. Национальная литература и культура. Судьба Апсуара. Христианство, ислам, язычество)» (95) (1996).
Может показаться, что абхазская интеллигенция сосредоточила внимание на проблемах Апсуара только в конце XX в. Конечно же нет. Судьба Апсуара волновала народ с древних времен (о чем будет сказано в последующих главах книги). С появлением письменной литературы и формирования национальной интеллигенции во второй половине XIX — начале XX в., эта тема в той или иной форме постоянно присутствовала в публикациях писателей, ученых и публицистов (Д. Гулиа, Г. Чачба, С. Басария, К. Шакрыл, Г. Дзидзария и др.), которые пытались осмыслить пути развития абхазской культуры. Словом, речь должна идти о преемственности традиций. Однако современные авторы, остро ощущая опасность духовной деградации, забили тревогу; они, естественно, заговорили об Апсуара — основе всей культуры, которая до сих пор обеспечивала связь прошлого с настоящим, внутреннюю сплоченность народа и его единство с родиной, сохраняла историческую память.
170
Б. Шинкуба не стоял вне этих исторических и культурных процессов XX столетия, тем более что он — свидетель века и всегда старался читать все книги, журналы и газеты, выходившие в Абхазии, переживал за Апсуара. В стихотворении «Горит очаг, и пламя вьется...» (1965) поэт пишет:
Горит очаг, и пламя вьется.
Подбросить дров — не проворонь!
Из рода в род передается
Неугасающий огонь.
Хочу, чтоб все беречь умели
Огонь, пришедший из веков,
Чей отсвет лег на колыбели
И на седины стариков (96).
(Перевод Я. Козловского)
Образ незатухающего очага (ахушҭаара) (97), как символ Апсуара, встречается и в других произведениях Б. Шинкуба (стихотворение «Завещание», повесть «Чанта приехал» и т. д.). «Огонь в очаге не должен потухнуть», — эта мысль красной нитью проходит через всю абхазскую литературу. Да и первый роман Б. Шинкуба «Последний из ушедших» так или иначе связан с очагом (родиной), потеря которого привела убыхский народ к исчезновению. (Последующая глава исследования будет посвящена этому произведению.) В итоге писатель пришел к идее создания масштабного романа «Рассеченный камень» о судьбе Апсуара, этнокультурной истории абхазов в XX в., точнее — в 1922—1938 (или 1939) гг. Указанные годы составляют границы реального (основного) времени, в рамках которого происходят основные события в романе. В начале произведения центральному герою Лагану пять—шесть лет, идет второй или третий год с момента установления советской власти в Абхазии, 4 марта 1921 г. Роман завершается пиком репрессий, т. е. 1937-1938 гг. (описываются похороны главы Абхазской ССР Н. А. Лакоба, отравленного в Тбилиси Л. Берия). А художественное время, по мнению В. Ацнариа (98) и С. Зухба (99), состоит из трех уровней, охватывающих более 120 лет: 1) авторское время — это современная эпоха (конец XX в.), когда Лаган вспоминает о прошлом; 2) время воспоминаний Лагана (20—30-е гг.); 3) время воспоминаний деда Лагана — Бежана (годы последнего махаджирства /1877— 1878/). Таким образом, в романе описывается столетняя история одной семьи — семьи Бежана, не говоря уже об отдельных судьбах других персонажей в 20— 30-х гг. XX в. Через историю семьи раскрывается вековая история народа.
Кроме того, В. Ацнариа также выделяет не конкретизированное «символическое или эпическо-сказочнис время» (100), которое отражается в фольклорных
материалах, занимающих большое место в художественной структуре «Рассеченного камня». По словам В. Ацнариа, «фольклорными произведениями, иду-
171
щими от эпохи Абрскила, одухотворены... события в романе и [и жизнь героев]; благодаря им становится очевидными истоки неиссякаемой духовной силы народа, раскрывается глубина исторического и художественного мышления [абхазов]» (101).
* * *
Как и в романе «Последний из ушедших», в «Рассеченном камне» Б. Шинкуба особое значение придает повествовательной структуре произведения, которая должна усилить веру читателя в реальность событий. Может показаться, что по сравнению с «Последним из ушедших» структура «Рассеченного камня» не столь сложна и многоступенчата, что рассказ ведется только от лица главного героя Лагана, прототипом которого является сам автор. Лаган действительно является основным повествователем и очевидцем большинства событий, но не всех. Предшествующие эпические произведения Б. Шинкуба («Последний из ушедших», «Чанта приехал») свидетельствуют о том, что писатель постоянно придерживается важного принципа: тот или иной повествователь не может рассказывать о том, что сам не видел и не пережил; в противном случае художественно-эстетическая значимость творения ослабляется. Автор остался верен своему излюбленному принципу и в романе «Рассеченный камень». В нем в лице повествователей выступают и другие персонажи (дед Лагана Бежан, певец и мастер игры на национальном музыкальном инструменте ачамгуре Чичин, сын Чины, Мамсыр, Бадра, Сит и др.), но в отличие от Лагана они действуют в определенных временно-пространственных рамках и рассказывают о своей личной судьбе или истории жизни других героев. Как правило, их речи убедительны, и благодаря им границы основного времени сдвигаются и читатель узнает о прошлой жизни абхазов, об истоках национальной культуры и духовной силы народа.
Вместе с тем, в создании характеров в романе значительную роль играют диалоги. Примечательной особенностью структуры произведения является сочетание прозы с поэзией (песни Чичина, сына Чины, стихи Лагана и др.), присущее некоторым фольклорным произведениям (например, эпос о Нартах); оно способствует углубленному раскрытию духовного мира, взглядов персонажей.
Прежде чем начать рассказ о прошлом, о времени своей юности (20—30-х гг. XX в.), которое совпало с эпохой строительства социализма, «раскулачивания» большинства крестьян, приведшего к развалу сельского хозяйства, репрессий, пожилой поэт Лаган (ему более 60-ти лет) размышляет о детстве, о родном селе и очаге, о своих корнях. Порою его мысли философичны, они затрагивают основы человеческого и национального бытия. Повествователь (Лаган) в конце предисловия признает: «В народе говорят: “Не расскажешь начала — не увидишь конца”. Что ж, верно. Я же, вопреки пословице, начал с конца свою повесть.
172
Поэтому ставлю здесь точку и перехожу к началу» (102). Именно размышления о детстве раскрывают взгляды Лагана (следовательно, самого писателя) на жизнь, духовные основы его творчества, истоки национальной культуры и Апсуара; они предопределяют характер последующего повествования героя о прошлом. «Детство — корень души человеческой, оно прорастает в нас характером и судьбой. Ничто из того, что в ту давнюю пору запало нам в сердце, не умерло, но одно принялось и взошло сразу, а другое так и лежит в его глубине. Как зерно... И все, что когда-то потрясло нас, до последнего часа хранит наша память... Самое нежное, самое чистое, самое доброе время!.. Но у каждого свое детство. Как нет на земле двух одинаковых ручейков, так нет и детства, которое бы повторило другое: для одного оно светло и безоблачно, для второго — с рождения затянуто хмурыми тучами: раннее сиротство, злая мачеха, не дающая жить постылому пасынку... А у третьего — еще хуже: враги на глазах расстреляли мать, спалили дом, отобрали последнее. Один, холодный и голодный, идет он по дорогам, пока вместе с такими же горемыками не попадает в приют. Здесь и проводит он оставшиеся годы своего детства... Детство... Чем дальше оно от нас, тем сильнее тоска о нем, и слезы блестят на наших глазах и затопляют воспоминания: светлые, если детство было счастливым, и черные, если горьким. И у того, кто не знал радости, от боли сжимается сердце...». (Перев. И. Бехтерева; 5-6). Словом, воспоминания бывают разные, в них отражаются особенности отношения человека к прошлому, к родителям, старшему поколению и т. д. Лаган считает, что писатели (в том числе и он) постоянно пишут о детстве, которое не забывается и будоражит мысли. Детство для него «Духовный кладезь», неиссякаемый источник творчества, ибо оно связано с деревней и ее жителями, которые сохранили память о прошлом в мифах, преданиях, героических сказаниях, сказках, рассказах, песнях... Да и речь об очажном огне (о нем мы еще скажем ниже) сразу переносит нас в деревню, только там можно обеспечить непрерывность, вечность огня, естественность человеческого бытия, близость, гармоничное сосуществование человека с природой. Лаган рос в деревне, в семье, где были сильны традиции народной культуры. «... у многих людей ничего, кроме воспоминаний, не осталось от детства. У меня же — осталось, и поэтому я считаю себя счастливым человеком, — говорит герой. — Правда, давно уже нет моих родителей, но стоит дом, в котором родился и я, и мой отец, и отец моего отца; есть двор, по, которому я бегал; сохранились деревья, по которым я лазал; не иссяк родник, поивший меня и моих предков; все так же высится вдали холм, с вершины которого впервые распахнулся передо мною мир». (Перев. И. Бехтерева; 6). Этот холм — Холм Рассеченного камня, в котором витает дух Абрскила. И в фойе нового Дворца культуры села «висит картина, которую я очень люблю... Богоборец Абрскил, изображенный на ней в полный рост, стоит с мечом в руках, он поднял его над собой и глядит вверх в небо, откуда летит на него вся в дыму и пламени каменная глыба, — еще миг, и Абрскил рассечет ее лезвием своего меча...». (Перев. И. Бехтерева; 7). Как ви-
173
дим, автор на первых же страницах романа обращает внимание читателя на образ Рассеченного камня, который становится важнейшим элементом поэтики произведения, превращаясь в многофункциональный сквозной символ. Он постоянно присутствует в повествовании Лагана, углубляя смысл его речи и раскрывая мировосприятие самого центрального героя, его отношение к событиям и другим персонажам.
Напомним, что Лаган — единственный герой, который встречается на всех уровнях повествования; все, что происходит в «Рассеченном камне», проходит через его сознание, его душу, переживается им; его речь играет огромную роль в формировании романной структуры произведения, в соединении различных сюжетных линий, связанных как с ним, так и с иными действующими лицами. За образом Лагана стоит личность Б. Шинкуба, который говорит устами своего героя («двойника»).
В основе символического образа Рассеченного камня лежит предание об Абрскиле (103), Лаган его запомнил с детства. «Из всех легенд и преданий моего народа сказание об Абрскиле стали для меня материнским молоком, они вспоили и вскормили меня, я узнал их с младенчества. И первым делом, конечно, от дедушки [Бежана]», — говорит повествователь. (Перев. И. Бехтерева; 39). Бежан с особым почитанием относился к преданию. Поэтому Лаган старался точно передать повествование своего деда об Абрскиле, учитывая его реакцию на излагаемые события, связанные с героем. Лаган подчеркивает, что об Абрскиле, как правило, рассказывали самые уважаемые люди, такие как Бежан, и рассказывали они так, будто недавно расстались с ним. Детское воображение Лагана немного трансформировало услышанное об Абрскиле; «Мой Абрскил выжимал воду из камня, сдавив его в кулаке, усы у него были черны и лоснились, а его верный конь не нуждался в подстегивании, он без камчи (плетки. — В. Б.) слушался хозяина и исполнял любое его повеление. Еще мне показалось, что Абрскил любит всех смелых мальчиков (а таковым я считал и себя), ловит для них оленят и отдает им на воспитание, чтобы оленята выросли ручными; ... он делает луки и стрелы, учит, как нужно стрелять далеко-далеко и как на лету ловить стрелы... Волшебный конь Абрскила виделся мне иссиня-черным, вороненым, а не вороным, но в белых чулках и с белой звездою во лбу; белоснежными были и края его крыльев. Конь Абрскила никогда не ел травы или листьев, но питался исключительно сталью... Абрскил... взбудоражил мне душу, я ничуть не сомневался в его существовании, искал его, ждал, мечтал и надеялся когда-нибудь встретить...». (Перев. И. Бехтерева; 40). Все любили Абрскила и переживали за его судьбу; а Бог — творец неба и земли, природы и животного мира, — осудил его на муки, заточив Абрскила и его коня в пещеру за непослушание и гордыню. Но народ не переставал надеяться, что «рано или поздно падут сковывающие его цепи, и Абрскил выйдет на свет из темной и смрадной пещеры, и радостная весть об этом разнесется по всей Абхазии... Подобно всем, верил в это и дедушка. Из его рассказов я знал, как процветало при Абрскиле древнее Абхазское царство, как
174
беспощадно карал он зло, расправлялся с врагами и притеснителями. При нем никто не отваживался нападать на нас...». (Перев. И. Бехтерева; 40). Но когда Бежан поведал о заточении Абрскила в пещеру, он остановился, печаль охватила его, затем, вздохнув, продолжил: «... И потерял народ служившего им беззаветно и спасавшего им отечество, и кончилась их жизнь, полная радости и довольства, и потянулись дни страха, печали и унижений. На что только не отваживались люди, чтобы вызволить из беды своего заступника, но все оказывалось напрасным, и не было у них силы...». (Перев. И. Бехтерева; 41). После этих слов дед окончательно прерывал свой неторопливый рассказ. Лаган, не решаясь отвлекать Бежана от горестных раздумий, шел к матери Чаримхан с вопросами. Мать объясняла ему, как божьи ратники заточили Абрскила в пещеру по наущению злой ведьмы. Но и ведьме не поздоровилось, Бог приказал ей стеречь Абрскила. Но воздух в пещере был так зловонен, что она не выдержала и повадилась каждую ночь выходить на волю. Но у выхода ее подкарауливал волк; увидев ведьму, он бросался на нее. Тогда она вспрыгивала ему на спину и, подгоняя его ядовитой змеей вместо плетки, начинала скакать на волке, не разбирая дороги. А разгневанный Бог напускает на землю гром и молнию, он хочет заставить ведьму вернуться в пещеру и следить за Абрскилом, который может разорвать цепи и обрести свободу. «И если это случится, то тут же оживут две половинки одного камня, что покоятся сейчас на холме, и кинутся по свету искать ту коварную ведьму, и найдут, и сдвинутся, и расплющат ее... Такой завет положил бог, и таков должен быть конец злодею». (Перев. И. Бехтерева; 41). Далее следует рассказ о холме Рассеченного камня, который раскрывает первоначальное значение символического образа; его тайны раскрыл Лагану дед Бежан. Холм, на котором лежит Рассеченный камень, находился недалеко от дома; там в детстве часто любил играть Лаган. Холм Рассеченного камня — это реальность прошлого, настоящего и будущего времени; он вечен, ибо сам камень, как символ постоянства и вечности, покоится на холме тысячелетиями, обрастая легендами и мифами. По утверждению Бежана, Холм Рассеченного камня издавна почитается сельчанами как святыня. «Даже скот, будто понимая это, избегает пастись здесь, не спешит укрыться от палящего солнца в тени одинокой [древней] липы, [растущая на вершине холма, головой подпирая небо]. Зимою в ее густых ветвях находит приют и убежище множество лесных голубей, но охотники не трогают их, считая великим грехом проливать кровь на этом священном месте». (Перев. И. Бехтерева; 42).
Когда Лаган с дедушкой впервые поднялся на холм и увидел там камень величиной с амбар, он оторопело уставился на него. Его больше всего удивило то, что камень был разрублен на две части. Теперь Бежан посчитал необходимым продолжить разговор об Абрскиле, чтобы внук знал все о народном любимце, передать ему дух предания. Дед рассказал, как божьи ратники безуспешно гнались за Абрскилом, для которого холм был излюбленным местом для отдыха. «И вот однажды, — рассказывал Бежан, — когда Абрскил отдыхал здесь
175
после трудов, враги выследили его и решили схватить во что бы то ни стало. Они знали: если Абрскил успеет вскочить на коня, то тут же поднимется в небо. Вот они и договорились: раз не получается на земле, давайте попробуем в небе. Договорились — и полетели к холму, и столько их собралось, что день померк... Не знаю, что тогда случилось с Абрскилом — то ли растерялся он, то ли уснул, и они врасплох его застали, а может, уже отчаялся, — только не вскочил он на своего крылатого коня, а поднял с земли вот этот громадный камень, который сам же принес сюда на всякий случай, размахнулся и запустил его в самую гущу небесного воинства. Камень, пока летел, такой ветер поднял, что крылатых ратников просто-напросто сдуло с неба, как мух. Испугались они и попрятались за теми вон дальними вершинами. Небо, снова стало чистым, выглянуло солнце, а камень полетел вниз. Абрскил встал и занес над головою меч, дожидаясь, пока камень долетит до него... И когда камень готов был уже вот-вот обрушиться на Абрскила, герой принял камень на свой меч, и меч рассек его пополам, словно яблоко, и его половины упали по обе стороны от Абрскила... Абрскил вложил меч в ножны,.. глянул на эти половинки и молвил: “Так вот распалась сегодня и моя жизнь... Это мое прошлое”, — и показал на ту половинку, что упала срезом вверх, навзничь, как бы открыв лицо. А про другую, которая упала срезом вниз, ничком, словно бы спрятавшую лицо, сказал: “А вот мое будущее. И одно отделено от другого”. Такими были последние слова героя... (В абхазском оригинале последние слова Абрскила завершаются так: “И одно отделено от другого, это, конечно, плохо” (104). — В. Б.). Ну, а холм с той поры так и зовется Холмом Рассеченного камня». (Перев. И. Бехтерева; 43-44).
Очевидно, что Б. Шинкуба использовал реконструированный вариант мифа об Абрскиле (смотрим об этом примечание № 103), созданный на основе многочисленных вариантов, записанных как самим писателем, так и другими собирателями фольклора в конце XIX — первой половине XX в. Примечательно, что о судьбе Абрскила рассказывает носитель народной культуры старец Бежан своему внуку. Дед усердно пытается воспитать Лагана в духе Апсуара; он прекрасно понимает значение фольклорных произведений, которые несут в себе большой нравственно-духовный заряд. Нет сомнения, что миф об Абрскиле играет ключевую роль в художественной системе романа, с ним связан и основной полифункциональный символический образ Рассеченного камня. Этот образ — свидетельство того, как природное явление (камень) превращается в фольклорный образ, а фольклорный — в литературный. Естественно, без включения всего мифа в повествовательную структуру произведения, значение символа осталось бы непонятным, тем более что в «Рассеченном камне» ему присуща смысловая динамичность, которая и делает его полифункциональным элементом поэтики романа. Неоднократная трансформация значения образа камня происходит на разных уровнях повествования и художественного раскрытия жизни общества в 20-30-х гг. XX в. и характеров персонажей.
176
Исходя из этого, можно выстроить синонимический ряд понятий, связанных с «рассеченностью» (от «Рассеченного камня»): разделение, раскол (общества), раздвоение (личности героя) и т. д. Внутри этого ряда образуются оппозиции, антиномии: «новое», считавшееся прогрессивным, сталкивается со «старым», якобы отжившим свой век; происходит поляризация общественного сознания на основе его идеологизации, раскалывающая народ «на врагов» и «не врагов»; усиливается антиномичность некоторых действующих лиц. Все труднее становится ответить на вопросы: что есть добро? А что есть зло?
В глубине души каждого человека заложены зерна добра и зла. Какое же из них будет прорастать — зависит от тех или иных условий и воздействий. Иногда добро и зло настолько переплетены, что человек мечется между двумя полюсами; он изменчив, непостоянен, от него можно ожидать всякое; его взгляды порою антиномичны. Антиномичность мировоззрения, с одной стороны, может сформироваться на базе осознанного идеологизированного восприятия явлений действительности. При этом идеологизированность сознания становится главной причиной раздвоения личности, конфликта того или иного человека с другими людьми, которые не разделяют его точку зрения на общественно-политические и иные процессы в стране, конфликта индивидуума — представителя молодого поколения — со старшим поколением — носителем народной культуры, традиций, Апсуара, ослабления связи «нового человека» с прошлым, с национальными корнями.
С другой стороны, немаловажную роль играют и подсознательные факторы, которые часто, незаметно для самого человека, определяют его характер, манеру поведения, моральный облик. Его амбициозность, мания величия не имеют предела. Такой человек иногда может показаться незаурядной личностью, иногда — отвратительным, бездушным, низким и жестоким индивидуумом.
Словом, линия «рассечения» («разделения», «раздвоения» и т. д.) проходит везде: в сознании, душе персонажей романа «Рассеченный камень», в жизни общества. Она порождена самим человеком. Лагану повезло, что он рос в традиционной семье, которая, благодаря стараниям его деда Бежана, чтила Апсуара, способствующую воспитанию достойного наследника — хранителя очага. Оберегал же главный герой родной очаг иным, чем, скажем, Бежан, способом, то есть своим творчеством, художественным словом.
Где бы Лаган не находился, он всегда вспоминает о Холме Рассеченного камня. Предваряя свои воспоминания, повествователь рассказывает, например, как холм явился ему, уже известному поэту и писателю, на чужой земле, в Польше, городе Закопане, куда он приехал с группой туристов. Писатель посетил Освенцим. «Уверен: если и впрямь существовал когда-либо ад, то он был здесь, в концентрационном лагере, где фашисты умертвили четыре миллиона человек, — пишет он. — Была уже ночь, когда мы вернулись с экскурсии. Я лег, намереваясь заснуть, но, видимо, от пережитых за день кошмаров беспокойно ворочался и, скоро поняв, что уснуть не удастся, встал, оделся, принялся ходить из угла в
177
угол. Чтобы хоть немного успокоить себя, вышел на балкон подышать свежим воздухом. Прямо передо мною дыбились во тьме громады округлых гор, плыли над ними мутные лоскутья туч, но в глазах стояло одно: газовые камеры, печи, вороха свалявшихся женских волос — и кости, кости, кости... И тут как бы воочию увидел я прикорнувший в ногах далекого Кавказа холм, мой холм. Война не дошла до него, не успела обжечь своим пламенем, его плоть не рвали снаряды и бомбы, но сколько жизней было истрачено, чтобы сберечь его покой! И он века будет нашептывать своими травами имена героев, своих спасителей, как шепчет их сегодня! Они и мертвые — с нами, в нашей жизни, в наших делах». (Перев. И. Бехтерева; 9).
Лаган дает контрастные описания картины, увиденного в Освенциме, и Холма Рассеченного камня. С одной стороны — ужасные последствия зла, зерна которого проросли так густо, что полностью овладели душой определенной части людей, которые начали беспощадно уничтожать другую их часть. С другой — Холм Рассеченного камня, до которого не дошла война; на него не падали бомбы, его оградили и те, которые погибли в Освенциме, и те, что сложили свои головы на фронтах Отечественной, защищая родину, свои очаги. Однако на холме лежит «рассеченный камень», как символ вечности и постоянства. Вечна и сама проблема «рассеченности», но должна ли эта «рассеченность» приводить к трагедии, кровопролитию? Вероятно, нет, если крепка духовная, культурная основа личности. Линия рассечения может превратиться в пропасть или кровоточащую рану, но через пропасть можно проложить мост, а раны залечить... Человек в силах вынести все, хотя не все могут проложить мост, залечить рану словом, на это способны такие герои романа «Рассеченный камень», как Бежан, отец Лагана Бадра, Чичин, сын Чины, Мамсыр, Лаган и другие, которые не стали манкуртами, сохранили преемственную связь поколений. Только они, обладая мощной исторической памятью, способны осмыслить прошлое, чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее; от таких людей зависит судьба народа. Именно эти герои спасли нацию и ее культуру в 30-40-х годах XX столетия, когда абхазы оказались на грани насильственной ассимиляции и исчезновения. О противоречиях времени, жизни народа в эпоху коллективизации сельского хозяйства и строительства основ социализма, судьбе национальной культуры в контексте исторических процессов, о становлении собственной творческой личности и рассказывает Лаган в романе «Рассеченный камень».
* * *
Образ камня, как символ постоянства, вечности, разных явлений жизни часто встречается в мировом фольклоре и литературе. Согласно преданиям (например, белорусским (105) ), камни считались живыми существами: они, подобно животным, чувствовали, росли и размножались. Но когда люди прогневили Бога,
178
он проклял и людей, и землю. Земля перестала давать обильные урожаи, а камни перестали расти. Некоторые камни обладали чудодейственной силой. Поклонение камням было широко распространено в дохристианской Европе, а в некоторых местах (в частности, Российской империи) эта традиция сохранялась до XX в. Фольклорные и этнографические материалы, связанные с камнем, оказали существенное влияние на белорусскую, украинскую и другие национальные литературы (например, рассказы Я. Коласа «Камень», «Хмарка» и др.). Образ камня занимает значительное место и в литературах народов Северного Кавказа. Наблюдается духовная перекличка между различными национальными писателями. в частности между Б. Шинкуба и балкарским поэтом К. Кулиевым. В 1959 г. Б. Шинкуба написал стихотворение «Тот камушек, который ты дал мне когда-то» (в переводе Я. Козловского — «Волшебный камушек»), посвященное К. Кулиеву. В нем читаем:
Вытащил и посмотрел я на камушек,
Который ты дал мне когда-то.
Он символ памяти вечной,
Бережно храню его, словно золото.
Передо мной раскрылась такая картина:
Камушек упал с ладони
И превратился в гору,
Ставшую выше Эльбруса...
Смотрю я в сторону села,
Где собрались все сельчане.
Им Кайсын читает свои стихи,
И бурно хлопают ему!..
«Ну и что, камень как камень», — кто-то может сказать,
Но камень тоже разговаривает ладно.
И ради дружбы я готов
Учить язык того же камня! (106)
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
Б. Шинкуба, естественно, имел в виду символический образ камня, играющий важную роль в поэзии К. Кулиева. В 1964 г. в Москве вышел сборник стихов и поэм К. Кулиева под любопытным названием «Раненый камень». В произведениях К. Кулиева камень (а также скалы и горы, созданные из камня) символизирует постоянство, вечный покой, твердость, высоту. Кроме того, у Кулиева камень — символ балкарского народа, его трагической судьбы, истории, непоколебимой твердости национального духа. В стихотворении «Камень» поэт писал:
179
Много раз я писал о тебе... Издавна...
Были камнем богаты аулы нагорий,
И народ мой оставил свои письмена
В камне: мудрость свою, и надежду, и горе.
Мысль народов других в древних книгах жила,
В фолиантах хранились былого анналы.
А у горцев бесправных — скала да скала.
Мысль вверялась камням. Камни, камни и скалы —
Наши книги, история нашей земли!
Потому-то и камень везде в преизбытке,
Что столетия в нем свой язык обрели,
Это скорби и стойкости твердые свитки!
Вот надгробья, вот мельничные жернова,
Башни... Память о войнах, набегах, обвалах.
Выразительны камни, как будто слова.
Заливала их кровь, лунный свет заливал их. (107)
(Перевод С. Липкина)
Камень — свидетель прошлого и настоящего, он вечен. По словам поэта, вся история и традиционная культура народа заключена в этих «каменных страницах», их невозможно стереть. В них отражены и войны, и жизнь крестьян, и плач матерей, и боль поэта, и судьба предков... Камень — составная часть очага, но и надгробье человека; с одной стороны — бесконечность и земная жизнь, с другой — конец одной формы жизни и переход в вечность.
В доме каменном, у очага, сколько раз,
Камень, ты согревал мои ноги босые.
Нам при жизни служил. А придет смертный час —
У могил имена сохранишь ты людские.
Я уйду, ты же будешь веками храним.
Нет без камня и дерева горской дороги.
Так недавно ты грел мои детские ноги
У огня... Скоро станешь надгробьем моим... (108)
Мысль о временности земной жизни звучит и в произведении «Ты камнем стал...»:
Ты камнем стал. Я не храбрюсь,
И мой придет черед
180
Лежать, не различать на вкус
Земную соль и мед... (109)
(Перевод Н. Гребнева)
Однако вечно, как «гора», то, что человек сделал или сотворил за отпущенный ему век:
Но что мы сделаем за век,
То смерти избежит,
Хоть на горе и тает снег,
Сама гора стоит (110).
А в стихотворении «Не схожи скалы меж собой обличием...» поэт восхищается величием скал; они не похожи друг на друга, у каждой свои особенные черты, как у людей; он учится у них:
Давным-давно беру в горах уроки я
У старых скал. Они на свой манер,
От суеты и зависти далекие,
Мне постоянства подают пример (111)!
(Перевод Я. Козловского)
Камень у Кулиева живой, обладает разумом и чувством, он раним. Образ раненого камня присутствует во многих стихах поэта. В стихотворении «Следы ранений на камнях видны...» автор пишет:
Следы ранений на камнях видны,
А в душах человеческих — сокрыты.
Своей не замечаем мы вины,
А в грех чужой стреляем, как джигиты,
Скалы холодной раненую грудь
Бинтуют предрассветные туманы.
Когда б ты смог мне в душу заглянуть,
Еще одной не наносил бы раны (112).
(Перевод Я. Козловского)
Можно сказать, что и Рассеченный камень Б. Шинкуба ранен, и эта рана старая и новая, она видна и дает «осложнения», влияя на жизнь народа в настоящем и будущем...
181
* * *
После небольшого вступления, Лаган переходит к времени своей юности. В его воспоминаниях оживают картины прошлого, родители, дед, герои эпохи (все персонажи вымышленные, но в некоторых из них угадываются реальные лица). Речь Лагана раскрывает образ самого повествователя. Автор придерживается реалистических традиций, он не гиперболизирует, не мифологизирует центрального героя — своего «двойника»; писатель не забывает, что Лаган в 20-30-е гг. был слишком юн и романтичен; он учитывает возрастную психологию и внимательно следит за поведением персонажа, направляет его мысли. Этому способствует повествовательная структура: рассказ ведет уже немолодой, известный в народе поэт Лаган. Его оценочный голос постоянно присутствует на всех уровнях повествования. Через него читатель узнает многие стороны жизни персонажей, хозяйственного быта и духовной культуры абхазов. Благодаря ему фольклоризм и этнографизм становятся важнейшей частью поэтики романа; они помогают автору углубленно раскрыть художественный замысел, создать историко-духовный и этнографический портрет народа и эпохи. Поэтому, роман «Рассеченный камень» имеет как художественную, так и научную ценность. (Впрочем, такие мысли возникли и при анализе «Камачич» Д. И. Гулиа.) Во-первых, в произведении впервые в национальной литературе так широко художественно отражена сложная и противоречивая жизнь абхазов 20-30-х гг., образы героев того времени. Во-вторых, произведение насыщено большим количеством этнографического и фольклорного материала, который наверняка имеет определенное значение для этнологов, исследующих быт, обычаи и традиции народа, особенности Апсуара. Кроме того, такие произведения, как «Рассеченный камень», могут стать существенным подспорьем для преподавания национальной этики в школах.
Начиная рассказ о прошлом, Лаган вспоминает одну из неприятных страниц своего детства, то есть о том, как он попал под арбу и чуть не погиб.
Кстати, ему часто не везло: он то тяжело болел, то падал с лошади и т. д. Он рос болезненным мальчиком. По этой причине мать Чаримхан без присмотра его никуда не пускала, она также была против дедовского метода воспитания, который предусматривал подготовку «по-спартански» выносливого, физически крепкого, мужественного бойца, хорошего наездника, владеющего всеми видами оружия. Но Чаримхан не смела противоречить свекру Бежану — самому старшему человеку в семье, она соблюдала обет молчания перед отцом своего мужа (113).
Лаган, получивший незначительные увечья, лежал в амацурте (кухне, одновременно являвшейся и столовой; в ней семья проводила больше времени), на дедушкиной кровати. В подобных случаях, как правило, в доме, где лежал больной, собирались соседи и близкие. Лаган узнал голоса старца Саида, музыканта (аԥхьарцарҳәаҩы) Мамсыра, сказочника Биды, шутника Зафаса и других. Дядя
182
Лагана (брат матери), шестидесятилетний Мамсыр — не только играет на апхиарце (своеобразной скрипке) и исполняет сказания о Нартах, но он также прекрасный народный лекарь, который, естественно, не имел медицинского образования, а лечил больных лучше любого врача. Мамсыр, будто профессиональный терапевт или хирург, обследовал Лагана и успокоил его родителей, что с мальчиком все в порядке.
Начало повествования о прошлом свидетельствует о том, что Лаган — не тот человек, который может стать «спартанцем», и попытки Бежана сделать из внука воина иногда напоминают стремления «последнего рыцаря средневековья» Дон Кихота возродить изжившие себя традиции. Поэтому некоторая ирония явно ощущается. Но Лаган может стать выдающимся деятелем национальной культуры (об этом говорит и роман), писателем, который способен сохранить и развить духовную и этическую культуру народа, переданную ему старшим поколением, в том числе и дедом.
Завершив эпизод, связанный с несчастным случаем, повествователь на мгновенье возвращается в современность, как бы подтверждая, что он смотрит на прошлое с расстояния 40-50 лет. Однако эта дистанция не убила в нем любовь к народной культуре, Апсуара, наоборот, усилила ее. Лаган все больше и больше понимает, что его корни, духовные истоки его творчества находятся именно там, в прошлом, о котором нельзя забывать. При этом он уважительно относится к истории, не оплевывает ее, ибо это значило бы втаптывать в грязь своих же родителей, деда Бежана и других. Для него прошлое — объективная реальность. Историю народа надо описывать как она есть, избегая всяких амбиций и идеологизации событий, необходимо ее знать и извлекать из нее урок...
Лаган вновь затрагивает проблему очага, придавая ей этнософский смысл. В то же время рассказчик увлеченно описывает быт земляков. «Стоит мне задуматься о моем детстве, — говорит он, — как перед глазами тут же возникает наша плетеная амацурта, в которой я отлеживался после падения с арбы. Она и поныне цела, стоит, навевая мысли о вечности. И когда я вхожу в нее и сажусь перед очагом, воспоминания овладевают мной и несут меня через все условные границы времени в те дни, когда я впервые увидел эту добрую хижину... Ее построил мой прадед Азнаур, здесь родился и дедушка, и мой отец, и я сам... Стены, сплетенные из рододендроновых прутьев, крыша из осоки, две тесовые двери — спереди и сзади. Окон нет, да и к чему они, когда в стенах полно щелей — и светло, и продувает, сквозь них выходит наружу очажный дым; на зиму щели плотно заделывают, а к лету освобождают и даже в самый сильный зной здесь так прохладно, как в тенистой роще... А слева от входа кухонное царство. И чего здесь только нет! Стол для стряпни, вдоль стены выстроились глиняные и медные кувшины и кувшинчики, покоится на дубовом кряже громадный котел, в котором варили мамалыгу на все семейство, рядом котлы поменьше, за ними и вовсе маленькие, дальше теснятся деревянные кадки, глиня-
183
ные жбаны, чугунки и горшки для фасоли, над ними висят черпаки и половники, ковши и кружки, веселки, мешалки, прочая необходимая в хозяйстве мелочь. В углу, под широкой полкой, мучной ларь, а на самой полке чаши, блюда, миски, тарелки... Другой угол — дедушкин, здесь стояла его деревянная кровать, рядом табуретка, на ней коробка с табаком, трут, кремень, огниво...». (Перев. И. Бехтерева; 14—15). Далее Лаган описывает чулан, пристроенный к амацурте (кухне, пацхе), но через несколько строк сразу же возвращается к образу амацурты и дорисовывает ее портрет. Повествователь продолжает: «Но оставим чулан, прикроем дверь и вернемся в амацурту: ведь я еще не поведал о самом главном — об очаге... Очаг — святыня, огонь в нем не гас с того дня, как была готова сама амацурта, и почтение к нему внушалось нам с детства. “Да погаснет огонь в твоем очаге!” Мы знали, что нет проклятия страшнее, ведь это означало, что твой род должен вымереть, исчезнуть с лица земли, должна сгинуть сама память о нем, когда некому вновь затеплить огонь... Он [очаг] сложен из... камня в середине амацурты, примерно на ладонь выше земляного пола, во главе его мощный и крепкий камень, который так и зовут — очажный; ... сверху на нем по обеим сторонам, несколько зазубрин — в них упирали концы вертелов, причем имелись выемки для [жарки] индюшки или курицы, для шашлыка из копченого мяса... Над очагом свисают две почерневшие от копоти цепи, на одну цепляли котел с мамалыгой, на другую — с мясом или чем-нибудь иным... В сущности, амацурта была и кухней, и столовой, и спальней, и гостиной — здесь готовили еду, здесь ели, здесь коротали у огня вечера. И невесту вели прежде всего сюда — обводили ее вокруг очага и тем как бы принимали в семью...». (Перев. И. Бехтерева; 15-16).
Повествователь в начале романа не случайно подробно описывает амацурту (пацху) с очагом, тем более что он не один раз заостряет внимание на символическом образе очага. Это вынуждает нас продолжить разговор о нем. С одной стороны, автор дает ценный этнографический материал, с другой — он решает важную художественно-эстетическую задачу. Данный этнографический «сюжет», изначально связанный с природными явлениями (камень, огонь и т. д.), превращается в «Рассеченном камне» в полифункциональный литературный образ, символ; по своей значимости он сравним лишь с образом рассеченного камня, который, как отмечалось выше, прошел два уровня (от природного явления до этнографического факта), прежде чем стать литературным образом. Образ очага — сложное структурное образование, которое в романе состоит из нескольких компонентов. В описании Лагана присутствуют: камень, огонь, дед Бежан (патриарх семьи), женщина (невестка, мать), они все связаны с очагом. Причем очевидно наличие и женского, и мужского начала.
Образ очага занимает большое место в мировой культуре, мифологии и литературе. Абхазская культура, естественно, как часть мировой культуры, не является исключением. В структуре очага огонь — один из главных элементов его образа. Самое большое количество мифов разных народов об огне собрал англий-
184
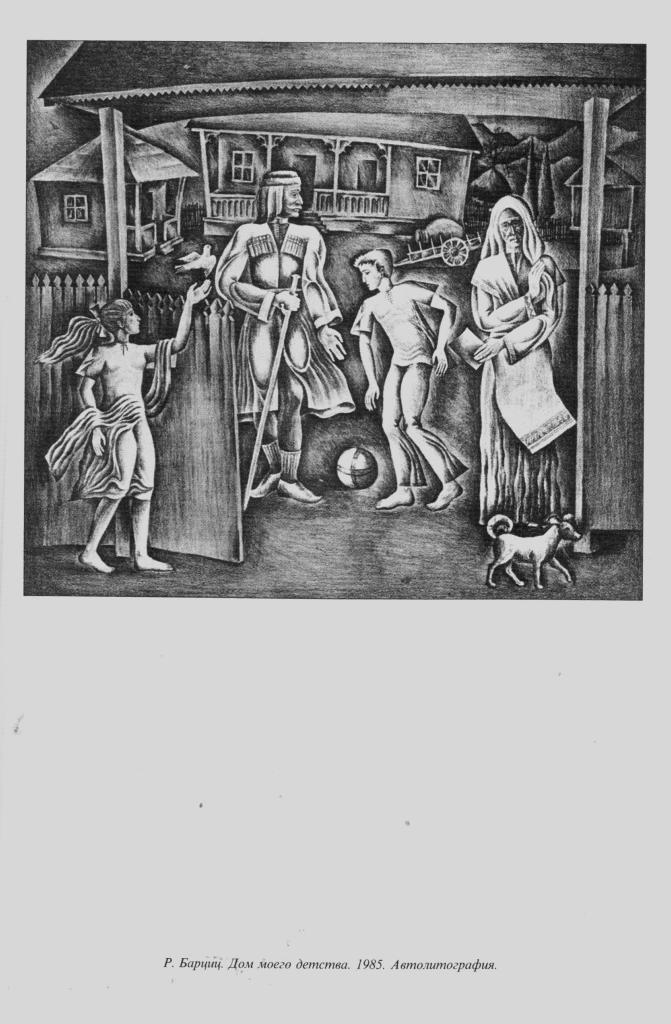
185
ский ученый Дж. Фрейзер (114). По словам С. А. Токарева, Дж. Фрейзер пришел к выводу, что «в этих мифах как бы воспроизведены три исторические ступени: когда люди совсем не знали огня, когда они научились им пользоваться и когда научились его добывать. Олицетворение огня и культ его несомненно вырастали из разных корней: огонь как спутник и помощник человека в борьбе с хищными зверями; огонь как очищающая и целительная сила; огонь как грозная и опасная стихия; домашний очаг, символ и покровитель семьи» (115).
Огонь одно из имен персонифицированного грома в русской и белорусской сказке (Гром, Перун). «В мифах африканских народов в числе других мотивов часто повторяется мотив получения огня от верховного существа — или тайком, или по его доброй воле. В мифах индейцев Северной Америки особенно част мотив похищения: оно приписывается койоту, лани, бобру, кролику, лисице, мускусной крысе, ворону, дрозду (животные, обычно выступающие в роли культурных героев)... Во всех мифах о происхождении огня — от Австралии до Америки — главным действующим лицом является какое-нибудь животное (преимущественно птица), и это относится и к похитителю, и к первоначальному владельцу огня... Часто действующие лица мифов напоминают типичные образы тотемических предков, выступают как олицетворённые (антропоморфизированные) существа... В некоторых мифах, где фигурируют человеческие существа, первоначальное обладание огня приписано женщинам, мужчины же получили его позже. В этих вариантах мифов об огне нашли отражение некоторые черты реальной действительности (у всех древних народов хранительница домашнего огня — обычно женщина)... В сложных мифологических системах классовых обществ мифологизируется и олицетворяется обычно сам огонь, который становится объектом чисто религиозного отношения; окружающие же его персонажи — это просто люди, поклоняющиеся огню. Так, в ведийской мифологии Агни (“огонь”) — один из великих богов (хотя в “Ригведе” обращение к нему молящегося как к живому существу, богу, ничуть не мешает описанию священного огня как простого материального пламени). В древнеиранской маздеистской (зороастрийской) религии (она оставила свой след в мифологии ряда народов Кавказа — азербайджанцев, осетин и др. — В. Б.) огонь выступает как сугубо священная стихия, как воплощение божественной справедливости, арты... Очень характерно олицетворение огня у народов Севера — в виде женского образа “матери огня”, “хозяйки очага” и т. п. (у якутов и бурят — в мужском образе “хозяина огня”). Это не вообще огонь, а каждый раз “свой”, домашний, семейный очаг, который нельзя смешивать с огнем чужой семьи. Есть мнение, что именно такую “хозяйку огня” представляли собой известные женские фигурки эпохи верхнего палеолита и более позднего времени, нередко находимые в древних жилищах вблизи очага. Римская мифология олицетворяла неугасимый культовый огонь и огонь домашнего очага, как богиню Весту, греческая — как Гестию. Но в греческой мифологии было и другое олицетворение огня — культурного и ремесленного: бог-кузнец Гефест (в италийской мифологии —
186
Вулкан). В то же время в греческой мифологии вновь оживает глубоко архаичный мотив похищения огня. Но здесь этот мотив радикально гуманизирован и окрашен моральной идеей, притом богоборческой: боги ревниво берегут огонь ддя себя, не давая его людям, а друг и защитник людей — ... Прометей похищает для них огонь с Олимпа. Обучает людей добыванию огня близкий образу Прометея герой древнего грузинского народного эпоса — Амирани» (116).
В абхазском Нартском эпосе сотый сын всемогущей матери Сатаней-Гуаща (она является хранительницей очага нартов) Сасрыква спасает погибающих от холода братьев, сбив сперва с неба горящую звезду, а затем похитив огонь у адауы (великана). Кроме того, в абхазской мифологии известно грозное божество грома и молнии Афы, пребывающее на небе и посылающее огненные стрелы в Аджныша (дьявола), якобы прячущегося под деревьями. Некоторые мифы утверждают, что Афы никогда не поражает молнией граб (ахяца), ибо это дерево находится под покровительством Богоматери из рода Хеция (от слова «ахяца»). Порой Афы отождествляется с верховным богом Анцва (117). По мнению С. Л. Зухба, Афы подчиняется лишь богу Анцва, выполняет его волю. «Основная функция Афы — очистительная. Его силы направлены на уничтожение злых существ. Особенно... безжалостно уничтожает чертей, дьяволов, змей, которые... прячутся в подземелье, во тьме. Если кто из них осмелится появиться на поверхности эемли и начнет вредить людям, животным и т. д., Афы направляет в их сторону гром и молнию и уничтожает. Афы является устрашительной и разрушительной силой и для людей, может уничтожить человека за непочитание бога или допущение грехов. Убитого громом и молнией человека хоронили с особой церемонией, нельзя было плакать и проливать слезы по поводу убитого. Напротив, пели песню в честь Афы (есть такая обрядовая песня) и совершали специальное моление» (118).
Афы функционально соответствует адыгскому божеству грома и молнии Шибле, которое также боролось против злых существ (дракона и т. п.). Погибать от молнии считалось милостью Шибле. Умершего от молнии адыги не оплакивали, к нему относились как к святому и хоронили с почестями; чтили и могилы убитых молнией (119).
В романе «Рассеченный камень» встречается сюжет, связанный с божеством грома и молнии Афы. Лаган рассказывает о трагической гибели замечательного скааочника Биды, которая произошла перед его глазами; Когда группа сельчан возвращалась из леса на арбах, груженных бревнами, погода резко изменилась: стемнело, посыпались на землю крупные капли дождя. Лаган вспоминает: «Бида уже миновал орех с засохшей вершиной, когда вдруг сгустившийся мрак с оглушительным треском распорола молния. Я видел, как ее голубая плеть хлестнула по самой макушке орехового дерева, отсекла ее словно кинжалом, потом, сыпя зокруг себя ослепительные брызги искр, пронзила ствол, расщепила его и, отскочив, свилась в огненное кольцо, взметнулась над Бидой и ударила, впилась в дышло его арбы. Нестерпимо тонко закричали буйволы и рухнули как подко-
187
шенные. А Биду будто кто с нечеловеческой силой толкнул в спину, в одно мгновенье его сорвало с арбы, швырнуло вперед, кинуло на ярмо; ударившись об него, он перевернулся в воздухе и плашмя упал на дорогу... В воздухе разлился удушающий запах горящей серы...». (Перев. И. Бехтерева; 122-123). Мужчины подошли к Биде, самый старший из них — Хазарат, прикрыв буркой мертвого Биду, предупредил: «Нельзя его трогать, пока не споем Песнь богов». К вечеру начали стекаться люди, оповещенные дядей Лагана Елизбаром. Лаган был сильно напуган, но с большим любопытством наблюдал за происходящим. Запылали костры, освещая местность. Вдруг раздался голос Хазарата: «Подойдите поближе, уважаемые, прошу! Сами видите, что стряслось... Но мы не ропщем, ибо все, что содеял бог, есть благо. А теперь давайте ненадолго положим покойного в шалаше... Но, прежде чем поднять его, Хазарат произнес нараспев:
Счастлив тот, кого бог посещает,
Радость там, куда бог обращает
Свой божественный взгляд,
Атлар-чопа, Темыр-куара, —
Подпевайте в лад...
И люди подхватили, запели, подняли на руки тело Биды и бережно... понесли к шалашу...
Потом Песнь богов раздалась еще раз — это люди сообща поднимали убитых молнией буйволов. Не прерывая пения, как рычагами орудуя толстыми жердями, они втащили мертвых животных на помост...». (Перев. И. Бехтерева; 125).
На следующий день все жители села вышли на дорогу встречать Биду. Вдали показалась траурная процессия. Когда она приблизилась, навстречу вышли мать и сестра Биды. Они не имели права плакать. Когда мужчины опустили на землю носилки с покойником, мать Биды обернулась и суровым взглядом посмотрела на дочерей. «Смотрите, чтоб без глупостей! Ничего не случилось такого, из-за чего позволительно было бы лить слезы. Бог дал, бог и взял! — прикрикнула она на них дрожащим, срывающимся голосом...». (Перев. И. Бехтерева; 126). После похорон Биды Лаган еще долго вспоминал его, доброго, честного человека, прекрасного рассказчика.
В абхазском мифическом предании об ацанах (карликах) ацаны были уничтожены огнем верховным богом Анцва за нечестивость, непослушание, игнорирование и недооценку его могущества.
Таким образом, произведения устного народного творчества свидетельствуют о том, что огонь присутствует во многих фольклорных текстах.
Образы очага, очажного огня и пацхи, как отмечалось выше, встречаются и в других произведениях Б. Шинкуба, на некоторые из них мы уже ссылались в связи с рассмотрением очага как символа Апсуара. Иногда взгляды автора антиномичны. Антиномичность возникает на фоне восхваления нового социалисти-
188
ческого образа жизни, который отрицал все старое, «отжившее». В поэме «Домой» (1941—1944) лирический герой (сам поэт) после продолжительной учебы возвращается домой, в деревню; он сильно привязан к отцовскому дому, родному очагу. А родители с нетерпением ждут единственного сына. Благодаря отцу и матери очаг еще существует, но они уже стары.
Там в зыбком рассветном тумане,
Мерцая, дрожит огонек...
Да кто ж его в такой рани
С любовным терпеньем разжег?..
Дымятся поленья пахуче...
Дым стелется над очагом.
Потом собирается тучей,
Клубящейся над потолком.
Сидят они, смотрят на пламя, —
Отец престарелый и мать.
Так ждут они сына часами,
И горько и тяжко им ждать (120).
(Перевод Ю. Нейман)
Однако, завершая произведение, поэт неожиданно пишет о пацхе, где горит очаг:
Эх, пацха!.. Я думал нередко
О пацхе — плетеной избе...
Жилище убогое предка,
Ничто не поможет тебе!
Нет, зря ты сияла, как солнце,
Когда при рожденье моем
Мой дядя стрелял, и оконца
Твои озарялись огнем.
Не знала ты, кто уродился
Под ветхою кровлей твоей.
Ведь я для того воротился,
Чтоб сдать тебя, пацха, в музей (121)!
(Перевод Ю. Нейман)
Как видим, пацха превращается в символ прошлого, убогой и отсталой жизни; она устарела и уступает «новым домам». Однако в поздних произведениях
189
Б. Шинкуба больше не вспоминает о «музее», наоборот, он воспевает очаг, переживает за его судьбу. В стихотворении «Завещание» (1967) (122) автор передает суть завещания одного старца, который говорил:
В мире больше места занимает вода,
Но все желают ее выпить!
Где увидишь родник, заботливо пестуй источник,
Если появится путник, предложи ему чистую воду,
Он выпьет ее и утолит жажду,
Отдохнет немного и продолжит свой путь. t
Не дай остановиться жерновам, обслуживай их,
Подливай воду, если другого не в силах ты сделать,
Чтоб жернова мололи быстро
И мука сыпалась щедро!
Дад, очаг не должен оставаться без дров,
Но правя огнем и водою, твоими же руками
чтоб они не уничтожили друг друга (123)!
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
В произведении поэт выделяет образы воды и очажного огня; необходимо сохранять и то, и другое, чтобы жизнь продолжалась.
Очажному огню посвящено и стихотворение «Где выросли поколения...» (1965).
Где выросли поколения,
Непрерывно горит очаг.
Он излучает тепло,
Он — солнце на этой Земле!
Поверь, тысячелетиями его тепло
Не иссякало, и сохранится в будущем,
Пока он пригревает
Люльку с ребенком (124).
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
А в стихотворении «Чтоб не опустошилось сердце...» (1982) поэт пишет:
Чтоб не опустошилось сердце
И опасность обходила меня,
190
Стоит прочно, не разрушаясь,
Пацха моих предков.
От нее непрерывно и тихо
Исходит очажный дым.
Вхожу в нее я, и выхожу...
Так будет продолжаться до смерти (125).
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
Невольно вспоминается и герой повести Б. Шинкуба «Чанта приехал» (1969) Чанта Чрыгба. Духовная нить связывает Чанту с дедом Б. Шинкуба (из «статьи», по определению самого писателя, «По следам годов»), с отцом лирического героя поэмы «Домой», и, наконец, Бежаном — дедом Лагана из «Рассеченного камня». Они все думают о деревне, родном очаге, внуках-наследниках, которые должны сохранить очаг для будущих поколений. Старец Чанта Чрыгба — традиционный тип народного мудреца и философа. Личную судьбу он рассматривает в неразрывной связи с судьбой народа, с ее настоящим и будущим. Поэтому его мысли о родном очаге, о родной деревне и земле, и само возвращение старика в родное село Лашкыт приобретают общезначимый смысл (126). В одном монологе Чанты читаем: «Я ведь все делал так, как завещал отец... А сегодня, когда односельчане вкушают плоды своего труда, изменился (потерял свое лицо) очаг моего деда Чрыгба Джанима! Родной двор в живописном предгорье Лашкыта, в котором еще стоят большие ореховые деревья, посаженные Джанимом, опустел, стал беспризорным... Там остался давно остывший, заросший зеленым хмелем очаг предков! А он, внук Джанима, забывший свой очаг, живет в городе в доме невестки на всем готовом, в полном довольствии... Почему случилось так?..» (127) Эти переживания главного героя повести «Чанта приехал» вызваны тем, что старик, заболев, вынужден был переехать в город к единственному сыну Сатбею. Чтобы Чанта больше не думал о возвращении к родному очагу в деревне, Сатбей и его жена Лена продали хозяйство Чанты. «Цивилизованный» Сатбей был совершенно равнодушен к судьбе очага предков; он конформист, его цель — зарабатывание денег любыми путями, ложное добывание авторитета в обществе. Правда, Чанта не менее восьми лет жил у сына и невестки, материально ни в чем не нуждаясь; и Лена хорошо ухаживала за ним. Однако они делали все это для самих же себя, для поднятия собственного «престижа» в глазах окружающих. Значит, очаг предков навсегда потухнет. И, наконец, Чанта Чрыгба, раздираемый мыслями о родном очаге, возвращается в деревню, которая приняла его радушно.
Таким образом, за речью центрального персонажа романа «Рассеченный камень» Лагана, которая заостряет внимание на судьбе очага, просматривается значительный духовный пласт, связанный с фольклором и предшествующим литературным опытом самого писателя — прототипа Лагана. Может показаться,
191
что хранителем очага является только старший в семье по мужской линии (дед, его сын и т. д.). Да, это объективная реальность, исходящая из сохранившихся патриархальных традиций. Но «власть» мужчины небезгранична. Нередко хранительницей очага выступает и женщина-мать, на которой часто держится вся внутренняя жизнь семьи.
Проблема человека и родного очага, сохранения преемственности поколений, духовной культуры народа постоянно волновала и волнует многих национальных поэтов и писателей, в том числе Т. Шевченко, Ф. Абрамова, В. Распутина, Я. Купалы, Я. Коласа, Г. Робакидзе, К. Хетагурова, А. Шогенцукова, А. Кешокова, И. Машбаш, М. Кандур, К. Кулиева, Р. Гамзатова и других. Наблюдается духовная перекличка между ними. В произведениях таких писателей образ очага (хаты, кута /кут по-белорусски — угол, хата, отцовский порог и т. д./ дома, родной стороны и т. д.) становится интертекстуальным фактором. Примером межкультурного диалога, духовной переклички могут служить произведения Б. Шинкуба и белорусского поэта Я. Купалы, хотя абхазская и белорусская литературы далеки друг от друга. Очаг Я. Купалы, как и Б. Шинкуба, включает в себя духовно-культурное наследие предков, родной язык, родину; без них и жизнь не имеет смысла. В стихотворении «Наследье» (1918) Я. Купала писал:
Наследье прадедов моих,
Далеко или близко я,
Мне средь своих и средь чужих,
Как ласка материнская.
О нем твердят мне сказки-сны,
Весной и в осень хмурую,
И шум листвы, и звон сосны,
И дуб, разбитый бурею...
Храню его на дне души,
Как свет, как зорьку ясную,
Чтоб мне с пути в глухой глуши
Не сбиться в ночь ненастную.
Мне то наследье вручено
Судьбой неотвратимою,
А называется оно
Сторонкою родимою (128).
(Перевод Н. Кислика)
А в другом стихотворении поэта «От неманских вод, из-под хвой Беловежи» (1908) читаем:
192
... Везде, где гонимое слышится слово,
Язык белорусский — владенье мое;
Немало столетий тому, как сурово
Идет в моей хате крестьянской житье... (129)
(Перевод Г. Семенова)
Героев Б. Шинкуба — Лагана, его деда Бежана, Чанту Чрыгба и других — напоминает и лирический герой (сам автор) произведения Я. Купалы «Это крик, что живет Беларусь» (1905-1907). Поэту дорого все, что связано с родиной, Беларусью, ибо это его корни, духовная основа его творчества, источник вдохновения. Лирический герой стихотворения, как и Лаган, вспоминает «ветхую хату» (дом), которую сам же построил:
... Хата крыта соломой, — что ж делать, нужда,
Под соломенной крышей и рига стоит,
Но я в сердце, как веру, ношу их всегда,
Их всегда моя память хранит!
Здесь в далекие дни я узнал божий свет,
Я отсюда шагал в школу в утренний час,
При лучине здесь сказки рассказывал дед,
Здесь и труд я познал в первый раз.
В ригу складывал хлеб, сено клал каждый год,
Здесь впервые я Зосе сказал, что люблю...
А потом здесь с детьми собирал умолот
И теперь рядом баню топлю.
И хоть горе познал, сгибло счастье навек,
Умерла моя Зося, нет в хате детей.
Привыкает к родимой земле человек,
Будто куст, прирастает он к ней!.. (130)
В памяти поэта воскрешаются и родные пейзажи: речка, луг, бор, колодец, зеленый сад, посаженный им, и т. д. Он верен своей родной земле. Автор завершает стихотворение такими словами:
Только как не любить это поле и бор,
Где б я ни был — всегда я к ним сердцем стремлюсь
Если же часом застонет от бури простор, —
Это стон, это крик, что живет Беларусь! (131)
(Перевод В. Шефнера)
193
Переживания поэта о судьбе очага, «родной сторонке» отразились и в небольшом стихотворении «Над колыбелью» (1919). В нем мать, укачивая ребенка, тихую песню пела и наставляла его, чтобы он, выросши, не забыл «родной сторонки», ее могилы.
По большому счету, роман «Рассеченный камень» — о нелегкой судьбе абхазского очага и Апсуара в XX в. и отчасти в XIX в. Эти понятия (очаг и Апсуара) неразрывно связаны между собой; они — основа национальной идентичности, мировосприятия. Повествование о их судьбе постоянно сопровождается символическим образом рассеченного камня, с помощью которого автор через Лагана и других персонажей художественным словом устанавливает «диагноз болезни» общества, определяет характер тех или иных явлений, особенности жизни семьи (и не одной только семьи...), персонажа и т. д. Сам абхазский очаг состоит из множества семейных и родовых очагов; многие герои романа сохранили родной очаг разными путями, а некоторые — нет. У первых (Бежан, Бадра, Чичин сын Чины, Мамсыр, Лаган и др.) сильны духовные корни, традиции народной культуры, историческая память. А вторые — весьма разные: одни (Руща и ему подобные) не сберегли очаг или не смогут сберечь его в будущем, ибо они пусты изнутри, отошли от Апсуара, и ради своей выгоды готовы идти на все. Другие (Джомлат и его сыновья, Алиас Щматович и др.) погибли, раскулачены или репрессированы и поэтому им не суждено было продолжить традиции своих предков, хотя они были тесно связаны с очагом и Апсуара; им не повезло — карательная рука идеологизированной власти не пощадила их и уничтожила. В результате, в романе показаны различные категории людей, они воскресают в воспоминаниях Лагана, который кому-то симпатизирует, кому-то — нет. Его отношение к персонажам отражается в его речи, тем самым раскрывается и характер самого Лагана.
В рассказе Лагана особое место занимает образ Бежана. С детства внук был сильно привязан к деду, от которого он многому научился. Бежан — связующее звено между прошлым и настоящим, «старым» и «новым». В образе старца отразились многие стороны жизни абхазов в конце XIX — 20—30-х гг. XX в. Повествователь внимателен к старику, к его характеру и портрету; он рассказывает: «Но не только амацурту вижу я, оглядываясь на далекие годы. Вижу дедушку — вот он стоит, опершись на посох, невысокий, ссутулившийся от старости. Лет ему в ту пору было далеко за девяносто, но он сохранил и подвижность, и бодрость, и рассудительность, речь его почти всегда нетороплива, слова обдуманны и весомы. Нос с горбинкой, округлая короткая бородка; широко посаженные глаза черны, как уголь, они то зорко поглядывают по сторонам, то будто насквозь пронзают тебя; руки ловки и быстры, не знают покоя, постоянно заняты каким-нибудь делом... В воспоминаниях дедушка неотделим от амацурты, он и она для меня — единое целое. Да так было и на самом деле. Даже овдовев, он не пожелал переселяться в дом...». (Перев. И. Бехтерева; 16). Его борода была
194
седа. Он постоянно следил за поведением внука и внучек, требовал от них соблюдения правил этикета (например, правильно вести за столом, обязательно мыть руки перед едой и после, слушаться старших и т. д.). Особую же заботу дед проявлял к Лагану — единственному мальчику в семье. Как рассказывает Лаган, однажды Бежан открыл свой таинственный сундук и вытащил оттуда старый короткий кинжал, подозвал его и объявил: «С сегодняшнего дня... это оружие принадлежит тебе, дарю. Ты уже мужчина и должен носить кинжал. Вот и носи его с честью... А ты, — внезапно дедушка повернулся к матери и наставил на нее свой посох, — ты слишком трясешься над своим сыном, думаешь, что он ребенок, и боишься того, чего бояться не следует. Нет, дочка, так себя вести не надо, иначе мы испортим мальчика. Своего единственного внука и наследника я хочу видеть первым во всяком деле: если он скачет на коне — то как джигит; если стреляет — то без промаха; если землю пашет — то так, чтобы никогда его семья не сидела голодной. А уж если рот откроет, чтобы слово молвить, — то пусть это слово будет как червонец... Мужчина ко всему должен быть готов, он все должен уметь: и сражаться, и работать, и песни петь. Но главное — он всегда, что б ни случилось, должен быть мужчиной, а не жалким трусом!..» (Перев. И. Бехтерева; 19-20). Как отмечалось выше, Бежан придерживается традиционной древней народной педагогики, которая предполагала воспитание детей (в данном случае — мальчиков) в духе Апсуара, «по-спартански».
В роду и в селении Бежан уважаемый и почтеннейший человек; с ним считаются и советуются. Конечно, не возраст поднял его авторитет; он очень мудр и рассудителен, он — самородок, философ и оратор. Таким же был, как уже говорилось, дед самого Б. Шинкуба Жажа — прототип Бежана (даже их имена созвучны), а также герой повести «Чанта приехал» Чанта Чрыгба. Мысли Бежана так или иначе связаны с очагом, и не только с ним. Он, сидя у очага, вороша своим посохом золу, говорил Лагану: «Взгляни на огонь, Лаган, ведь он чудо, настоящее чудо! На свете только один огонь способен вечно хранить свою красоту... А вот какой-то мальчик очень обрадовался, когда впервые увидел огонь, и подумал: “Ого, какая прекрасная штука! Надо скорее положить ее в матушкин сундук — там он целее будет!” Но этот мальчик был еще маленький, он не знал, что может натворить огонь, если его запереть в сундуке. А ты уже не маленький, ты можешь и должен все понимать... Запомни: огонь согревает не только того, кто разжег его, а всех, кто сидит поблизости. Для огня все равны! Так и человек — он тоже должен согревать людей своим теплом, своими словами и своими делами. Если абхаз хочет проклясть кого-то, он говорит: “Да погаснет огонь в твоем очаге!” И нет для него страшнее проклятья... Когда человек живет, а согреть никого не способен, грош цена и ему, и его жизни, да такому и жить-то незачем! Если бы я отправился в Турцию вместе со своим отцом, не было бы огня в этом очаге. Но он есть, Лаган, он ярко горит — огонь твоих предков. Дай бог, чтобы он и впредь никогда не погас, чтобы всегда горел так же светло, как сегодня». (Перев. И. Бехтерева; 144-145).
195
Бежан воспитывал Лагана так, чтобы он хорошо знал имена предков, и иногда, вечерами, сидя у очага, в присутствии соседа или гостя, дед говорил внуку: «Родословной только у того нет, кто в дупле вывелся... А ну-ка, Лаган, покажи нам, как ты своих предков помнишь!» (Перев. И. Бехтерева; 133). И Лаган начинал перечислять имена отца, деда, прадеда, прапрадеда и т. д. Все умершие из них, кроме отца Бежана Азнаура, похоронены на родине в Абхазии. Когда речь доходила до Азнаура, Бежан вспоминал о своих родителях и сестрах, которые выселились в Турцию в эпоху русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Речь старца раздвигает границы исторического времени и раскрывает трагическую жизнь абхазов во второй половине XIX в. В судьбе семьи Азнаура отразилась судьба всего народа. Заметим, что, как правило, главный повествователь Лаган предоставляет слово самому герою — очевидцу событий, ибо сам не был их современником. Этим автор усиливает связь художественной правды с исторической правдой. Рассказывая о прошлом, Бежан выражает свое отношение к событиям и некоторым историческим личностям. По его мнению, большинство абхазов в 1878 г. не приветствовало появление в Абхазии турецкого войска, в рядах которого служило немало абхазов из числа тех, кто попал в Турцию в прежние махаджирские годы. Командовал турецким корпусом абхазский дворянин Маан (Марганиа) Камлат, которого Бежан считал коварным человеком и предателем народа; он, после поражения турков, способствовал выселению абхазов в Османскую империю. Азнаур, его братья, сельчане с семьями двинулись в сторону Сухуми, чтобы сесть на корабли и навсегда покинуть родину. На берегу реки Келасур они остановились. Берег моря был усыпан большим количеством людей и скота. Лишь единицы решились убежать и возвратиться к родным очагам; среди них были Бежан и его жена. Бежан изначально был против выселения. Вот как он оценивал сложившуюся ситуацию: «Я имею право говорить всю правду об этом переселении. Конечно, большого подвига я не совершил, но я все претерпел, все вынес, чтобы вернуться, и я вернулся, не осквернил предательством родную землю, не дал пропасть наследству моих отцов, не дал погаснуть огню в их очаге... Там нас пугали: в Сибирь, мол, сошлют, на каторгу! Ничего подобного. Я снова пустил корни, врос в родную землю, дети пошли... И если уж говорить начистоту, без ложной скромности, благодаря таким, как я, и сохранился, уцелел наш народ, не обезлюдела наша земля. Мы цепко держались за родину, помнили о ней и при первой же возможности вернулись в свои дома. Но будь проклят тот день, когда мы оставили их, будь он проклят, обрекший нас на муки и унижения!.. Когда-то, в незапамятные времена, Абрскил рассек надвое известный вам камень, — так и нас, абхазов, разрубило надвое уготованное нам махаджирство, и одна часть осталась на этом берегу, а другая попала на тот, и между нами простерлось море, непереходимое и никому не подвластное...». (Перев. И. Бехтерева; 138-139). Так и в прошлом проблема «рассеченности» сопутствовала народу, не давая ему расслабиться и нередко ставя его на грань смерти. Бежан, как прекрасный оратор,
196
образно описывает печальную картину абхазских сел после махаджирства, увиденную им по возвращении в родной дом: «... вокруг все вымерло, ни одной живой души не осталось!.. Какие бы села ни проходили мы — Атару, Кутол, Джгерду, Гваду, — все они стояли пустыми, ни над одним из домов не вился очажный дым. Не ржали кони, не лаяли собаки, не слышалось петушиного крика — было тихо как на кладбище. И казалось, что над всем белым светом нависла такая же мертвая, неживая тишина...». (Перев. И. Бехтерева; 141). Такой же невыносимо грустный, сиротливый пейзаж открылся перед Бежаном и его супругой, когда они наконец добрались до брошенного родного дома. И как было приятно, когда они увидели куцего пса Пакию, который лежал на веранде, свернувшись в клубок. Пес был единственным живым существом, не покинувшим дом. Увидев их, Пакиа заскулил, замахал обрубком хвоста, встал и пошел навстречу, но ослабленный от голода упал на землю. Действие происходило весной, кукуруза (ее успели посеять до выселения) шла в рост, а алычу уже можно было есть. «Поразительно, но прилетевшие ласточки, застав пустые дома, не стали лепить под их крышами свои гнезда, а повернули и улетели. Не знаю, где они в тот год вывели свое потомство...», — сказал Бежан грустно. Несмотря на трудности, Бежан возродил очаг, воспитал детей. Таких, как он, было немного, но благодаря им абхазы сохранились в Абхазии.
В образе Бежана отражаются особенности религиозного верования абхазов, в частности симбиоз христианства и язычества. С одной стороны, Бежан считал себя христианином. Он был обижен на невестку Чаримхан за то, что она без его ведома пригласила домой Маленького ходжу (муллу) и гадалку (аҟудырԥаҩ) (им Бежан не верил) для «лечения» Лагана, но пожалел ее и простил. Однажды вечером дед заявил, что Лагана надо свезти в Моквскую церковь и «там испросить для него благословения». На решение Бежана повлияло и то, что настоятелем Моквского собора был отец Дмитрий (Дырмит) — родной дядя по материнской линии отца Лагана Бадры. Бежан по пути в Мокву рассказал внуку об истории храма, которому тысяча лет (132). Построил его царь Абхазии (старец не приводит имени царя, но в историографии он известен, это Леон III, правил в 960-969 или 958-968 гг.). С храмом связано и предание о судьбе зодчего, который был нанят царем. В устах Бежана сюжет предания приобретает философский смысл, он органично вплетается в художественную структуру романа «Рассеченный камень», способствуя углубленному раскрытию замысла писателя. Вместе с тем, предание усиливает значимость образа Бежана (именно он рассказывает его внуку), который выступает не только хранителем очага предков и Апсуара, но также знает историю народа. Для Лагана Бежан — историческая и культурная личность, которая связывает прошлое с настоящим и будущим. Даже в детстве он по-своему чувствовал эту связь; он любил деда, любил слушать его наставления, речь, сказки и рассказы.
197
По словам Бежана, зодчий (его имя неизвестно) долго строил Моквский собор, который с каждым годом становился все выше и прекраснее. Зодчий думал, что за такое уникальное сооружение его ждут почет и слава. Но царь оказался жестоким и заставил зодчего покончить с собой. Когда работа была почти закончена и зодчий на вершине купола закреплял крест, в голове царя родилась ужасная мысль: «Да, это великий, непревзойденный мастер, ... но если он встретит того, кто сможет ему заплатить больше, чем я, он сумеет построить и другой храм, еще прекраснее этого. Поэтому пусть остается там!» (Перев. И. Бехтерева; 47). Подумав так, царь приказал убрать лестницу, по которой зодчий взобрался на купол.
Несколько дней зодчий оставался на куполе, надеясь, что царь изменит свое решение. Но, наконец, понял, что он обречен. Тогда зодчий, примирившись со своей участью, обратился к людям, которые толпились внизу, с такими словами: «Все мы смертны... Сегодня мой черед покидать этот мир, будут вспоминать нас обоих: и того, кто сотворил его, и того, кто содеял зло. Но если имя одного будет произноситься с благоговением, имя другого — с хулой и проклятьями!» (Перев. И. Бехтерева; 47). Завершив свою краткую речь, великий зодчий бросился вниз. «Падая, он ударился головою о южную сторону храма и окрасил ее своей кровью. Вот уже сколько лет прошло с той поры, а стена до сего дня стоит красная. И в самом деле: невинную кровь никакой водою не смыть, ее не сотрет время...», — сказал Бежан в заключении и задумался. (Перев. И. Бехтерева; 47).
Этот трагический сюжет из первой книги романа невольно вспоминается, когда читаешь вторую книгу, показывающую не менее трагическую судьбу героев эпохи «раскулачивания» настоящих тружеников села и репрессий против интеллигенции. Когда путники (Бежан, Лаган и его тетя Мари) поднялись к громадному храму, «взметнувшемуся ввысь подобно утесу», Бежан промолвил: «О господи, помилуй нас и обрати к нам лицо твое» и перекрестился. Вслед за ним перекрестились Лаган и Мари. Но позже выяснилось, что родственник Дырмит решил оставить церковную службу и отстаивать справедливость иным способом (например, маузером), что было неожиданно для Бежана. И здесь автор приводит любопытный эпизод, который еще раз подтверждает, что Бежан мудрый, философски мыслящий человек. Некий парень Ясон собирал вещи «богоотступника» Дырмита, который уже не имел права жить при храме. Среди вещей оказался портрет императора Николая II. «Кидай его с обрыва!» — сказал Дырмит Ясону, плеткой ткнув в сторону реки. Видевший это Бежан заметил: «Кажется, только вчера еще ни одна служба в церквах без его имени не начиналась, а сегодня уже и портрет не нужен стал... Истинно, мир — это лестница, одни по ней вверх, другие вниз... Так-то, уважаемые». (Перев. И. Бехтерева; 52).
Однажды к Бежану за советом пришли председатель сельсовета Махаз и его заместитель Танас. Они предлагали разобрать сельскую церковь и построить на ее материале кооперативный магазин, а мечеть превратить в школу. Но старец предостерег их: «Церковь — святыня, и трогать ее не надо, да простит вам бог
198
ваши греховные помыслы!..» А Танас улыбнулся и сказал: «Бежан, дорогой, насколько мне известно, ты и мечеть стороной обходишь, и в церкви тебя не видели... Кому же ты молишься, а? Молчишь? Тогда я скажу. Только (языческим божествам. — В. Б.) Джадже, Айтару, луне да солнцу — вот кому. Ну, и всем другим древним богам...». (Перев. И. Бехтерева; 114).
Бежана задели слова Танаса, но он не растерялся и мудро ответил: «Сынок, если даже дереву молишься искренне и чистосердечно, то твоя молитва все равно дойдет до истинного бога, каким бы именем ни называли его люди». (Перев. И. Бехтерева; 114). Через некоторое время Бежан продолжил: «Все, к чему привык народ, с чем сроднился и сжился, и все, что, как лоза, дерево обвило, опутало его душу, вы решили отсечь одним махом. И я заклинаю: не торопитесь! То, что вы задумали, может столкнуть вас с народом. Или оттолкнуть его от вас... Не забывайте, что всякого, кто решился осквернить святыню, поднять на нее руку, ждет кара. А божья ли она или народная — какая разница! Зачем вам навлекать проклятия на свою голову, ведь вы еще так молоды!» (Перев. И. Бехтерева; 114).
Слова Бежана, высказанные до начала репрессий, оказались пророческими, но он не дожил до тех трагических событий, которые развернулись в 30-е годы.
Примечательно, что перед смертью Бежан попросил похоронить его по-христиански.
А Махаз отчасти прав, когда говорит: «Удивительное у нас село... В одном конце церковь, в другом, поближе к горам, мечеть. Но если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что одни и те же люди ходят и в церковь, и в мечеть. О чем это говорит? О том, что никто просто-напросто не верит в бога — ни в Христа, ни в Магомета». (Перев. И. Бехтерева; 113). Правда Махаза заключается в том, что он отразил реальную действительность, его слова свидетельствуют о полирелигиозности абхазов. Однако нет никаких оснований утверждать, что сельчане ни во что не верят, являются как бы «атеистами».
С другой стороны, Бежан действительно является язычником, молится традиционным древним божествам, при этом признавая верховенство бога Анцва. И это не мешает ему считать себя христианином, в его сознании языческое и христианское сосуществуют, не конфликтуя между собой. Как ни парадоксально, полирелигиозность героя не становится причиной какого-либо раздвоения его личности, наоборот — она делает его духовно богатым мудро мыслящим человеком.
Бежан прекрасный молельщик, в его семье регулярно проводятся ритуальные праздники, посвященные языческим божествам. Лаган хорошо запомнил их, ибо всегда внимательно следил за ритуальными действиями деда, его молениями. В своем повествовании он приводит немало этнографических материалов, раскрывающих характерные черты народных языческих обрядов (в них иногда отражаются христианские традиции), мировоззрение Бежана и других персонажей, «экологическую» философию абхазов и т. д. Этот этнографический мате-
199
риал не выпадает из поэтической системы романа, наоборот, он решает важные художественные задачи. Примером может служить третья глава первой книги произведения. В ней описывается один из циклов весенних обрядов в честь Айтара (Аиҭара) — божества плодородия, покровителя домашнего скота. Согласно абхазской мифологии и древним молитвенным текстам, Айтар имеет семь лиц (бжь-Аиҭар), то есть Айтар — семидольное божество. Долями Айтара являются: Джабран (Џьабран) — покровитель коз, божество мелкого рогатого скота, Жвабран (Жәабран) — покровитель коров, божество крупного рогатого скота, Ачышашан (Аҽышьашьан) — покровитель лошадей, Алыщкинтыр (Алышькьынтыр) — божество собак, Анапа-Нага (Анаԥа-Нага или Анаԥанага) — божество урожая (оно мужского пола, однако, судя по имени, божество первоначально имело женский облик), Амра (солнце; вероятно, имя бога солнца), Амза (луна; возможно, имя бога луны) (133).
В образе семидольного Айтара отражаются особенности древнего хозяйственного быта абхазов, их мировосприятие.
К празднику весны семья Бежана тщательно готовилась. В день празднования все были одеты в лучшую одежду, только нельзя было носить оружие, никто никого не должен был сердить или обижать, даже на собаку прикрикнуть не разрешалось. С раннего утра отец Лагана Бадра принес снопик вечнозеленого плюща и повесил возле входной двери в амацурту (считалось, что Бадре всегда сопутствовала удача, поэтому он должен был первым встречать весну в этот праздничный день). Два снопика плюща и молодых ветвей орехового дерева (фундука) принес и Лаган. Один из них он также повесил возле входной двери в пацху, другой — у дверей большого дома. При этом он не забыл произнести заклинание:
Кто приходит к нам с добром,
Пусть заходит в этот дом.
Ну, а тот, кто зло несет,
Пусть запнется и уйдет.
(Перевод И. Бехтерева; 54)
Мать готовила угощение — вареный рис, крутые яйца, курятина, подлива из грецких орехов, сыр всех сортов и т. д. Празднование не могло обойтись без ритуальных вареных хлебцев разных форм и определенного количества (количество соответствовало числу божеств, которым предназначались хлебцы). Когда хлебцы сварились, Чаримхан выложила их в деревянную чашу и расположила в строгой последовательности. Чашу с хлебцами взял Бежан и пошел, не оглядываясь, прочь для проведения моления. За ним последовали его сыновья Бадра и Елизбар, а также Лаган. В обряде участвовали только мужчины. Прежде всего Бежан направился в сторону хлева, возле которого сбился скот. Встав лицом на восход, дед взял из чаши круглый хлебец и подняв его вверх произнес молитву в стихотворной форме, обращенную к божеству Айтар:
200
О Айтар, семь жизней вместивший в одну,
О Айтар, тебе мы вверяем стада,
Присмотри ты за нашей скотиной!
Присмотри, чтобы были здоровы
Наши козы, быки и коровы...
(Перевод И. Бехтерева; 55—56)
Закончив первую молитву, Бежан, положив хлебец обратно в чашу, пошел к огороду, у калитки он взял другой хлебец, напоминающий голову женщины и, протянув руку с ним к огороду, произнес вторую молитву, теперь он просил богиню Джаджу сохранить и умножить посевы, дать богатый урожай и т. д. Он молился и Алыщкинтыру (при этом держал хлебец, похожий на голову собаки), и Луне (а хлебец на этот раз имел форму полукруга), и Солнцу («солнечный» хлебец так же кругл, как и тот, который посвящен Айтару)... Каждое заклинание тому или иному божеству имеет смысл. Например, Бежан, обращаясь к луне, говорил:
О Луна, о светильник ночной, о лампада,
Ты бредущим во тьме поводырь и отрада!
Да не будет вовек обделен твоим светом
Ни один из людей — только грешник отпетый,
Тот, кто зло совершает под пологом ночи, —
О Луна, ослепи им бесстыжие очи!
А для добрых пролей золотое сиянье,
Светом душу согрей и умножь достоянье...
(Перевод И. Бехтерева; 57)
Для Бежана Луна — божество, а его заклинание отражает отношение персонажа к жизни, к человеку; он дифференцированно подходит к людям, просит наказать негодяев, а добрым — помочь. Заметим: Бежан молится не за себя, а за благополучие своей семьи и других людей.
Лаган, благодаря дедушке, знал некоторые заклинания, он даже участвовал в обряде. Как научил Бежан, Лаган выхватил хлебец для Дзыдзлан — владычицы вод и побежал к источнику, бросив хлебец в воду, произнес заклинание. Лаган признается, что он смог запомнить лишь некоторые заклинания; к тому же многие слова еще не были доступны тогда его пониманию. Несмотря на это, все же чувствовалось, что маленький Лаган, который, при всем желании деда, не мог стать «спартанцем», больше тяготел к духовной сфере; он с жадностью слушал обрядовые моления и сказки дедушки, народных певцов и сказителей Мамсыра, Чичина сына Чины и других...
После проведения моления в честь языческих божеств, мужчины направились в винный погреб. И здесь наблюдается любопытная картина: появляется
201
образ христианской святыни — иконы Илорской божьей матери (Елыр-ныха). Бежан каждую осень в честь этой святыни наполнял вином одну из амфор, зарытую в земле, и открывал ее только в день празднования прихода весны. После открытия амфоры Бежан, с горящей свечой в руке, произносил молитву, обращаясь к Елыр-ныхе. Затем он, зачерпнув вина новым ковшом, выпил глоток и дал по очереди попробовать своим сыновьям и даже внуку. «Мы возвратились в амацурту, — рассказывает Лаган, — трепетно горела свеча в руке у дедушки, на плече у дяди Елизбара полный кувшин вина. Вошли на веранду, по очереди переступили порог; сразу же за ним стоял столик, на котором была и еда, и фрукты — все, кроме мяса, потому что нельзя проливать кровь, когда молятся Айтару, богу-покровителю домашнего скота... Здесь же, на столике, рдели в чугунной сковородке угли, пылали тонкие свечи, — дедушка присоединил к ним свою, и мы все, и мужчины, и женщины, вереницей подошли к столику, бросили на угли кусочки воска. В эти мгновенья каждый хранил полное молчание: ведь это тризна, поминовение мертвых, и все, что выставлено на столике, предназначено им, а в дыму от воска, поднимающегося вверх, прячутся их души... И на некоторое время дом погрузился в безмолвие». (Перев. И. Бехтерева; 60).
Такие «столы для мертвых» сопровождают и Пасху, и день успения Божьей матери (28 августа).
В ритуальных обрядах, молениях, которые проводятся в семье Бежана, а также в фольклорных материалах, широко присутствующих в романе «Рассеченный камень», раскрываются характерные черты абхазского мифопоэтического мировоззрения; многие из них сохранились по сей день. «По представлениям абхазов, — пишет С. Л. Зухба, — космос (вселенная, мироздание) в современном его состоянии делится на три составные части (или ступени): небесная, земная и подземная (потусторонняя, преисподняя, царство мертвых, царство злых и темных сил, подземный мир» (134). Такое деление космоса присуще мифологии многих народов мира, в том числе Кавказа. В этом мироздании каждому существу отведено определенное место. Составные части космоса обычно отличаются по степени престижности. «Как и в мифологии других народов мира, так и в абхазской, самым престижным считается небо, как абсолютное воплощение верха... Как во всех дуалистических мифах, так и в абхазской мифологии, вселенная мыслится как определенная система пар сбалансированных противоположностей: “небо—земля”, “север—юг”, “восток—запад”, “правая—левая”, “белое— черное”, “свет—тьма”, “правда—кривда”, “верх—низ”, “хорошее—дурное” и др. Такого рода пары в позднейшее время ассоциируют нравственные категории, символизируют добрые и злые начала... Как правило, небо противопоставляется земле как оппозиция “верх-вниз”. Небо является воплощением всемогущества. Оно устрашает человека своей беспредельностью, недоступностью и таинственностью. В то же время оно связано с землей определенными узами» (135). В мифах небо обожествлено, именно на нем обитают высшие божества, и прежде всего бог Анцва (к нему мы еще вернемся в четвертой главе монографии). Абхазы
202
иногда говорят: «Ажәҩан узылыԥхааит», «Ажәҩан алԥха уоуааит» («Благосклонно пусть будет к тебе небо»). Но абхазы также используют такое выражение: «Дгьыли жәҩани ирымаҿоуп» («Клянусь небом и землей»). Эта клятва свидетельствует о том, что земля и небо одинаково обожествлены и равнозначны.
«По представлению абхазов, земная жизнь человека временна, скоротечна, а постоянная, вечная жизнь уготована в потустороннем мире. Считают, что земная жизнь построена на лжи и обмане (амцҳәарҭа), потусторонняя жизнь — справедливая, там царит истина (аҵаҳәарҭа)» (136). О бренности земной жизни и вечности загробной говорит и такое, часто употребляемое выражение: «Иара /лара/ аҵаҳәарҭа дыҟоуп, сара амцҳәарҭа сыҟоуп» («Он /она/ [покойник или покойница] находится там, где властвует истина, а я нахожусь там, где говорят ложь»), «Потусторонний мир — это царство мертвых... По древним представлениям абхазов непрерывна таинственная связь между умершими предками и их живыми потомками. Абхазы воспринимают смерть не как конец жизни, а как продолжение ее в ином мире. Не напрасно и поныне об умершем говорят: “Он поменял один мир на другой” (“Идунеи иԥсахит”)» (137).
В образе старца Бежана показан историко-культурный, этнопсихологический портрет традиционного типа абхаза, который сохранил древнее мифопоэтическое мировоззрение. И это мировоззрение он пытается передать своим детям и внукам, чтобы не прерывалась преемственная связь поколений, чтобы, как говорят в народе, младшие не опозорили отцов (родителей, предков). И умершие все видят, ибо, по представлениям абхазов, душа каждого человека (иԥсы) бессмертна, она постоянно витает по земле (не случайно же абхазы в определенные дни, о которых говорилось выше, ставят «столы для мертвых», почитают умерших).
В повествовании Лагана раскрываются и другие черты характера Бежана. Он прекрасный оратор и народный дипломат; однажды, например, старец сумел примирить две враждующие фамилии, остановить кровную месть. С ним часто советуются представители новой советской власти на селе. Бежан не политизированный человек, в его речи вряд ли можно найти идеологические штампы; в своих действиях он опирался на собственный богатый жизненный опыт и Апсуара. Но он не отделял себя от односельчан и не конфликтовал с новой властью. Более того, дед, похоже, принял эту власть. Примечательно его мнение о Ленине, высказанное в день смерти вождя; при этом он искренен, в его словах отсутствует ложь, ибо он говорил то, что думал. В доме Бежана готовились к большому торжеству по поводу приглашения зятя (мужа дочери Бежана Мари) (138). Однако за день до кампании стало известно, что Ленин умер. Лаган вспоминает: «А дома у нас чуть ли не все соседи собрались (они готовились к торжествам. — В. Б.), они битком набились в амацурту, сидели, плотным кольцом окружив дедушку, курили, лица их были строги и серьезны, как на похоронах ... никто не смел нарушать скорбную тишину. Если огонь в очаге начинал угасать, кто-нибудь шел на веранду и приносил охапку дров.
—Скажи нам что-нибудь, Бежан, ... — вымолвил наконец Саид.
203
— Даже и не знаю, что сказать вам, почтенные... Эта черная весть вышибла меня из седла...
Он протянул к очагу посох, железным его наконечником разворошил жар и заговорил снова:
— Мне вспомнилось одно событие... Это было в первый год после установления Советской власти, в Очамчире тогда собрался общий сход... выступал Ефрем Эшба (139). Я спросил, чей он сын, мне ответили: сын Алыксы. А я Алыксу хорошо знал... Тогда я стал слушать еще внимательнее...». (Перев. И. Бехтерева; 176-177).
Не идеологизированность мировоззрения Бежана заставила его увлеченно слушать революционера Е. Эшба и даже поверить оратору, а то, что он все-таки был «своим», тем более сыном уважаемого Алыксы (Алексея). Есть и другой фактор, сыгравший важную роль в формировании «общественных» взглядов Бежана, который спокойно, как должное, воспринял советскую власть. Дело в том, что старец — свидетель дореволюционной жизни народа, сам на себе же испытал колониальную политику царского самодержавия на Кавказе, трагические махаджирские годы, видел последствия имперско-националистической политики грузинских «демократов» во главе с Н. Жордания в 1917-1921 гг. Большевики (к их числу принадлежал и Е. Эшба) предложили народам свободу и право нации на самоопределение, землю крестьянам и т. д. Благодаря советской власти на карте бывшей Российской империи появились новые национальные республики, в том числе и ССР Абхазия. Малочисленные народы действительно получили возможность развивать свою культуру и литературу. Такого еще не знала история крупных держав и империй. Это были 20-е годы; Бежан еще здравствовал, а эпоха массовых репрессий пока не настала. Под впечатлением пережитых тяжелых десятилетий, Бежан жадно слушал выдающегося в то время политического и общественного деятеля Е. Эшба, внесшего большой вклад в дело восстановления абхазской государственности и отстаивания ее суверенитета и независимости. Старец продолжал свою образную речь: «... Оказывается, Ефрем Эшба встречался в Москве с Лениным, говорил с ним от имени абхазов, и Ленин дал нам, абхазам, государственность... Вот с того дня Ленин навсегда поселился в моей душе... Раньше, когда я размышлял над судьбою нашего народа, мне казалось, что она подобна судьбе Абрскила: не успели мы от одной напасти оправиться, как нас уже новая настигает. Абрскил расшатал железный столб, к которому его приковали много веков назад, еще чуть-чуть — и он выдернет его. Но в этот миг какая-то крохотная синяя птичка... уселась на столб. Она трещала без умолку и, наконец, вывела из себя Абрскила,.. он... схватил кувалду и в страшном гневе запустил ею в эту маленькую негодницу! Но птичка... улетела, а кувалда... ударила по столбу и вогнала его обратно в землю... Но, оказывается, на земле есть сила, способная снять с героя древнее заклятие, и вот благодаря Ленину Абрскил выдергивает из земли железный столб, сбивает с себя оковы!.. Однако сейчас, уважаемые, вы видите, какое несчастье случилось. Умер Ленин... Так что, уважа-
204
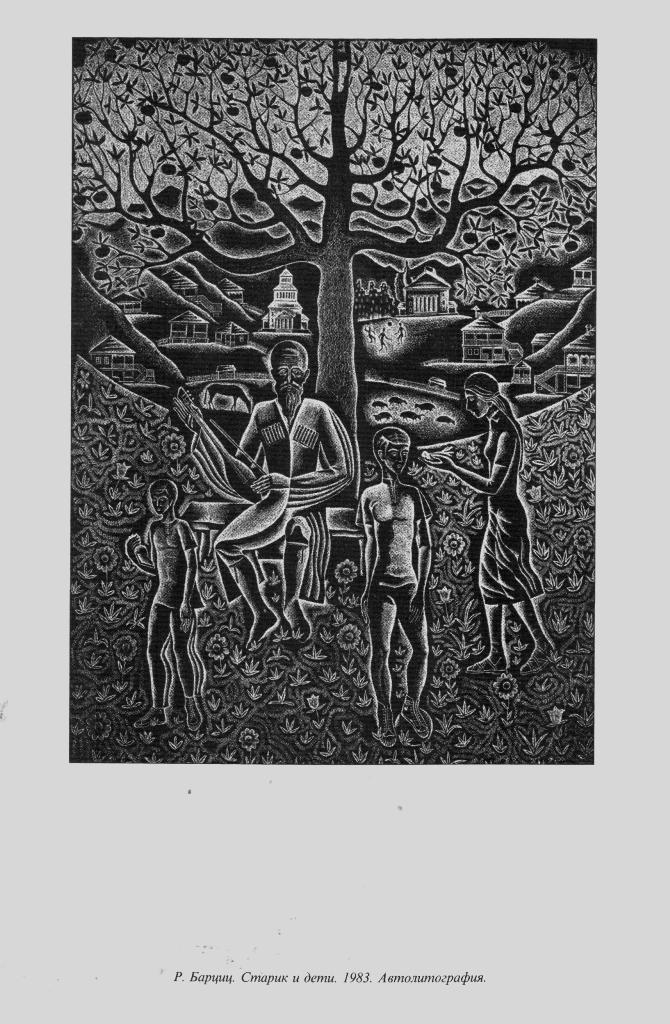
205
емые мои соседи, пир я отменяю, вернее, откладываю, знайте об этом!» (Перев. И. Бехтерева; 177).
Кроме того, Бежан входит в земельную комиссию, которая занимается распределением княжеских и иных земель между крестьянами. Он считает, что выполняет поручение народа, воля которого для него священна. «Если я не выполню дела, которое мне поручили, откажусь, я буду подобен тому, кто бежал с поля боя, бросив своих товарищей», — говорил Бежан. (Перев. И. Бехтерева; 63—64).
Интересный эпизод из жизни села приводится в четвертой главе первой книги романа «Рассеченный камень», в котором снова появляется образ Рассеченного камня, символизируя разделение общества по классовому признаку. Один из сходов земельной комиссии, по предложению Бежана, провели на Холме Рассеченного камня. Сход проходил напряженно, спор разгорелся, когда приступили к разделу владений князя Омара Чачба. На них претендовали многие крестьяне, в том числе бывший управляющий Омара Арчил. Пришлась огласить известный Декрет о земле, его зачитать попросили сельского писаря Тамела. Маленькому Лагану, присутствовавшему на сходе (он был с Бежаном), не было знакомо слово «декрет», и он по-своему думал о нем. «Что же такое этот дыркет? — со смешанным чувством любопытства и страха размышлял я. — Почему его все просят? Может, он похож на камень, который запустил Абрскил в небесное воинство? А может, это какая-нибудь хищная птица? Сейчас она летит где-то по небу, но скоро опустится к нам на холм, и тогда... Однако что будет “тогда”, я как ни напрягал свой детский ум, представить себе не мог». (Перев. И. Бехтерева; 68). Детское «мифологизированное» (под влиянием дедовских преданий) воображение Лагана позволило ему сравнить знаменитый ленинский Декрет о земле с камнем, брошенным Абрскилом. Этот камень рассечен им мечом; две половинки камня стали, как уже говорилось, символами прошлой и еще неизвестной будущей жизни героя. То есть Декрет становится фактором не объединяющим, а разделяющим. И далее — сравнение с хищной птицей... Случайно ли?.. Видимо, нет...
«— Дыркет! Дыркет! — не угасали крики.
— Тамел! Где ты? Читай!
Писарь, выбравшись из людской гущи, подошел к Рассеченному камню — там было посвободней, народ, в основном, держался около липы, под которой заседала земельная комиссия, — вскарабкался на ту половинку, что лежала ничком, и приготовился читать...». (Перев. И. Бехтерева; 68). Еще раз вспомним последние слова Абрскила после того, как он рассек мечом огромный камень: «“... Это мое прошлое”, — [вымолвил он] и показал на ту половину, что упала срезом вверх, навзничь, как бы открыв лицо. А про другую, которая упала срезом вниз, ничком, словно бы спрятавшую лицо, сказал: “А вот мое будущее. И одно отделено от другого...”». (Перев. И. Бехтерева; 44).
В переводе И. Бехтерева ничком лежащий камень связан с будущим. И правильно то, что писарь Тамел — представитель новой советской власти на селе,
206
с Декретом в руке встает именно на этот камень, лежащий ничком. Логически это совпадает с замыслом Б. Шинкуба, который, уверен, стремился связать «будущее» с наступившей новой жизнью. Выбора в общем-то и не было. К сожалению, в абхазском оригинале (в разных изданиях романа «Рассеченный камень») есть или случайная путаница, или ошибка самого автора или редакторов. В первом издании произведения (1983) последние слова Абрскила таковы: «Иахьа сара сыԥсҭазаарагьы еиҟушахеит ҩбаны, ... ҿыцха икажьыз аҽыҭ инапы накуикын, — Уара исаҩсыз, исхызгаз уоуп! Егьи згуы ҩарханы ишьҭаз ахь днахәын, — Уара, сзыниаша, саԥхьа ишьҭоу уоуп...» (140). («“Так вот распалась сегодня и моя жизнь... Это мое прошлое”, — и показал на ту половинку, что упала срезом вниз, ничком. А про другую, упавшую срезом вверх, навзничь, сказал: “А это мое будущее”». /Подстрочный перевод мой. — В. Б./). А Тамел, согласно этому изданию романа, встал на ту часть камня, которая лежала срезом вверх, навзничь (згуы ҩархан ишьҭаз) (141). А в полном издании романа (1998) читаем: «Иахьа сара сыԥсҭазаарагьы еикушеит ҩбаны, — иҳәеит Абрыскьыл, ҿыцха икажьыз аҽыҭ инапы нақуикын, — Уара, сзыниаша, саԥхьа ишьҭоу уоуп! — Егьи згуы ҩарханы ишьҭаз ахь днаҳәын, — Уара исаҩсыз, исхызгаз уоуп! Шәарҭ шәеиҟугахеит, абри ауп ихуарҭам!» (142). («“Так вот распалась сегодня и моя жизнь... Это мое будущее!”, — сказал он и показал на ту половинку, которая упала срезом вниз, ничком. А про другую, упавшую срезом вверх, навзничь, сказал: “А это мое прошлое!”». /Подстрочный перевод мой. — В. Б./). Тамел же встал на ту половинку камня, которая лежала срезом вверх, навзничь (згуы ҩарханы ишьҭаз) (4; 65).
Очевидно, что тексты (включая русский перевод романа) противоречат друг другу.
Теперь обратимся к самим фольклорным текстам, которые были записаны Б. Шинкуба. В реконструированном полном тексте мифа об Абрскиле читаем: «... Згуы ларханы ишьҭаз инапы нақуикын, ус иҳәеит Абрыскьыл: — Ари, иацы, жәацы зҳәаз иеиԥш, аханатә исхызгахьоу иатәуп. Згуы ҩарханы икажьыз ахь днаҳәын: — Ари, уаҵәы, уаҵәашьтахь зҳәаз иеиԥш, саԥхьаҟа исԥеиԥшхаша иатәуп! Дара наунагӡа еиҟуҭхоуп, абри ауп ихуарҭам» (143). («Указав пальцем на половинку камня, которая лежала срезом вниз, ничком, Абрскил сказал: “Это мое прошлое, то, что уже пережил”. А посмотрев на другую половинку, лежавшую срезом вверх, сказал: “Это мое будущее... Они навсегда отделены друг от друга, и это плохо”. /Подстрочный перевод мой. — В. Б./»). Такой же текст встречается и в одном из вариантов мифа (144). Фольклорный вариант данного эпизода присутствует лишь в первом издании романа «Рассеченный камень» (1983). А в полном издании произведения (1998) половинки Рассеченного камня интерпретируются по-другому, почти так, как в переводе И. Бехтерева. Именно такая интерпретация имеет смысл, ибо символом неизвестного будущего может быть только та половинка камня, которая лежит срезом вниз, ничком, как бы закрыв лицо; ее тайны еще неизвестны. Другая половинка лежит навзничь, срезом вверх, как бы
207
открыв лицо; она — символ прошлого, истории, которая уже состоялась, известна. К чести переводчика И. Бехтерева, он уловил эту важную мысль и понял логику символа, который играет особую роль в поэтической структуре романа «Рассеченный камень». Кроме того, если в абхазских изданиях писарь Тамел с Декретом о земле в руке встает на той части камня, которая лежит срезом вверх, то в переводе И. Бехтерева, персонаж поднимается на другую половинку, лежащую ничком, тем самым как бы демонстрируя, что неизвестное будущее — это новая социалистическая жизнь, о чем свидетельствует сама личность героя и Декрет, который он зачитал. Именно в такой интерпретации можно найти смысл. Значимость символа Рассеченного камня усиливается тем, что об его истории изначально рассказал почтенный старец Бежан, который исповедовал праведную жизнь в духе Апсуара. И перед смертью дед оставался необыкновенным и бесстрашным человеком. А умирал он в здравом уме. Смерть он воспринимал как неизбежный конец всякого живого существа, она прерывает земной путь человека, но вечен дух. Всему свое время... «Не стоит задерживаться в этом мире. Зачем? Чтобы надоедать ближним?» — с трудом проговорил он, обращаясь к народному певцу и сказителю Мамсыру.
Бежан в начале лежал в своей любимой амацурте (пацхе). Но когда почувствовал приближение конца, он попросил, чтобы ему постелили в доме, в зале, ибо понимал, что посетителей будет много. А в амацурте, как правило, гостей не встречают. При этом он больше заботился о чести и авторитете своих детей, семьи, хотя не хотел расставаться с пацхой. «Если будут приходить люди, там [в большом доме] нам удобнее будет. Да и не хочу, чтоб вас (имеет в виду детей и невестку Чаримхан. — В. Б.) потом упрекали: уморили, мол, старика на сквозняках, даже помереть в доме не дали!» (Перев. И. Бехтерева; 252). Сыновья Бежана, Бадра и Елизбар, помогли ему встать, затем все трое, не спеша, двинулись к выходу. Однако, поравнявшись с очагом, старик попросил остановиться. Лаган рассказывает: «Его повернули лицом к огню, и дедушка, чуть склонившись, заглянул в его глубину так, точно хотел что-то найти в нем, потом погладил надочажные цепи, еле видные сквозь дым, приподнял голову, оглядел закопченные балки, плетеные стены... Предчувствуя неизбежное, он прощался со всем дорогим для себя...». (Перев. И. Бехтерева; 252). Бежан считал, что он достойно прожил свою жизнь. Во-первых, он сохранил очаг предков для потомков, преемственную связь поколений, духовное богатство народа, родной язык; во-вторых ему сильно повезло в жизни, потому что он не пережил смерти своих детей и внуков: они, к счастью, все целы и здоровы. Поэтому Бежан попросил Мамсыра спеть ему песню про того, кто не был сожжен слезами горя и ни разу не надевал траура. Старик умирал, но он по-отечески продолжал проявлять заботу о детях, от которых теперь уже зависела судьба очага. Его последняя речь была направлена на детей, внука Лагана и невестку Чаримхан. Интересно то, что старик возвысил роль женщины-матери в семье; он призвал сыновей Бадру и Елизбара жить дружно, не ссорясь. Попросив Чаримхан подойти поближе,
208
Бежан сказал: «Вот взгляните на нее, это добрая и совестливая женщина... Если будете слушать ее, между вами не возникнут раздоры, не будет вражды, а если поссоритесь между собой, то знайте, что и у меня нет покоя на том свете!..» (Перев. И. Бехтерева; 259). Чаримхан — жена старшего из братьев, Бадры, которому после Бежана положено стать главой семьи. Чаримхан доказала деду, что она может быть хранительницей домашнего очага, от которой тоже зависит будущая судьба семьи.
Объектом особой заботы деда был Лаган — представитель третьего поколения (если считать от Бежана). Своих детей старец успел воспитать в духе Апсуара, они вряд ли уже забудут обычаи и традиции народа. Другое дело Лаган, он еше маленький, и дед уже не доживет до его взросления. Последние предсмертные слова Бежана были связаны с внуком. Он, обращаясь к Бадре, сказал: «Если нужно будет все продать, что у тебя есть, если даже по миру придется пойти,., но коль уж отправил сына учиться, то дай ему, любою ценою дай возможность дойти до конца по дороге знаний. А если не получится, помешает что-то, сделай из него настоящего крестьянина, доведи хоть это дело до конца, а то будет он ни то ни се... Знаю, что и у моего внука есть своя звезда, пусть она ярко горит, да будет с тобою мое благословение...». (Перев. И. Бехтерева; 260).
В. Ацнариа отмечает, что в романе «Рассеченный камень» действует большое количество героев, но в художественном отношении не каждый образ персонажа доведен до полноты и совершенства. По мнению критика, «художественных красок» не хватает в образах, например, отца Лагана Бадры, матери Чаримхан, брата Бадры, Елизбара и др.; а из внуков и внучек Бежан выделял только Лагана и постоянно его воспитывал. Это «трудно понять... — пишет В. Ацнариа. — Может быть, причина в том, что другие — внучки, девочки? Если говорить об отце Лагана, то он кажется обезличенной личностью. Все знания Лаган приобретает исключительно от деда, они связаны с “монопольной” деятельностью Бежана, это подрывает доверие читателя. Почему ослаблена связь между родителями (Бадрой и Чаримхан) и сыном (Лаганом)? Особенно обделен отец Лагана — он остался в тени деда. Неужели между отцом (Бадрой) и сыном (Лаганом) нет никаких теплых, духовных... связей?.. Даже имя отца очень редко встречается. ...Маленького Лагана обычно называют “внуком Бежана”. ... Абхазы ...как правило, спрашивают: “Чей ты сын”, а не “Чей ты внук”... С моей точки зрения, чтобы полнее раскрыть образы персонажей и события, в романе “Рассеченный камень” необходимо было усилить художественный вымысел... Тогда некоторые образы могли бы преодолеть своего реального прототипа ... или, наоборот, еще больше сблизиться с действительностью» (145).
Напомним, что статья В. Ацнариа написана в 1984 г., после выхода первой книги романа Б. Шинкуба, а вторая еще не была написана. Поэтому некоторые критические замечания В. Ацнариа (например, о несовершенстве образов других героев, в том числе Бадры) сегодня, когда вторая книга наконец опубликована, теряют смысл. Возможно, писатель при написании второй книги учел мысли
209
критика — автора ряда работ о творчестве Б. Шинкуба. Однако все же над некоторыми вопросами стоит поразмыслить.
Нельзя забывать, что роман «Рассеченный камень» написан на автобиографической основе. Автор, в определенном смысле следуя традиции Д. Гулиа, стремился создать историко-культурный, этнопсихологический портрет народа конкретной эпохи. И неудивительно, если создается впечатление, что этнографизм довлеет над художественным вымыслом, хотя не считаю, что от этого пострадала художественно-эстетическая значимость произведения. Этнографизм в данном романе является неотъемлемой частью поэтики произведения. Б. Шинкуба, описывая жизнь абхазов в 20—30-е годы, естественно, учитывал «этнографическую» реальность, особенности мировосприятия абхазов, в котором силен патриархально-родовой элемент, что, кстати, не препятствовало развитию национальной культуры.
О значении рождения сына уже говорилось при анализе романа Д. Гулиа «Камачич». С точки зрения абхазов, как и многих народов мира, мужчина является главой семьи, продолжателем фамилии, рода, а женщины, выйдя замуж, уходят в другую семью; по женской линии фамилия не продолжается. Это, конечно, не означает, что девочки изначально обделяются вниманием родителей, ибо для родителей все дети одинаковы. У женщин другое преимущество: через них усиливается кровно-родственная связь в обществе, сближаются разные фамилии. Кроме того, женщина наряду с мужчиной (супругом) становится хранителем фамильного очага. Эти традиции не могли не отразиться и в образе Бежана, в его отношениях с внуком Лаганом. По правилам семейного этикета, деду дозволялось все, а родному отцу — нет. В частности, если дед в присутствии гостей мог обласкать внука, посадить его на колени, то его отец не мог вести себя так, он был ограничен в поведении. Можно привести много подобных примеров. Сыновья же Бежана — Бадра и Елизбар, давно уже взрослые люди, но для отца они остаются детьми; в свое время он потратил много сил и энергии, чтобы воспитать их в духе Апсуара. Вторая книга романа свидетельствует о том, что старания Бежана были не напрасны; его характер как бы продолжается в образе старшего сына Бадры.
После смерти Бежана образ Бадры выходит на первый план. Он чаще встречается во второй книге романа. Бадра — настоящий крестьянин-трудяга, никогда без дела не сидит. У него крепкое хозяйство. Кроме того, благодаря своему отцу, он знает имена двенадцати поколений своих предков (то есть 400— 500-летнюю историю рода). Бадра мудрый, честный и открытый человек, он не скрывает своих мыслей. Его речь — основное средство раскрытия характера, мировосприятия самого героя. Некоторые черты его характера также отмечают и другие персонажи, прежде всего Лаган, его сестра Мачич, супруга Бадры Чаримхан и др.
В судьбе Бадры и его семьи отразилась трагическая история крестьянства в 30-е гг., когда у настоящих тружеников села отнимали нажитое имущество,
210
«лишнюю» землю и передавали колхозам. «Раскулачивание» разоряло крестьянство, которое создавало свое хозяйство собственными руками. Стало сложно хранить очаг, выполнять нормы национальной этики, в частности этикета приема гостей. Даже при этих труднейших условиях Бадра всячески пытается следовать заветам отца Бежана, но обстоятельства давят на него. Бадру почти объявили «кулаком», «врагом народа». Был бы жив Бежан, уверен, он повел бы себя так же, как его сын, хотя он принял новую власть. Да и Бадра никогда не сомневался в законности этой власти, ибо ее поддержало подавляющее большинство населения. По всей видимости, он, как и отец, считал, что советская власть освободила народ от угнетателей и способствовала восстановлению абхазской государственности, создала условия для экономического и культурного развития возрожденной республики. Но Бадра, тесно связанный с землей и очагом, остро чувствовал несправедливость, неправомерные действия невежественных чиновников (Кацмана, Пахвалы Сарапионовича, Рущи и др.), думавшие больше о личной выгоде и карьере, чем о благе народа, для них ничего святого не осталось; они руководствовались низменными чувствами, забыв нормы Апсуара, а власть и новую идеологию использовали в собственных интересах. Именно подобные «деятели» уничтожали национальные корни, вековые обычаи и традиции народа, жестоко разрывали связь между прошлым, настоящим и будущим. Против таких людей и выступал Бадра, его взгляды разделяли многие односельчане, в том числе и его сын, но Лаган, который еще не достиг совершеннолетия (ему было 14-15 лет; вместе с сестрой Мачич он учился в Сухумском педагогическом техникуме), не все понимал, хотя интуитивно чувствовал, что отец прав; он иногда пытался сглаживать ситуацию, упрощая ее.
Однажды Лаган и Мачич получили известие, что отец заболел. Пришлось зайти в дирекцию техникума и отпроситься. Директор не отказал, но предупредил: «Не опаздывайте, итак плохи ваши дела». Брат и сестра не поняли намека. Они не знали, что у директора лежали две анонимные жалобы, присланные из их села. В них говорилось, что Лаган и Мачич — дети кулака и им не место в советском учебном заведении. Но, забегая вперед скажем, что их спасло то, что Бадра, ради детей, наконец-то решил стать членом колхоза. Ему трудно было сделать этот шаг. Когда Лаган и Мачич приехали домой, мать поведала им обо всем: «В прошлом году ему (Бадре) предложили вступить в комхоз (так произносит это непонятное слово Чаримхан. — В. Б.), он тогда отказался, сказав, что ему надо подумать... А в этом году его предупредили: “... Целый год ты думал, но никакого решения не принял, теперь тебе даются только сутки...» (4; 358). Особо упорствовал Кацман, представитель райкома партии, курирующий село. Пришлось обратиться к брату Чаримхан Танасу (был заместителем председателя, а затем председателем сельсовета). Состоялся острый диалог между родственниками — Бадрой и Танасом, в котором Бадра пытался обосновать свои взглџды. Танас понимал зятя и нелепость ситуации, но знал, что упорство Бадры может обернуться трагедией для семьи. И убеждал Бадру, что, если он не
211
вступит в колхоз, то пострадают его дети, исключат их из техникума, могут и всю семью выслать, репрессировать. При этом, по свидетельству Чаримхан, Танаса мучила совесть, ибо он не мог оказать иной помощи; бессмысленно было идти против течения. А Бадра настаивал на своем и говорил горькую правду: «Если не тебя, кого же мне еще слушать, Танас, но я хочу, чтобы меня поняли: большинство из тех, которые объединились в колхоз, бездельники, тунеядцы... Не обижайтесь, но, руководя селом, вы не знаете, в каком направлении оно движется; без разбору в одну кучу собираете крестьян. Не сердись на меня, Танас, но вы, наши руководители пришли и вбили клин между крестьянином и землей» (4; 358-359).
Чаримхан также рассказала, что их «раскулачили»: отняли весь скот, кроме двух коров, отрезали большую часть земли, в том числе фруктовый сад, виноградник, пашню и т. д. Словом все, что было создано честным трудом нескольких поколений, уничтожено за один день. Чаримхан, обращаясь к детям, говорит: «Ваш отец и я боимся появления гостя в нашем доме. Ибо мы не можем его достойно встретить, не можем даже поставить стакан вина; это же позор... Вы учитесь,., вам нужна помощь ...даже деньги на дорогу вам не можем дать...» (4; 360).
Лаган и Мачич пожалели родителей, но ничего не смогли изменить. Внутреннее состояние Бадры и Чаримхан отразилось и на их внешнем облике. Лаган вспоминает об отце: «Когда отец вошел, мы заметили, что он за это время изменился до неузнаваемости. Он отпустил бороду, которая слегка уже отдавалась сединой... Возможно, поэтому его лицо казалось продолговатым... Взгляд был мрачным...» (4; 361).
В воспоминаниях Лагана приводится интересный эпизод, связанный с парой быков. Бадра вынужден был сдать быков в колхоз, но они не вынесли «колхозной каторги» и сбежали домой. О них рассказывает сам Бадра Лагану и Мачич: «... Вечером я решил принести немного хвороста... и вышел из калитки; за забором стояли мои быки и ... смотрели в сторону двора. Некоторые потеряли чувство привязанности, даже скотина помнит свой дом... Я пожалел быков, сперва думал загнать во двор, но потом, чтобы не провоцировать кривотолки, ...решил все-таки погнать в сторону общего (колхозного) хлева. Несчастные быки не хотели возвращаться туда... будто их вели в бойню... Общий хлев сторожил известный тунеядец и бездельник Хфар... Когда он увидел меня с быками, сказал обвинительным тоном: “... где же они были, с полудня я их ищу, может быть, ты их использовал в перевозке дров; ты до сих пор не понял, что эти быки тебе больше не принадлежат!” Думал кинуться на него с топором и наказать, но решил — не стоит мне опускаться до этого негодяя... Но, заглянув в хлев, обнаружил грязь, видимо, дождевая вода попадала внутрь... А в кормушках было пусто, скот нервничал... По правде говоря, увиденное поразило меня, будто ножом проткнули сердце. Когда быки находились дома, каждый вечер я давал им кукурузу, потом они до утра могли есть чала (кукурузную солому), ею была полна кормушка... А теперь что: они стоят в грязи и голодные! “Если хлев не
212
будете убирать и корма не будет, то весь скот погибнет!..” — не выдержал я и жестко предупредил Хфара. А тот спокойно ответил: “Раз пригнали сюда скот, вы и будете обеспечивать его кормом всю зиму!” “Значит, у тебя, Хфар, нет проблем, ибо ты никогда не имел скота и не заготовлял чала!” — сказал я. “Вот, вы, некоторые привыкли делить все на свое и чужое... Бадра, ты интересуешься только о своей собственности, а об общем не думаешь!” — начал поучать меня Хфар. А он, видимо, где-то успел выпить, еле на ногах стоит... Как случилось так, что этому негодяю и тунеядцу Хфару... поручили весь скот сельчан?.. Вы образованные люди, умеете читать и писать, скажите мне, почему совершается такая несправедливость?» — спросил Бадра Лагана и Мачич, будто они в чем-то виноваты (4; 361-363).
В повести Б. Шинкуба «Чанта приехал» встречаются аналогичные ситуации и образы, но там события иногда описываются с определенной долей юмора. Рассказ ведет главный герой Чанта Чрыгба. Старик не только вспоминает предшествующую жизнь, но и духовно переживает, осмысливает ее. Любопытны размышления персонажа, сидящего в полуразрушенной дедовской пацхе, они отражают некоторые сложные и противоречивые явления жизни советской деревни 30-х годов. Так, Чанта, радуясь определенным успехам земляков-лашкытцев в сельском хозяйстве, с огорчением отмечает, что в селении скота стало меньше. «В чем же дело?» — этот вопрос беспокоит его. «Говорят, что места не осталось для пастбищ и кормовой базы нет — всюду чайные, табачные плантации и сады» (146). Чанта чувствует, что не в пастбищах дело, а «есть более глубокие причины», отрицательные последствия которых стали более ощутимыми в последующих десятилетиях. Как свидетельствует старик, в годы его молодости жили прекрасные пастухи — трое братьев Мдаровцев. В Лашкыте одни они имели до «тысячи голов коз и овец», сами пасли их, никого не нанимая. Они не были грамотными, но в своем деле «держались на тысячелетнем опыте». Чанта вспомнил судьбу старшего из братьев — Шагуа и разговор, который состоялся тогда на заседании сельсовета (протокол заседания вел Чанта). Диалог небольшой, но он необычайно ярко подчеркивает психологию и характер двух резко отличающихся друг от друга персонажей — пастуха Шагуа и лодыря Хизана, «нацепившего на себя командирскую портупею».
«Шагу объявили:
— Мы лишаем тебя голоса.
Он не понимает, что это значит — лишить голоса.
— Как вы можете это сделать? Даже осел мой и тот имеет голос, — говорит он...
— Ровно через неделю пригонишь своих коз сюда во двор... Шагу сердится, кричит:
— Я буду жаловаться!..
— Тебя к свету тянут, а ты, дурак, упираешься, одичал в лесу. Выйдешь из леса — и от тебя по крайней мере не будет нести козлом, — (громко говорит задиристый Хизан. — В. Б.)» (117).
213
Хизан далек от понимания искренней преданности Шагуа своему делу, он сам непутевый человек, тунеядец, как говорил Шагу, «учит людей жить по-новому, а сам только и умеет трепать языком».
Шагу не выступает за или против какой-либо власти, он, не противясь, передает народу свой скот, но при этом говорит, обратившись к односельчанам: «Уважаемые односельчане, не чужими руками вырастил я свой скот, но если есть такая нужда, то я не пожалею его... Берите на здоровье! Одно прошу только — не поручайте мой скот таким людям, как Хизан, иначе он весь передохнет» (148). В итоге все это закончилось трагедией: Шагу бросил свое любимое дело, но сильно тосковал по нему, по горам и умер, заболев малярией.
Сейчас Чанта Чрыгба понимает допущенные тогда недостатки. В своем монологе он отмечает: «Сплоховали мы тогда все, и я тоже, не разобрались в человеке, лишили его голоса, причислили к чужакам да еще насмехались над ним, а такого пастуха, как он, где найдешь сейчас?» (149)
Образ Шагуа можно рассматривать в одном ряду не только с образом Бадры, но и с образами многих героев «Рассеченного камня», например, Бежана, пастуха Джомлата Садзба и его сыновей (о них еще скажем ниже) и других. Хизан же напоминает таких персонажей романа, как Хфар, Халти, Руща и т. д.; они — бездельники и лодыри, не приспособленные к труду, любят много говорить и выдавать себя за истинных поборников новой жизни; за их спиной нет ни крепкого хозяйства, ни коров, ни овец, ни коз; им нечего терять. Именно подобные люди часто занимали чиновничьи посты; и по их вине репрессировано или погибло большое количество настоящих крестьян.
Бадра не унимался и обвинял представителей сельсовета: «Я никак не пойму руководство села, которое доверило Хфару народное добро, будто не знает, кто он такой!» (4; 363). Далее Бадра еще более открыт, он ясно выражает свое отношение к происходящим событиям. Он не приемлет насильственного включения крестьян в колхоз, считает, что этот процесс должен проходить на добровольной основе. Более того, по его мнению, необходимо дифференцированно подходить к крестьянству, ибо одни крестьяне трудятся добросовестно от зари до зари, в работу они вкладывают всю свою душу, другие, наоборот, избегают физической нагрузки, любят прохлаждаться в тени, никогда не держали плуг, не сеяли и не собирали урожай. Зато они живут припеваючи за счет чужого труда. «И разве можно и тех, и других объединять в один колхоз?» — этот вопрос постоянно волнует Бадру.
Лаган переживал за отца; он решил смягчить ситуацию и успокоить Бадру: «В таком случае каждый получит то, что заработал. И зачем столько нервничать по этому поводу?» (4; 363).
Лаган слишком молод и не совсем понимает общественно-политические процессы, происходящие в стране, хотя уже кое-что мог бы и знать. В данном случае упрек отца сыну был уместен. «Ей, дад, ...ты разговариваешь так, будто не рос в крестьянской семье! Ты легко рассуждаешь о крестьянском труде! Могут настать
214
такие времена, когда крестьянину-трудяге надоест работать... как и другие, найдет какое-нибудь более легкое и выгодное занятие,., или покинет село!.. Так, знай, с того дня, как крестьянин перестанет работать на земле, земля тоже начнет охладевать! А такая земля не удержит молодежь, которая в итоге оставит деревню... Заброшенные дома, запустение, — вот что ждет наши села... Ей геди,.. кажется за нас, крестьян взялся рыжий человек с дурным глазом; он был врагом и героя Абрскила, а сейчас меня не оставляет в покое» (4; 363-364).
В речи Бадры «рыжий человек с дурным глазом» олицетворяет зло, по словам персонажа, он ненавидит человечество, кровожадный, любит только себя. Этот образ фольклорного происхождения. Согласно преданию об Абрскиле, герой уничтожал рыжих людей с дурным глазом, ибо они наносили большой вред народу, мешали ему нормально жить.
Лагану и Мачич не понравился разговор отца, они заключили, что он болен. Лаган вспоминает былые времена при жизни деда; в семье царила иная атмосфера. Часто приходили гости, соседи, вечерами коротали время у очага, рассказывая сказки, предания и разные истории, пели песни. А теперь, как казалось Лагану, со смертью Бежана безвозвратно исчезли многие прелести очага предков. Лаган, как и Мачич, еще не понимает, что Бадра не болеет (физически), а переживает за судьбу крестьянина, очага, хотя он интуитивно чувствует, что отец далеко заглядывает в будущее и «видит что-то ужасное впереди». Лаган размышляет: «Но кого отец имеет в виду, когда говорит о рыжем человеке с дурным глазом? Время изменилось, а правдивому, честному человеку, как мой отец, ...трудно перестроиться и смириться с новым способом хозяйствования... Может быть, образ рыжего человека с дурным глазом олицетворяет все те несправедливости, вызванные [новой] жизнью. Жалко, очень жалко отца, его нельзя одного оставлять именно сейчас!.. Я могу бросить техникум, возвратиться в село и помогать отцу по хозяйству... Но и это может приумножить его переживания, стать еще одним ударом для него...» (4; 366). Важно, что сын жалеет отца; жалость здесь выступает как нравственная категория, мера оценки ситуации. Следовательно, не напрасны были старания деда Бежана. Чувство жалости еще сильнее проявилось на следующий день, когда рано утром «обобществленные» быки опять сбежали с колхозного хлева и пришли домой. Радости Бадры не было предела, он ласкал их, разговаривал с ними. Свидетель события Лаган не выдержал и прослезился, он давцо не видел быков Чапща и Худапща и, последовав примеру отца, тоже начал гладить их по шее. Интересно то, что один из них злобно посмотрел на Лагана, не признав его. Видимо, быку показалось, что Лаган тоже из тех «новых», которые загнали его в чужой грязный хлев, где плохо кормили. «Видишь, тебя быки приняли за чужого! Боже мой, и скот стал заглядывать в душу человека! — воскликнул Бадра» (4; 367).
История с быками напоминает аналогичный эпизод из романа грузинского писателя Г. Робакидзе «Убиенная душа». В нем читаем: «Крестьянин не мог приспособиться к колхозу, да и не только крестьянин — даже скот. Бык взламы-
215
вал своими мощными рогами дверь коровника, покидая коллективные ясли, и рвался на свой привычный двор. Комсомольцы преследовали его, охаживали плетьми. Вернувшихся домой животных дети встречали ласково, с сияющими от радости глазами. Глаза быка наполнялись слезами» (150).
В конце диалога с сыном Бадра сказал: «Одно прошу у Бога: оградить моего единственного сына, наследника (сыҵәҩан-шьап) от рыжего человека с дурным глазом!..» (4; 368). Невольно вспоминаются строки из «Баллады о свободе» (1984) Ф. Искандера, адресованные сыну:
Сын мой, время уходит мое, твое еще не пришло.
Нет основания полагать, что ты не застанешь зло.
Но я не хочу, чтобы ты продолжал столетнюю эту войну,
Где бочки клевет катит клеврет и жизнь всегда на кону...
...Из самого пламени я кричу, но не сочтите за бред,
За выслугу лет Бога прошу сыну белый билет!..
...Господи, для сына прошу: это тебе по плечу!
Честным, но непричастным войне сына видеть хочу!
Но если честность сама по себе уже невозможна там, —
Сын мой, я на другом берегу.
Мужчина решает сам (151).
В последующих главах второй книги романа «Рассеченный камень» писатель не упускает из вида образ Бадры. «Двойник» автора — Лаган в своих воспоминаниях постоянно возвращается к нему, ибо с ним связано многое, через него показываются характерные черты эпохи коллективизации сельского хозяйства. Лаган продолжает насыщать свое повествование диалогами с отцом, которые способствуют раскрытию тайн внутреннего мира героя. Читатель все больше и больше убеждается в искренности Бадры, в правдивости его речи. Порою Бадра высказывает пророческие слова; его мысли философичны и историчны. А Лаган еще не может критически анализировать события, делать соответствующие выводы. Но скоро, когда сам почувствует давление идеологизированной, репрессивной системы, он вспомнит об отце и других духовно близких ему людях. Словом, в образе Лагана мы видим динамичный образ формирующейся личности, которая пытается сохранить преемственную связь поколений в сложных исторических условиях. Но пока Лаган по-своему оспаривает доводы отца, которые в сущности отражают действительность. Однажды Бадра сказал: «С недавних пор я стал замечать, что в нашем селе начали происходить какие-то
216
странные события: что-то растет число людей, которым выражено недоверие; одних обыскивают, обвинив в сокрытии оружия; других вызывают в город и говорят, что они укрывали абреков, а третьих подозревают в антиколхозной пропаганде!..
— Ну и что плохого в этом, если село ограждают от зла, вы же с радостью должны воспринимать это? — [сказал Лаган, прервав отца].
— Как можно подозревать крестьянина, который, не покладая рук, трудится на земле, это ни к чему хорошему не приведет, дад Лаган!.. [продолжил Бадра]» (4; 383). И далее он повел разговор о Руще — одном из инициаторов гонения на крестьян села и призвал сына не связываться с ним. Отец и сын по-разному воспринимают личность Рущи. Если Бадра негативно относится к Руще, считая его негодяем, то Лаган называет его своим другом, с которым он рос и учился в школе. По характеру Руща близок к таким персонажам, как Хфар, Халти и другим, у которых нет ни чести, ни совести. Видимо, сиротское детство оставило темный след в его психологии; его воспитала мачеха. Если были бы живы родители, то, возможно, Руща стал бы незаурядной личностью, ибо он обладал такими качествами (был стройным, красивым, целеустремленным и напористым парнем, прекрасным наездником и танцором и т. д.), которые выделяли его среди сверстников. Но у него был невыносимый характер: нормы Апсуара для него не существовали, он ставил себя выше других, любил командовать над другими, ходить в лидерах, короче говоря, он болел «неизлечимой болезнью» — манией величия. Эта «болезнь» помогла ему «выбиться в люди»: уехав в город Очамчиру, стал милиционером; женившись по расчету на племяннице начальника районного отдела внутренних дел Сарапиона Пахваловича, повысил свой статус: избран председателем сельской комсомольской организации; назначен председателем колхоза в родном селе, хотя он ничего не смыслил в сельском хозяйстве, никогда не держал плуг, не выращивал кукурузу и т. д. Заняв чиновничьи посты, он устроил гонения на крестьян, по его вине была уничтожена прекрасная семья пастуха Джомлата, многие сельчане пострадали от него. Для репрессивной машины, идеологической системы нужны были именно такие «самоотверженные» исполнители политического заказа, которые ради своей карьеры могли пойти на все: заключать в тюрьмы или уничтожать ни в чем неповинных людей. Однако «болезнь» Рущи привела его к трагическому концу. Та же репрессивная машина, карательным винтиком которой он являлся, прошлась по нему: Рущу сняли с поста председателя колхоза, тем самым унизив его, задев его самолюбие. В итоге он сошел с ума и повесился, ибо он не хотел оказаться в руках «вооруженных людей в форме», к которым сам же не раз посылал «неблагонадежных» крестьян.
Бадра — внутренне свободная личность, он — не идеологизированный человек, в своих действиях руководствуется вековыми традициями народа, нормами Апсуара. Поэтому объективную реальность герой воспринимает через призму Апсуара, как она есть, и дает ей, как уже показывали, адекватную правди-
217
вую оценку, хотя часто эмоциональную. В нравственном отношении он стоит намного выше, чем, например, Кацман, Сарапион Пахвалович, Руща, Зафас, Хфар, Халти и т. д. Он не одинок, его взгляды так или иначе разделяют многие крестьяне, в том числе Миха, Саид, Джомлат, Сит, Андрей Лазба и другие. Острое чувство несправедливости — одна из важнейших черт характера Бадры. Он переживал не столько за себя, сколько за других крестьян, честно и усердно работающих на земле, ибо благодаря таким труженикам народ всегда выживал, развивался. Бадра пытается защищать их на разных уровнях: на собраниях, в диалогах с другими персонажами. Но он не в силах что-либо изменить, потому что процесс коллективизации сельского хозяйства и «раскулачивания» проходил под руководством новой власти, против которой Бадра и не выступал. Однако герой, сам не подозревая, фактически противопоставил себя государственной машине, которая не прощала критику в свой адрес, не простила и Бадре, временами вспоминавшем «рыжего человека с дурным глазом», постоянно преследующем его.
В повествовании Лагана значительное место занимает история семьи прекрасного пастуха Джомлата Садзба и его трех сыновей, она непосредственно связана и с Бадрой, ибо судьба семьи Джомлата — это и судьба самого Бадры, который искренно, болезненно воспринимает трагедию замечательных пастухов. Заметим, что Лаган, вспоминая этот трагический эпизод, сам не рассказывает о событиях, свидетелем которых не всегда он был, а предоставляет слово своему отцу и брату Джомлата Ситу — именно перед их глазами разворачивались действия. Тем самым, как уже не раз говорилось, автор усиливает историчность событий, описанных в романе.
История семьи Джомлата — это одна из ярких страниц романа «Рассеченный камень», которая раскрывает особенности исторических процессов, происходивших в абхазской деревне в 30-е годы, характерные черты многих персонажей (Бадры, Сита, Джомлата и его сыновей, Рущи, Сарапиона Пахваловича, Кацмана и др.), затрагивает проблему внутреннего раскола в обществе, причиной которого, как выражается Бадра, является тот «рыжий человек с дурным глазом».
Завязка рассказа о семье Джомлата началась с предложения ему сдать весь свой скот (сотни и тысячи голов), взращенный двумя поколениями, колхозу. Стадо находится на горном пастбище, с ним трое сыновей Джомлата, которые продолжают пастушеские традиции предков.
Джомлата, как и некоторых сельчан-«кулаков», вызвали на общее собрание крестьян деревни, на котором развернулась острая дискуссия. В центре внимания — вопрос «раскулачивания» пастуха. Собрание показало, что большинство населения (кроме, конечно, таких людей, как Кацман, Руща, Сарапион и т. д.) не было готово к «самораскулачиванию» и утверждению беспредела на селе. Речи героев раскрывают внутренний мир, взгляды персонажей. Вот отрывки некоторых выступлений персонажей:
218
Секретарь [Очамчирского] райкома партии Кацман Ахалиевич: «Короче говоря, так сказать, в этой деревне кулаки лучше поработали, чем руководители села, коммунисты и комсомольцы!.. Мы не смогли добиться того, чтобы число крестьян, вступивших в колхоз, преодолело 30-процентный барьер... Мы пригласили на собрание семерых крестьян, но кроме Джомлата Садзба никто не пришел. Он не скрылся, сидит здесь; ...мы с тобой уже третий раз встречаемся, ...и не можем каждый раз упрашивать тебя как ребенка. Так знай ...если ты не подчинишься решению... собрания, то сегодняшний день будет последним в твоей жизни... У тебя более тысячи коз и овец, почему? Партия и народ еще раз идут тебе навстречу; сдай свой скот колхозу, сегодня тебя лишат голоса и ты никому не сможешь пожаловаться!.. Возможно, ты со своей семьей будешь выслан!» (4; 399-400).
Племянница Джомлата Мактина (обращаясь к собравшимся):«... Неужели среди вас нет мужчины?!.. Одному из вас угрожает опасность, а вы словно в рот воды набрали... Слыхано ли было, чтобы человека убивали за нажитое собственными руками добро?!..» (4; 400).
Почтенная женщина среди сельчан Марта: «... Разве вы не видите, что, деля вас на бедняков, середняков и кулаков, стравливают друг на друга?!..» (4; 401).
Джомлат Садзба: «С тех пор как знаю себя, я являюсь пастухом, ...постоянно в горах со скотом... Я вижу здесь моих ровесников, старых друзей, например, Бадру, Смела, Алхаса, ...Миху... Вы видите, в каком положении я оказался, хочу спросить: что я плохого сделал, если никого не убил, никого не ограбил... За что же я должен пострадать?! Хорошо, пусть я погибну, ...но почему моя семья может быть выселена?.. [Обращаясь к Руще, обвинившем его в антиколхозной деятельности:] Аа, это ты, Руща, сын Елкана, прервал меня?.. Одно только слово скажу тебе, дад: ты еще сам своим трудом не заработал тарелку мамалыги и не принимал гостя, никогда не пас коз и овец... Откуда тебе знать труд пастуха? Если ты был бы таким хорошим, то не довел бы очаг твоего отца до разорения, плачевного состояния... Но придет время, когда все узнают, что ты за человек!..» (4; 402-403).
Бадра: «... Джомлат и я ровесники и друзья... Он еще был мал, когда его родители умерли. После того как единственная сестра вышла замуж, Джомлат один остался дома. Родители не успели нажить состояние... Нанялся пастухом у какого-то Едгияца из Ахуцы, который имел большое количество коз и овец. Пять лет работал Джомлат, в итоге, домой он пригнал шестьдесят коз с козлятами, ... поголовье которых со временем увеличилось в несколько раз. Каждое лето он гнал скот в горные пастбища, а с наступлением холодов, спускался в ущелье... Уважаемые односельчане, не всякий человек может стать пастухом... Дело, за которое когда-то взялся Джомлат, дало хорошие результаты; он нашел источник успеха, узнал многие секреты природы: в горах он получил благословение божества Ажвейпша-Жвейпшыркана, а на приморье, равнине — Айтара. У Джомлата
219
трое сыновей, он им передал свой богатый опыт, теперь они прекрасные пастухи... Так за что же должен пострадать Джомлат?..» (4; 404-405).
Халти (сразу после выступления Бадры): «Вот перед вами кулацкое отродье [Бадра]! Видите, как они [Джомлат и Бадра] друг друга защищают!» (4; 405).
Студент четвертого курса Московской сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева Андрей Лазба: «Как и вы все, я тоже знаю Джомлата... Кому-то захотелось причислить его к кулакам, но он не кулак, а величайший труженик; за что же лишать его голоса?.. Допустим, Джомлат, согласившись с вами, передал свое многочисленное стадо овец и коз колхозу, спрашиваю вас: вы в своей среде сможете ли найти таких одаренных скотоводов? Ваш колхоз еще не сформировался, вероятно, не справитесь с таким большим стадом, оно погибнет. Почему вы не думаете об этом?.. Разве будет легко крестьянина, тысячелетиями связанного с определенным типом и способом хозяйствования, перевести на новый, еще не испытанный вид хозяйствования?.. Товарищ Кацман, тебе должно быть известно, что многие колхозы, искусственно (насильственно) созданные, распались? Не обижайся, но мне кажется, что тебя больше беспокоят проценты, хотя разве мало, если число крестьян, вступивших в колхоз, составляет 30 процентов... В нашем селе нет кулака — классового врага трудящихся. Ты, Кацман, со своими сторонниками решил середняка сделать кулаком...» (4; 409-410).
В итоге собрание не проголосовало за лишение Джомлата голоса. Надежды Кацмана не оправдались, он обвинил всех в саботаже. Слушая резкие речи ораторов, Кацман думал не о судьбе крестьян, а о своей собственной карьере. Он понимал, что в райкоме партии ему не простят провал собрания; и вряд ли его, третьего секретаря райкома, повысят в должности. В данном случае автор использует внутренний монолог персонажа, как средство раскрытия характера. Кацман думает: «... Могут вызвать в бюро райкома за невыполнение партийного задания. По правде говоря, не хотелось бы, чтобы в наше сложное время на меня положили глаз! Бывшая моя жена, черт бы ее побрал, камня на камне не оставляет, без конца подает жалобы на меня. А нынешняя — княжеского происхождения, как назло, ее дядя (брат отца), чтоб он провалился, эмигрант и живет в Париже... Трудно сказать, что будет, если узнают обо всем этом!.. Не надо было мне соглашаться, когда поручали курировать это село... Как говорит Сарапион Пахвалович, “это село — гнездо кулаков!” Чего же я жду, лучше позвонить начальнику [отдела внутренних дел], и через полчаса он здесь будет. Придется использовать насильственный метод, в таком случае без органов не обойтись. Джомлат, ты сейчас чувствуешь себя победителем, но если ты попадешь в руки Сарапиона, он в два счета скрутит тебя!.. Хорошо, что я сблизился с Сарапионом, он имеет доступ к Берии, от которого получает поддержку. Поэтому все члены бюро [райкома партии], в том числе и первый секретарь, боятся его...» (4; 407-408).
Антитетичность образов героев очевидна. Открытое противопоставление персонажей, усиление конфликта — характерная черта второй книги романа «Рас-
220
сеченный камень». Только речь здесь идет не о четком и жестком разделении героев с идеологических, классовых позиций, когда в одном ряду — «идеально положительные» персонажи (бедняки, комсомольцы, коммунисты и т. д), борющиеся за утверждение «новой» социалистической жизни, создание колхозов, в другом — «отрицательные» (кулаки, князья, дворяне, попы и др.), которые всячески препятствуют претворению в жизнь новых порядков, коллективизации сельского хозяйства. Такой способ раскрытия характеров был присущ почти всем эпическим произведениям о коллективизации сельского хозяйства, потаившимся в абхазской литературе, да и в других литературах народов бывшего СССР в первой половине XX в. (например, повести В. Агрба «Рождение колхоза “Вперед”» и С. Чанба «Сейдык», роман И. Папаскира «Женская честь» и т. д.). В «Рассеченном камне» структура образов персонажей более сложная, шбо была сложна и противоречива сама жизнь 30-х годов. Об этом свидетельствуют и символические образы Рассеченного камня, «рыжего человека с дурным глазом», очага и т. д.
Кстати, на этом общем собрании крестьян присутствовал Лаган, который еше не был готов выступить в поддержку той или иной стороны, хотя было очевидно, что он всей душой симпатизирует взглядам Бадры, Андрея Лазба, Джомлата, Мактины, Марты и других. Именно после этого собрания, когда на селе появился Сарапион на черной, как ворон, машине (ему, видимо, позвонил Кацман) для ареста Джомлата, произошел резкий перелом в сознании Лагана, он почувствовал какое-то просветление разума и увидел, по словам самого же повествователя, «врага Абрскила, ненавистного рыжего человека с дурным глазом, о котором временами вспоминал отец». «Куда бы я ни оглянулся, — говорит Латан, — я чувствовал его пронизывающий взгляд, слышал какое-то шушуканье; напрасно я прочищал глаза рукой, он никак не исчезал, продолжал смотреть на хеня проницательным взглядом этот рыжий человек с дурным глазом» (4; 414). Теперь он больше понимает своего отца Бадру, от которого потом узнает о трагической гибели семьи Джомлата.
Арест Джомлата Бадра воспринял как собственное горе. В тюрьме над стариком-пастухом издевались, били, пытали. Такого позора он никогда не переносил. Полуживого, в разорванной одежде его выпустили оттуда. Выпуская из тюремного ада, сарапионовцы, предупредили: «Выбирай: или сдаешь весь свой скот, кроме двух коров, и вступишь в колхоз, или со всей семьей будешь сослан в Сибирь».
Джомлат еле дошел до дома, попросил невесток к раннему утру приготовить еду на дорогу. Еще было темно, когда Джомлат и его старший брат Сит оседлали коней и отправились в сторону гор. Они шли на пастбище, где пасли стадо сыновья Джомлата. Заметим, что о последних днях жизни Джомлата рассказывает Сит — свидетель трагических событий. Как не раз убеждались, такие рассказы очевидцев неоднократно встречаются в романе «Рассеченный камень», они не выпадают из композиционной структуры произведения, а наоборот, обо-
221
гащают ее. К тому же, рассказы-вставки способствуют более широкому, углубленному раскрытию особенностей исторического процесса 20—30-х гг., характеров героев эпохи. Смерть Джомлата встревожила не только Бадру, но и Лагана, односельчан. Самоубийство Джомлата — это своеобразный протест против жестоких новых порядков, которые вводились в жизнь с помощью силы. Рассказ Сита сложен, в нем важное место занимает речь Джомлата, ею постоянно прерывается повествование самого Сита. За короткое время Джомлат осмыслил многое. Он не ожидал, что советская власть, на которую он возлагал большие надежды, унизит, оскорбит его — честного труженика, навесит на него ярлык «врага народа»; он разочаровался в ней, ибо власть изменила народу. Однако что-то странное происходило с властью; однажды ситуацию так объяснил дядя Лагана Танас — председатель сельсовета в диалоге с Бадрой: «До последнего времени мы знали, что органы (милиция. — В. Б.) работают под руководством партии, а сейчас они поменялись местами: руководство перешло к органам. С нами, советскими работниками, совершенно не считаются, будто мы лишены голоса, или нас вообще нет. Говоря откровенно, Бадра, трудно стало честно служить народу...» (4; 468).
В тюрьме Джомлата били как собаку, били за то, что был одаренным скотоводом. Он, воспитанный в духе Апсуара, не мог перенести такого позора. Даже в старину князья не могли отхлестать плеткой крестьянина, ибо он мог отомстить. После освобождения из тюрьмы, Джомлат не мог оставаться дома, его тянуло в горы, к чистым родникам и рекам, где он чувствовал себя свободно и легко. Горы для него священны, а низйна, как ему уже казалось, кишит змеями.
Когда Джомлат рассказал сыновьям обо всем случившемся, чувство мести охватило их, но они сдержались. Ради спасения отца сыновья согласились передать колхозу почти все стадо (1500 голов) и через два дня погнали в село коз и овец. В сельсовете председатель правления колхоза Руща (он еще был жив) обошелся с ними не по-человечески; братья, воспитанные «по-спартански», могли уничтожить негодяя Рущу, но они опять сдержались. Сыновья Джомлата не подвели отца, они вели себя достойно, мужественно и этично. Самое ужасное произошло после: милиция попыталась арестовать сыновей Джомлата, но не смогла: братья ушли в абреки. А за Джомлатом в горы Сарапион послал милиционеров, чтобы они арестовали «врага народа». Когда они появились, Джомлат понял, что и с сыновьями не все в порядке, но он, не сопротивляясь, пошел с ними; однако старый пастух просчитал свои последующие шаги. По дороге он оторвался от милиционеров и быстро начал подниматься вверх, а те начали стрелять в него, но Джомлат успел добраться до вершины скалы; лоскутные тучи то закрывали, то открывали его. Рядом — обрыв, а внизу — глубокое озеро. Сит, следовавший за милиционерами, почувствовал, что брат задумал что-то ужасное, однако невозможно было что-либо изменить. И вдруг Джомлат громко и четко заговорил. Его голос эхом разносился по горам. Ошеломленные милиционеры перестали стрелять и в оцепенении смотрели вверх. Пастухи из ближайших
222
пастбищ, услышав выстрелы, начали стекаться к месту событий. Писатель придает важное значение речи Джомлата, которая свидетельствует о том, что старец мудр и прекрасно владеет ораторским искусством, аналитическим умом. Через эту речь, объемом в несколько страниц, автор выдвигает определенную концепцию исторических событий 30-х гг., которую он считает правильной. Короче говоря, писатель говорит устами своего героя Джомлата, а его «двойник» — юный Лаган — всего лишь слушатель рассказа Сита, но он, как и его отец Бадра, с болью воспринял смерть пастуха. Кроме того, гибель Джомлата оказала сильное воздействие на мировоззрение будущего поэта (Лагана).
Речь Джомлата образна, метафорична, эмоциональна и философична. В поэтическом отношении она представляет большой интерес. Речь состоит из нескольких частей: одна часть адресована милиционерам, другая — Ситу, третья обращена к горам. В комплексе все они посвящены сложившейся критической политической, экономической и духовной ситуации в стране, в частности в деревне.
Обращаясь к милиционерам, преследующим его как «врага народа», Джомлат говорит: «...Вы, преследующие меня, ...зачем стреляете? Может быть, по поводу какой-то радостной вести?.. Или из-за того, что я ушел из низины, поросшей бурьяном, и поднялся вверх, поближе к небу?.. Вы жалкие люди! Приходило ли вам в голову осмыслить свою жизнь? “Арестуйте его, арестуйте того!” — с таким приказом отправляет вас на задание ваш начальник-кровопийца. Вы, как волки, неожиданно набрасываетесь на невинного человека. Арестовываете его и бросаете в тюрьму. Вы не хотите знать, в чем его обвиняют, вы даже не обращаете внимания на плачущих его детей... Заключив его в тюрьму, вы спешите в ресторан, чтобы набить свои желудки и напиться... Знаете ли вы, что вы похожи на деревянный вертел (ажьцэы), с помощью которого вытаскивают из котла вареное мясо... Вашими руками вытаскивают мясо, и вашу долю мяса ест тот, кто отдает вам приказы, а вертел выбрасывают куда-то в угол, и лежит он там до тех пор, пока снова не понадобится...» (4; 495).
Для Джомлата верх (вершина горы, скалы) — символ божественной истины, чистоты и справедливости. Достижение высоты — это сближение с небом, где обитает Бог. Милиционеры не смогли догнать Джомлата, ибо эта высота им недоступна, они связаны только с низиной, где творится зло. А горы не любят, когда грубо нарушают их законы, стихию. Пальба из пистолетов в невинного человека, тем более всегда учитывающего эти законы, — тоже нарушение традиционных правил общения с природой, норм поведения в горах. Раньше абхазы (охотники, пастухи и т. д.), как и многие горцы Кавказа, прилежно соблюдали этикет горной жизни (речь идет не о более широком понятии «горская этика»), неотъемлемой части Апсуара, дабы не гневить традиционных языческих божеств Ажвейпш-Жвейпшыркана, Аирга и других. Милиционеры не могут оторваться от низины, которая заросла бурьяном, а где бурьян начал господствовать, там все запущено, не хватает рук настоящего крестьянина-трудяги. На низине начали
223
преследовать именно таких крестьян, жизнь превратилась в ад; там стали властвовать ложь, лицемерие и «деревянный вертел», подонки и кровопийцы, которым стали мешать тысячелетние традиции и обычаи народа, Апсуара. От такой деградирующей низины и ушел Джомлат. Он стоит на вершине скалы (она тоже ассоциируется с камнем), символизирующей вечность, чистоту и мощь духовного начала.
Далее Джомлат, смотря сверху вниз, дает характеристику событиям, которые развернулись на «низине»: «Когда мы, трудящиеся, получили свободу... начали работать... с удвоенной силой,., но наша радость продолжалась недолго... На светлых,., добросовестных людей, которые являются солью земли, положили глаз,., навесили на них ярлык “врага народа”, “кулака”... Каких-то крестьян с семьями выселяют в Сибирь на погибель, ... других сгнаивают в тюрьмах, третьих, видимо, “самых опасных”, увозят куда-то, а потом объявляют, что они, мол, покончили жизнь самоубийством. О, боже, что же случилось такое, чтобы человеческая жизнь потеряла смысл, цену?!» (4; 496).
В другой части речи, обращенной к горам — свидетелям тысячелетней истории абхазов и других горских народов Кавказа, мудрый старик сжато, но емко раскрыл суть философии истории горцев XIX-XX вв., описал судьбу традиционной культуры абхазов, показал их философские взгляды на взаимоотношения человека и природы. «О, вы, мои родные горы!.. Бог сотворил вас так, что вы постоянно стоите на ногах, свысока смотря на землю!.. Вы знаете, что скоро будете окутаны трауром, хотя это скрываете от нас!.. Мы, горцы Кавказа, воспитанные вами... подняли оружие, когда обрушилась на нас жестокая сила; ... десятилетиями горцы проливали кровь, она текла словно река. Потом, когда они поняли, что им не осилить врага, тысячами выселились [в Турцию]. Вы молчите, но вам известно, сколько было утоплено в море махаджиров (депортированных). Когда провозгласили свободу (после Октябрьской революции 1917 г. и создания Абхазской республики в 1921 г. — В. Б.), вы сняли траур, посветлел ваш взгляд, ...и радости нашей — ваших детей, не было предела; мы воспевали новую власть, но все мы оказались обманутыми. По вашему взгляду видно, что вы понимаете сложившуюся нынешнюю ситуацию; вы также знаете, что нас ждет завтра, но не говорите об этом. Своим молчанием вы, видимо, предупреждаете нас: “Вы сами должны понять ситуацию, в которой оказались!”...
О, мои горы... Я не прошу вас объяснить, почему вы обижены на нас; вы сами видите, что мы перестали проводить традиционные моления, посвященные вам... Мы постоянно гневим божество Ажвейпша-Жвейпшыркана (152), скоро забудем и об Аирге (153) ...Если спрашиваешь внуков: какие божества они знают? — они начинают смеяться. “Нет ни Бога, ни святилищ, все это ложь!” — так воспитывают их учителя.
О, родимые горы, наши предки так высоко чтили вас, что создали... специальный охотничий язык154, на котором они говорили только в горах... Мы за короткий период времени забыли этот язык; и когда вы видите охотника, вы уже
224
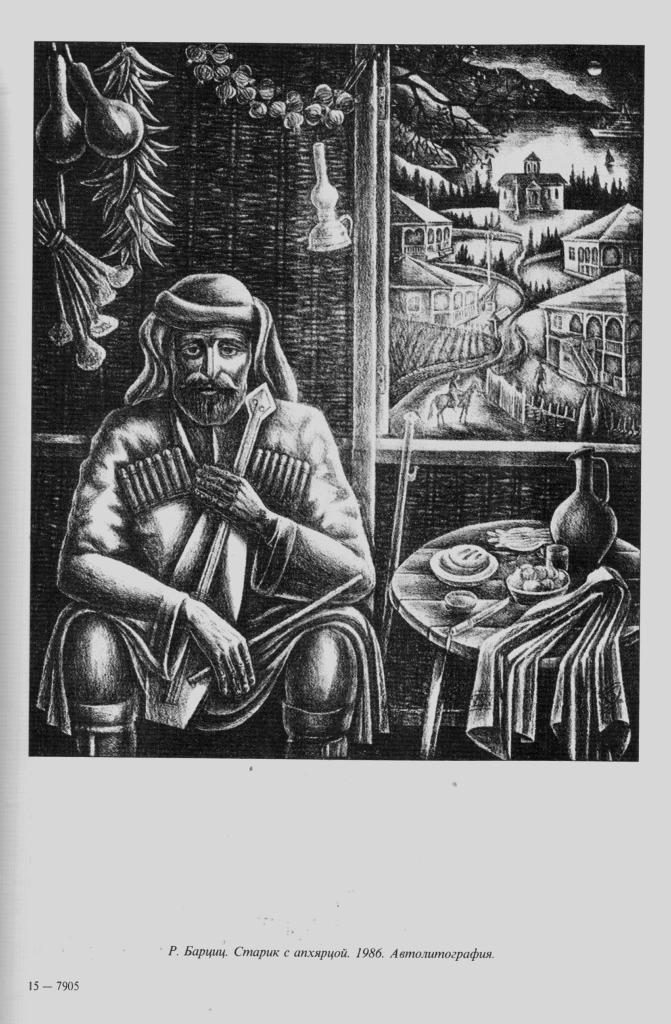
225
не радуетесь ему... Раньше мы бережно относились к горным родникам, ...не загрязняли их... А в ваших быстрых горных реках мы никогда не купались, раздевшись до гола; в таком же виде не появлялись под ясным горным небом, ибо (согласно религиозным соображениям) так вести себя не положено было!
О, вы, святые горы, ...мы приводили к вам только лошадей и мелкий рогатый скот (коз и овец)... А сейчас что творится?.. Много мужчин и женщин ходит к вам, они — безбожники,., везде ведут себя как хозяева, гадят где попало, не знают о святых местах,., раздевшись, купаются в любой горной реке, потом без всякого стыда, совершенно голые, загорают под горным солнцем...» (4; 497-498).
Продолжая свою речь, Джомлат также отмечает, что некоторые даже свиней гонят в горы, разбрасывают мусор (бутылки, брнки и т. д.), распивают вино или водку, хотя это запрещается обычаем. По мнению старого пастуха, забвение традиций и обычаев народа, культуры общения человека с природой может привести к экологической катастрофе, к деградации нации, потере нравственности, в конечном итоге — потере Апсуара. Взгляды Джомлата — это продолжение мировоззрения предков, которое формировалось на полирелигиозной основе. Согласно такому мировосприятию, человек — неотъемлемая часть природы; и человек, как и природа, — божественное творение. Религиозное сознание предполагает гармоническое сосуществование этих двух элементов мироздания. Беспокойство Джомлата вызвано тем, что эта гармония начала разрушаться; между человеком и природой образовалась трещина, которая, благодаря новым порядкам в жизни, постепенно увеличивалась и скоро могла дойти до полного «рассечения». Система (или власть), отрицающая духовную, культурную основу, ведет общество к катастрофе, деградации народа, к гибели самой системы. В такой ситуации разрушается и очаг предков, являющийся основой этноса; начинают господствовать зло, лицемерие, ложь, бессовестность и т. д., вытесняются добро, честность, совесть, правда, ибо они кому-то экономически не выгодны. Но до поры до времени...
Как свидетельствует Джомлат, человек, почувствовав свое превосходство над природой, начал, например, совершать «жестокие, опустошительные набеги» в горы, уничтожая все на своем пути: деревья, горы, зверей и т. д. И пастух задается вопросом: «Кто же может остановить эту разрушительную силу, кровавую власть?» Разрушители и опустошители — в основном «чужие», «пришлые», а «хозяев, которые тысячелетиями грудью защищали эту прекрасную землю (Абхазию. — В. Б.), никто не спрашивает, для них они просто не существуют...» (4; 499). И завершая эту часть речи, обращенную к горам, Джомлат с сожалением говорит: «Я не ослеп и вижу, что вы [горы] обижены на нас — ваших сыновей, ... но, несмотря на то что мы можем проявить мужество,., у нас ограничены возможности!.. Нас мало! И мы не едины!» (4; 499). Джомлат остро чувствует положение народа, который под влиянием политических и идеологических факторов, теряет сплоченность, единство, не может сохранить и Апсуара. Значит, ситуация критическая: раскол общества и конфликт между людьми неизбежны.
226
Может быть, Б. Шинкуба сгущает краски?.. Возможно, но его «двойник» — главный повествователь Лаган — свидетель событий, который, впрочем, не проявляет вандализма по отношению к истории народа 20—30-х гг., эта история полна как трагическими, так и светлыми страницами. Но бывают и такие страницы, о тоторых страшно говорить. Вдвойне ужасно, когда «свои» же (тем более близкие) губят, предают. Не случайно в устах мудрого Сита звучат слова, обращенные к брату Джомлату (они сказаны немного раньше, когда братья после освобождения Джомлата шли в горы): «Вспомни, не чужие люди убили Сасрыкву!» (4; 452). Не случайно в первых главах романа «Рассеченный камень» автор включает песню о герое Нартского эпоса, Сасрыкве, которую исполняет известный на селе сказитель и певец Мамсыр, играя на апхярце. Песня называется «Сасрыква г его тень». В ней поется:
— Знай Сасрыква, — так тень ему грозно вещает, —
Нет ни друга, ни брата тебе в этом мире,
Даже конь твой и тот твоих братьев вернее...
— Будь неладна! — прервал ее гневно Сасрыква, —
... Ты ведь всюду со мной, так неужто еще не узнала:
Нас сто братьев, и все друг за друга погибнуть готовы!
— Да, я знаю, вас сто, — тень ответила тихо Сасрыкве, —
Только нет среди них у тебя настоящего друга.
Срок наступит — и станут твоими врагами
Те, кого ты за братьев пока почитаешь.
Ибо знай, что повсюду, как тень, неотвязно
Вслед за нартами вечно проклятье ступает, —
Наберись, если суть его хочешь узнать ты,
И терпенья, и мужества... Вот оно, слушай:
«... Чтобы с теми, кто зло им приносит, роднились,
Чтоб творящих добро принимали за недругов злейших,
Чтоб на свет вместе с ними рождались раздоры и зависть,
Чтоб всю жизнь, потешая врагов, меж собою бы грызлись,
Чтоб над лучшими из нартов другие бы нарты глумились,
Чтоб подлейший из них одерживал верх над честнейшим,
Чтобы род их пресекся, а те, кто успел народиться,
Истребили бы сами друг друга в кровавой борьбе...
(Перевод И. Бехтерева; 81-82)
А в 24-й главе, почти в конце первой книги романа, больной Мамсыр, взяв апхярцу в руки, поет уже завершающую часть Нартского эпоса о смерти Сасрыквы. Согласно песне, героя погубило коварство родных братьев.
Весь сюжет сказания о трагической гибели Сасрыквы выполняет функцию целостного образа-символа, смысл которого усилился с выходом второй книги
227
романа, описывающей сложную жизнь народа в эпоху насильственной коллективизации сельского хозяйства и репрессий. Речь Джомлата созвучна с песней о гибели Сасрыквы. В конце пастух, обращаясь к Ситу, стоявшему у подножия скалы, попросил, чтобы он понял его положение и психологическое состояние. Вместе с тем, Джомлат продолжил свою речь, характеризуя объективную реальность: «... Перед глазами открыто творится зло, но ты не можешь противостоять этому, ты бессилен, тогда не лучше ли уйти из этой жизни? Я не хочу быть свидетелем того, как вчерашний хлебосольный человек, схватившись за голову, садится у очага, боясь появления гостя,., которого не может угостить... Раньше мужчина мстил за убитого брата, а теперь вместо этого живой брат клевещет на погибшего брата; так воспитывают его наши руководители, стравливающие людей друг с другом! Не лучше ли ослепнуть, чем наблюдать за отцом и сыном, разговаривающим на разных языках?.. Я спрашиваю: какая жизнь ждет нас завтра?.. Если за правду можешь бесследно исчезнуть, а негодяев начинают возвышать...» (4; 499). Закончив речь, Джомлат бросился вниз, в глубокое озеро. Пастух уверен, что окажется в раю, ибо он всегда соблюдал традиции предков, нормы Апсуара, уважал законы гор, никогда не делал зла другому человеку.
Весть о гибели мудрого старца мгновенно облетела все село, а Сит, выполняя завещание Джомлата, постоянно рассказывал людям о том трагическом дне, слово в слово повторяя предсмертную речь брата.
Гибель Джомлата и убийство его трех сыновей потрясли Бадру. Эти и другие трагические события не могли не повлиять на его здоровье; он вскоре умер. И в связи с похоронами Бадры, писатель показывает особенности похоронного обряда, одновременно высказывая критические замечания о некоторых недопустимых изменениях обычаев в новых условиях.
Интересно то, что спустя два дня после похорон, четверо милиционеров-сарапионовцев на конях приехали в село арестовывать Бадру как «врага народа». Они подъехали к могиле Бадры, которую убирали близкие, и, даже не посочувствовав им, один из них оскорбительным тоном и с улыбкой на лице сказал: «... Я не знал его (Бадру), но он, видимо, был заносчивым человеком. Когда он узнал, что его арестуют, зарылся в землю...» (4; 609). Дядя Лагана Елизбар не выдержал и резко ответил: «До чего дожили... вам живых не хватило, решили арестовывать покойников...» (4; 609). Этот небольшой эпизод предупреждает: народ идет по пути нравственной деградации, о чем переживали Бежан, Джомлат, Бадра и другие персонажи, принадлежавшие к старшему поколению.
Лаган — представитель четвертого поколения (если считать от отца Бежана — Азнаура), единственный сын, продолжатель рода, фамилии. Поэтому, после смерти отца, вся ответственность за будущую судьбу очага легла на него. Сохранение преемственности поколений — задача не из легких. Если при жизни отца Лаган меньше думал об этом, то теперь его мысли сосредоточены на родном доме. Он уже достаточно взрослый человек (ему не менее 17-18 лет) и может отвечать за свои поступки. Однако Лаган совершенно отличается от Бежана и
228
Бадры, хотя он перенял от деда, отца и других близких ему людей многое; главное — герой научился следовать нормам Апсуара, любить родину, народ, национальную духовную культуру, родной язык. Лаган по-своему защищает очаг и Апсуара. Его самого порою раздирают противоречивые мысли; антиномичность характера и мировоззрения — неотъемлемая черта персонажа, хотя заметим, что она не доводит до внутреннего раскола, раздвоения личности. Лаган еще не имеет богатого жизненного опыта, его сознание не идеологизировано и не политизировано; кстати, этим отличались Бежан, Бадра, Мамсыр, Сит, Джомлат и другие. Его взгляды формировались не под воздействием официальной идеологии, а под влиянием традиционной народной культуры, Апсуара, фольклора, произведений первых абхазских поэтов, особенно Д. Гулиа и И. Когониа. Его учителями были Бежан, Бадра, сказители и певцы Мамсыр и Чичин сын Чины, преподаватель абхазского языка Тарас Сабыдович, прекрасная русская женщина — учительница Волгина Вера Николаевна, приобщившая его к русской классической литературе, председатель ЦИК Абхазии, писатель Алиас Шматович (его, как и многих представителей национальной интеллигенции, репрессировали) и другие.
После смерти отца, как уже говорилось, Лаган стал старшим (не по возрасту, конечно) в доме. Но он — студент Сухумского педагогического института — оказался на распутье двух дорог: одна вела в село, к дому, очагу предков, другая — в город, без которого невозможна полноценная творческая деятельность. В дни похорон Бадры Лаган размышлял: «В родовом доме, имеющем богатую историю, осталась мать и сестра Мачич. Мачич еще молода,., но придет время, она выйдет замуж... Тогда что будет с матерью? Кто будет присматривать за ней, помогать ей? Институт я закончу только через два года... Может быть, оставить учебу и навсегда вернуться к земле (очагу) моих предков? В противном случае дом превратится в пустырь! А я, завершив учебу, превращусь в горожанина, постепенно избавлюсь от своего крестьянского прошлого, буду жить в квартире, расположенной в высотном доме и зарабатывать на жизнь своим пером» (4; 603). Лаган слышит два голоса. Один голос резко говорит ему, что он — единственный продолжатель рода — не имеет права оставлять очаг предков, который может зарасти бурьяном, исчезнуть. А другой настаивает: «Не верь тому голосу, который призывает тебя вернуться к-исчезающему крестьянству! Ты уже никогда не станешь крестьянином! С того дня, как ты отправился в город, ты порвал нить, связующую тебя с предками!.. Мы видим, как родная земля плачет по тебе. Но ты можешь послужить ей по-другому, ибо природа одарила тебя другим талантом! На летопись похожи твои произведения, они отражают нынешнее тяжелое положение крестьянина! Ты не имеешь права прерывать свое творчество» (4; 603-604).
В середине первой ночи после похорон Бадры Лагана разбудил какой-то голос, ему показалось, что это был отец, который сказал: «Ты уже связал свою судьбу с другим делом; что бы ты ни говорил, ты уже не вернешься сюда [к род-
229
ному дому]! Кто не смог сохранить очаг предков, тот не может защитить и родину! Напрасно на тебя, Лаган, надеялся твой дед!» (4; 608). Если Лаган слышит тревожные голоса предков, думает о них, значит, он не отделился от очага, не забыл Апсуара. Да, он не пошел по пути Бежана и Бадры, то есть он постоянно не живет на селе, не сидит у очага, не следит за скотиной... Но в деревне еще остались настоящие крестьяне, которых он защищает словом. Именно поэтическое слово — его оружие, не все владеют таким даром. А писать стихотворения он стал в 13 лет. Кроме того, Лаган один из первых собирателей фольклорных материалов; устное народное творчество — основной источник его поэзии. В своих стихах он искренен и честен, говорит о жестокой правде жизни, хотя мало кто его поддерживает. Поэзию Лагана положительно воспринимают лишь некоторые представители интеллигенции и в их числе преподаватель педагогического техникума Антон Еснатович, директор того же техникума Давид Абасович, любимая девушка Лил и ее отец Захар, Андрей Лазба, писатель и общественный деятель Алиас Шматович. Диалоги с ними определяют особенности произведений Лагана, раскрывают характеры других персонажей, часть из которых впоследствии была репрессирована. Ценителям таланта Лагана прежде всего понравилось то, что его стихи искренны, не связаны с социальным заказом, не идеологизированы; они свидетельствуют о том, что их автор — внутренне свободная личность, для которой революционная или иная целесообразность, классовый подход не имеют существенного значения. Произведения Лагана, в том числе записи фольклорных текстов, противостоят социологизированной и политизированной поэзии молодых авторов — Смела, Раисы, Сафара и др. Лаган вспоминает некоторые строки из стихов и поэм этих «поэтов». Они воспевают революцию, «новую» жизнь, раскулачивание, отказываются от прошлого, от обычаев и традиций, даже от богатого фольклорного наследия народа, как пережитка старины. На одном из заседаний литературного кружка, организованного в педагогическом техникуме, молодые авторы читали свои стихи и разбирали их. Вот строки из какой-то поэмы Смела: «Революции клянется наше поколение!..», или: «... И ядовитая змея погибла, / Не успев укусить!» (4; 345). Под образом змеи подразумеваются «кулаки», «враги народа», «троцкисты» и т. д. А вот строки из стихотворения Сафара: «Старина — это темнота, она не должна повториться, / Ее надо отбросить как старую тряпку» (4; 347). Сафару мешала не только «старина» (обычаи, традиции, сказки, мифы и т. д.), но и вековые леса, он предлагал их уничтожить: «Зачем нам нужен лес бескрайний, / Должен вырубить его острый топор!» (4; 347). Сафар также читал стихи о неизбежной победе мировой революции. Произведения Сафара и Смела безоговорочно поддержал секретарь комсомольской организации техникума Щима, выступавший в роли главного рецензента. По его мнению, стихи этих двух поэтов созвучны со временем, отражают политическую зрелость авторов, которые разоблачают «врагов народа», критикуют прошлое, «устаревшие» традиции и обычаи.
230
Неоднозначную реакцию вызвало выступление Лагана. В начале он прочел фольклорные произведения («Сасрыква и его тень», «Старик Кабада», «Халткуку»), записанные им от народных певцов Мамсыра и Чичина сына Чины, а также некоторые обрядовые молитвы деда Бежана в честь языческих божеств, потом — собственные стихи. С резкой критикой выступил все тот же Щима, он сказал: «Вы видите, какая у него тематика, мне казалось, что я слушаю какого-то дореволюционного поэта; в его стихах нет ни слова о новой жизни. Да, Лаган может писать, но он политически необразованный человек; он нуждается в помощи: его надо вытащить из темной старины...» (4; 350). Щиму поддержали многие участники заседания литературного кружка. В защиту Лагана выступил его друг Закан. Слова Закана отражают критическую ситуацию, которая начала складываться в духовной сфере с усилением политической цензуры в 30-х гг. «Появился талантливый молодой поэт... — говорил Закан. — Некоторые считают, что надо забыть фольклорные произведения, как пережиток прошлого. Сегодня принято пренебрегать богатым духовным наследием народа... Следует поддержать Лагана за то, что он смог ощутить вкус устного народного творчества. Разве плохо то, что он начал записывать фольклорные материалы?.. Фольклор — это большая книга [жизни], кто смог прочесть ее, тот оглядывается в прошлое, понимает мировоззрение, чаяния народа... Фольклор оказал плодотворное воздействие на творчество Лагана. Говоря о произведениях автора, также замечу: молодой поэт... не увлекается неизвестными и непонятными ему крупными проблемами, например, мировой революции; он пишет о том, что хорошо знает. Видимо, поэтому от его стихов веет тепло, в них запечатлены незабываемые картины сельской жизни...» (4; 353). Закан высоко оценил поэзию Лагана, охарактеризовал ее особенности, много цитировал. В частности, он выделил стихотворение о судьбе традиционного села, которое оказалось на грани'дирададиядги исчезновения. В нем Лаган пишет:
Вот-вот свалится пацха,
Пятнадцать столбов едва удерживают ее.
Жаль хозяина, его сердце разрывается,
А он все же пытается жить дальше.
Но он, пахавший всю жизнь обычным плугом,
Не знает за что взяться,
Кто скажет ему теплое словечко,
Когда уже поют другую песню?
(4; 354)
Мнение Закана не разделили другие «ораторы», которые неоднократно прерывали его и отмечали порочность его взглядов. Основополагающей точкой зрения для «новомыслящих» критиков стала позиция «товарища» Щимы, говорив-
231
шего о «политической неподкованноси» Лагана, который, оказывается, блуждает «в темном лесу старины» и не обращает внимание на современные процессы, усиливающуюся классовую борьбу с«врагами народа». (Кстати, подобные обвинения косвенно направлены и против романа Д. Гулиа «Камачич», который появился в то время, хотя в «Рассеченном камне» о нем не говорят.) Критики Лагана требуют от него, чтобы он разоблачал «кулаков», «троцкистов», «идеологических противников», которые якобы мешают строить «новую жизнь», препятствуют коллективизации сельского хозяйства. В действительности же Лаган один из немногих поэтов, который не закрывает глаза на реальные события, пишет правду о жизни, ибо от своих учителей — хранителей духовной и этической культуры народа (Бежана, Мамсыра, Чичина, сына Чины, Бадры и др.) он усвоил важный урок: не лгать, хранить очаг, не забывать Апсуара, бережно относиться к духовному наследию народа. Для Лагана истина и честь дороже всего; об этом свидетельствует его произведение «Трагедия» (или «Ужасная история», «Кошмар») («Ахлымӡаах»), оно, похоже, написано в прозаической фбрме, но жанр его не определен, хотя повествователь ведет речь о «записках» или «записях» («анҵамҭа»). О содержании произведения узнаем из уст писателя, председателя Союза писателей Абхазии Алиаса Шматовича, которому доверял Лаган. После того как Алиас Шматович прочел «Трагедию» Лагана, между опытным писателем и молодым поэтом состоялся диалог. Диалог раскрывает образы двух духовно близких, честных и правдолюбивых людей, отражает также трагическое положение национальной культуры и литературы. За светлым образом Алиаса Шматовича просматривается личность писателя и общественного деятеля С. Чанба, репрессированного в 37-м году. Забегая вперед, скажем, что впоследствии Алиаса тоже арестовали и бросили в тюрьму, обвинив его в предательстве интересов народа, «троцкизме» и т. д.
Из слов Алиаса Шматовича выясняется, что «Трагедия» Лагана полностью посвящена истории семьи известного пастуха-скотовода Джомлата. Любимый писатель Лагана Алиас Шматович высоко оценил его произведение. Алиас отметил, что оно написано по горячим следам событий и показывает жестокую объективную реальность. «Не только современники, но и будущие поколения не забудут об этих ужасных событиях, — говорил Алиас Шматович Лагану. — “В год, когда Джомлат бросился со скалы в горное озеро... и трое его сыновей были убиты” — будут говорить в народе, сделав это время точкой отсчета. Ты наверняка не раз слышал такое выражение: “В год большого снега...” Никто не помнит дату, но о большом снеге никто не забывает. А очень много снега выпало [в Абхазии] в 1911 г. (155)... Однако сколько бы снега не выпало, как появилось солнце, он растаял, не принося большого ущерба народу. Совершенно другое событие ты описываешь; когда человек оказался в безвыходном положении, он бросился в озеро... Пролилась кровь и трех братьев. Народ долго не забудет об этих событиях. И ты тоже, на бумаге зафиксировавший эти события, навсегда останешься в памяти людей как летописец... Отторжение крестьянина от земли по-
232
хоже на безжалостное разлучение матери с ребенком, это несправедливо и неправильно, даже опасно для самой власти. Вот такие мысли возникают после прочтения твоих записей... Видимо, ты хочешь, чтобы они были где-нибудь опубликованы, однако, насколько мне известно, вряд ли их напечатают, если и дашь в какую-нибудь редакцию, тебя не оставят в покое. Тебе, Лаган, надо повременить с этим, ведь так же не может продолжаться долго!..» (4; 520-521).
Лаган с восхищением слушал пророческую речь уважаемого писателя, который вместе с Д. Гулиа стоял у истоков национальной литературы. Алиас Шматович вспомнил и статью, недавно напечатанную в областной газете; в ней были подвергнуты жесткой критике его (Алиаса) произведения — поэма «Одинокое дерево, стоящее на горе» и историческая драма «Похищение». Они напоминают произведения С. Чанба «Дева гор» (поэма) и «Апсны-Ханым» (историческая драма, посвященная освободительной борьбе абхазов против господства грузинских властей в Абхазии в 1917-1921 гг.). Автор той же статьи обвинил Алиаса Шматовича в «местном национализме»; получается, что писатель не должен был писать о судьбе родины и народа, о реальных исторических событиях. Но когда Лаган сказал, что группа студентов (в том числе и он) написала письмо редактору газеты в поддержку Алиаса Шматовича, писатель забеспокоился и ответил: «Вам, молодым, не стоило бы ввязываться в это дело!..» (4; 521). Алиас чувствовал, что его могут репрессировать, но он думал о будущей судьбе национальной культуры и интеллигенции. «Если уничтожат молодое поколение литераторов и ученых, что тогда будет завтра?» — этот вопрос волновал его.
В художественной структуре романа «Рассеченный камень» (особенно во второй книге) значительное место занимают различные собрания (собрание комсомольской организации педагогического техникума и института, расширенное собрание Союза писателей Абхазии и т. д.), в которых участвовал Лаган. Собрание превращается в художественное средство, способствующее более полному отражению духовного кризиса и острых противоречий в обществе, которые ведут к расколу и трагедии народа.
На одном из собраний Союза писателей, проходившем под надзором обкома партии, разгорелась острая дискуссия о творчестве Алиаса Шматовича; под удар политических цензоров попала его новая книга, в которой опубликованы и вышеупомянутые произведения: поэма «Одинокое дерево, стоящее на горе» и драма «Похищение». Тираж сборника был изъят из продажи. Алиаса разоблачали «политически и идеологически подкованные» критики: писатель и журналист Чинчор Щацба, журналист Зет, заведующий отделом агитации и пропаганды обкома партии Павел Бардия и другие. По словам Чинчора, Алиас Шматович выпустил «вредную книгу», «заражающую людей ядом национализма», сеющую пессимистические настроения. В качестве примера Чинчор привел поэму «Одинокое дерево, стоящее на горе». По его мнению, автор показывает жалкое одинокое дерево, которое стоит на вершине горы; когда дует ветер, оно сгибается то в одну, то в другую сторону, кажется, что вот-вот дерево свалится; дерево —
233
символ абхазского народа, оказавшегося якобы в трагическом положении. «Когда под руководством вождя народов Сталина в нашей стране строится социализм и братские нации вместе идут к счастливому будущему, Алиас Шматович утверждает, что абхазы на грани исчезновения, оказались у пропасти, как то одинокое дерево, которого едва держат корни!» (4; 538). Чинчор критикует и историческую драму Алиаса «Похищение». Из его же слов, хотя и критических, становится ясно, что речь идет не об «умыкании девушки», а о «похищении» (захвате) Абхазии. «Как бы ты ни старался, Алиас Шматович, Абхазию никто не может похитить, ибо она является неотъемлемой частью большой Советской страны...» (4; 538).
Чинчор прав в одном: под символическим образом женщины автор, конечно, подразумевает Абхазию, которую в 1917—1921 гг. пытались навсегда подчинить себе грузинские «меньшевики» или «демократы». Но он не понял другое: мудрый Алиас далеко смотрел вперед, он художественно отразил реальную политическую ситуацию, в которой оказалась Абхазия после насильственного (вопреки воле народа) включения ее в состав Грузинской ССР на правах автономии в 1931 г. А последствия этого акта, осуществленного «бериевцами» (они фактически продолжили националистическую политику правительства Грузии 1917— 1921 гг. во главе с Н. Жордания), хорошо известны. Об этом отчасти свидетельствует роман «Рассеченный камень» (156). На территории Абхазии репрессировали представителей абхазской интеллигенции и общественных деятелей по национальному признаку, со второй половины 30-х гг. начался процесс подавления абхазской литературы и культуры, был взят курс на насильственную ассимиляцию (грузинизацию) народа; а в конце 40-х гг. руководство Грузии (видимо, по инициативе Л. Берия) с ведома Сталина подготовило зловещий план выселения абхазов из Абхазии (тем более что подобный план был уже апробирован на ингушах, чеченцах, карачаевцах, балкарцах, греках и др., депортированных в Среднюю Азию до 1950 г.). Но этот план, по какой-то до сих пор неизвестной причине, не смогли осуществить. Однако был усилен процесс заселения Абхазии этническими грузинами из внутренних районов Грузии (главным образом из Западной Грузии — Мингрелии /Мегрелии/, Сванетии и т. д) для резкого изменения демографического состояния в республике. Цель была одна: захватить Абхазию «мирным путем», путем колонизации ее территории (157). Эти, искусственно навязанные процессы, проводившиеся под лозунгом «интернационализма и дружбы народов», в итоге привели в 1992 г. к войне между Грузией и Абхазией, в которой абхазский народ сумел отстоять свою свободу, права и честь, но погибло много людей с обеих сторон.
Именно такие люди, как Алиас Шматович, могли предусмотреть трагические последствия такой губительной политики, свидетелем которой он был. Он не скрывал правду и за это на него навесили ярлык «врага народа», с которым мало кого оставляли в живых. По мнению профессора кафедры марксизма-ленинизма педагогического института (после техникума Лаган учился в этом вузе), Али-
234
ас и ему подобные не понимают значения марксизма и мировой революции; на определенном высоком этапе развития наций все языки и народы сольются в одно целое, этому процессу противостоит Алиас (а также Лаган, Андрей Лазба, Захар и др.), защищающий самобытность национальной культуры. Алиас — «почвенник», он живет ради народа и служит ему.
На собрании Союза писателей Алиаса Шматовича поддержал Лаган. Когда Алиас покинул собрание, с ним, в знак солидарности, вышла из зала группа сочувствующих ему людей. Но время работало не в их пользу. В такой сложной и опасной ситуации Лаган продолжает придерживаться правды жизни; из-за идеологической и политической целесообразности он не предает духовно близких ему людей, друзей. Вообще-то предательство противоречит нормам Апсуара. Примечательно то, что Лаган не предал и любимую девушку Лил, несмотря на арест ее отца Захара Батовича — образованнейшего и интеллигентнейшего человека, которого (как и многих писателей, ученых, учителей и т. д.) обвинили в «антигосударственной», «антинародной» деятельности; Захар умер в тюрьме. А чем тогда могла закончиться связь Лагана с дочерью «врага народа», не трудно представить. Кстати, Лаган всегда помнил интересные встречи с Захаром Батовичем, его рассуждения о философии истории абхазов. Захар постоянно выступал против лозунга: «Все старое — плохо, а все новое — хорошо» и вульгарного социологизма, который, по его мнению, тормозит развитие исторической, научной мысли и литературы. Он утверждал: «Плохое знание истории не позволяет понять современные проблемы...». (4; 528), то есть без знания прошлого невозможно понять настоящее. Благодаря Захару Батовичу, а также Давиду Абасовичу, Алиасу Шматовичу и другим представителям старшего поколения интеллигенции, Лаган усиленно начал интересоваться историей Абхазии, особенно последнего столетия, в течение которого народ был обескровлен. Он размышляет: «С самого начала XIX века абхазскому народу постоянно сопутствует трагедия. Почему же так безжалостна к нему история? Неужели это предначертано судьбой?..» (4; 561). Размышления героя о прошлом обострились после того, как усилились репрессии против представителей национальной интеллигенции (Захара, Алиаса и др.) и политических деятелей (убийство главы Абхазии Нестора Лакоба и т. д). Но ответы на многие вопросы, постоянно встающие перед ним, он еще не находит. Однако Лаган убедился в одном: чтобы установить истину, истоки трагедии, необходимо хорошо знать историю народа, без знания прошлого трудно осмыслить современную жизнь и делать правильные шаги в будущее. «Что же ждет Абхазию завтра?» — задает себе вопрос Лаган. А история свидетельствует: мир жесток, в нем правят алчность и грубая сила, законы дикой природы; у одних людей и народов есть все права, ибо им «повезло» — их больше, следовательно — они сильнее. Поэтому считают, что они «лучше» и им дозволено учить «слабого», а то и уничтожить, разрушить его очаг, присвоить его дом и землю. А если «слабый» ожесточенно защищает себя, очаг своих
235
предков, мстит за убиенных детей, братьев и сестер, то его объявляют преступником, врагом «цивилизованного мира» и все это оправдывают идеологической пропагандой. Потому что, по словам И. Крылова, «у сильного всегда бессильный виноват...». Но самое ужасное, когда брат убивает брата, или сын отца. Прогуливаясь по сухумскому берегу моря и думая об исторических судьбах родного народа и страны, Лаган неожиданно остановился, в глазах потемнело. «Вдруг, — вспоминает он, — мне показалось, что темнота, которая окутала меня, исчезла и я увидел поляну, там лежал... Сасрыква, рядом кровь уже спеклась... Сбоку валялся тот камень, который оторвал ему ногу, герой умирал... Когда я приблизился к нему, с него слетели голуб^-горевестники... “Сколько раз ты спасал своих братьев, Сасрыква, но почему же они погубили тебя?.. Таков ли конец великих нартов?..” Погруженный в мысли я столкнулся с чем-то; пришел в себя и вижу, что я прижался к остаткам каменной стены Сухумской крепости. Ведь в этой крепости когда-то владетельного князя Келешбея убил его собственный сын [Асланбей]. (Речь идет о версии той трагедии, которая стала основой исторической повести Г. Гулиа “Черные гости”; об этом уже говорилось в предыдущей главе. — В. Б.). Может быть, кровь отца осталась на этих стенах?..» (4; 566—567).
В этом эпизоде вновь появляется образ камня — свидетеля глубокой старины. Камни пока молчат, но скоро они заговорят, раскрывая тайны истории. И это, по всей видимости, произойдет благодаря таким деятелям, как Лаган — «двойник» Б. Шинкуба.
Резюмируя итоги анализа романа «Рассеченный камень», необходимо подчеркнуть, что произведение Б. Шинкуба стало крупным явлением в истории национальной литературы, которое художественно исследует прошлое народа, этнософские проблемы через раскрытие внутренних этнокультурных процессов, диалектики Апсуара — основы этнической идентификации и национального самосознания. В качестве «исторической личности» в «Рассеченном камне», как и в романе Д. Гулиа «Камачич», выступает сам автор в лице главного повествователя и свидетеля событий Лагана. Наличие автобиографического элемента усиливает историзм произведения. Автора волнуют судьбы традиционной культуры абхазов, очага и Апсуара, которые оказались на грани исчезновения в эпоху коллективизации сельского хозяйства, раскулачивания крестьян и гонений на абхазскую культуру и интеллигенцию.
В художественной структуре романа значительное место занимают фольклорные и этнографические материалы, которые становятся неотъемлемой частью поэтики произведения и несут в себе большую смысловую нагрузку. Часто этнографический и фольклорный материал превращается в полифункциональный символический образ (Абрскил, Рассеченный камень, Сасрыква, очаг, пацха и т. д.), углубляющий содержание романа и усиливающий его эстетическую значимость.
236
Примечания
1 Абхазская историография и этнография зарождались в середине XIX в. Первые историко-этнографические статьи опубликовал в русской периодической печати офицер царской армии С. Т. Званба. Его историко-этнографические работы «Абхазская мифология и религиозные поверья и обряды между жителями Абхазии» (газета «Кавказ». 1855, №№ 81, 82), «Очерки абхазской мифологии» («Кавказ». 1867. №№ 74, 75, 76), «Поцелуй за занавесом» («Кавказ». 1853, № 55), «Зимние походы убыхов на Абхазию в 1823 г.» («Кавказ». 1852, №№ 33, 53), «Обряд жертвоприношения Св. Победоносцу Георгию, совершаемый ежегодно абхазами» («Кавказ». 1853, № 90) и другие по сей день имеют научную и отчасти художественную ценность. В первой четверти XX в. традиции С. Званба продолжили абхазские этнографы, историки и публицисты. Можно назвать имена Н. Патейпа, писавшего о свадебных, похоронных и других национальных обрядах; Д. Т. Марганиа (Маан), — автора ряда этнографических статей, опубликованных в «Сотруднике Закавказской миссии» в 10-х годах; С. П. Басария (псевдоним «Симон Апсуа») — страстного защитника истории и культуры абхазов, в 1923 г. он издал книгу «Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении» (Сухум-Кале, 1923); М. Тарнава, Н. Ладария, А. Чукбар и другие. Вместе с тем необходимо сказать и о многих русских и грузинских ученых — П. Усларе, Н. Марре, К. Мачавариани, Г. Чурсине, Е. Шиллинге, М. Джанашвили, Н. Джанашиа и других, которые оставили большое историкоэтнографическое наследие об абхазском народе; они сыграли важную роль в развитии абхазской историографии и исторических жанров абхазской прозы, да и в становлении Д. Гулиа-ученого.
2 Гулиа Д. Страницы моей жизни // Гулиа Д. Сочинения: В 4-х тт. Т. 4. Сухуми, 1962. С. 185. (Тексты в томах на абхазском и русском языках).
3 [Дзидзария Г. А., Акаба Л. X. ] Д. И. Гулиа и вопросы истории и этнографии Абхап // Д. Гулиа. Собрание сочинений: В 6-ти тт. Т. 6. История Абхазии. Этнография. Сухуми, 1986. С. 5.
4 Гулиа Г. Повесть о моем отце // Г. Гулиа. Жили поэты... Сухуми, 1990. С. 358.
5 Там же.
6 Там же. С. 358-359.
7 Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967. С. 166—176.
8 [Гулиа Д. ] О моей книге «История Абхазии». Сухуми, 1951. С. 4—5.
9 Там же. С. 5-6. »
10 Там же. С. 10.
11 Гулиа Г. Повесть о моем отце // Г. Гулиа. Жили поэты... Сухуми, 1990. С. 394.
12 Там же.
13 См.: Абхазия: документы свидетельствуют. 1937—1953 гг. Сборник материалов. Сухум, 1992 (1991). С. 540-541.
14 Гулиа Г. Повесть о моем отце // Г. Гулиа. Жили поэты... С. 367.
15 Там же. С. 345-346.
16 См.: Гулиа Д. Иҩымҭақуа реизга. 6-томкны. 2-тәи ат. Аҟуа, 1982. Ад. 373.
237
17 Например: Бгажба X. С., Зелинский К. Л. Дмитрий Гулиа. М., 1965; Гублиа Г. Дмитри Гулиа. Аҟуа, 1970; Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. (К 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа). Сухуми, 1974; Анқуаб В. Аԥсуа проза ашьақугылареи аҿиарамҩақуеи (1918-1948 шш.). Аҟуа, 1979; Агрба В. Ашәҟуҩҩи жәлар ражәарҿиареи. Аҟуа, 1977; Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976; Џьиблаӡе Г. Дмитри Гулиа: арҿиаҩы-аҵарауаҩ / Ақырҭшәахьтә еиҭеигеит Р. Каԥба. Аҟуа, 1975; Ладария М. Размышления о четырех романах // Советская Абхазия. 1966. № 126, 3 июля; Авидзба В. Абхазский роман. Сухум, 1997 и др.
18 Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. (К 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа). С. 60.
19 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Ад. 3.
20 Џьиблаӡе Г. Дмитри Гулиа: арҿиаҩы-аҵарауаҩ. Ад. 13.
21 Ладария М. Размышления о четырех романах // Советская Абхазия. 1966. № 126, 3 июля.
22 Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. (К 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа). С. 60—61.
23 См., например: Агрба В. Ашәҟуҩҩи жәлар ражәарҿиареи. Аҟуа, 1977. Ад. 20; Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. (К 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа). Сухуми, 1974. С. 61.
24 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976. Ад. 15.
25 Гулиа Д. Камаҷыҷ // Д. Гулиа. Иҩымҭақуа реизга. 6-томкны. 2-тәи ат. Аҟуа, 1982. Ад. 9. (Далее сноски на это издание, страницы указываются в тексте в скобках. Здесь и далее подстрочные переводы мои. — В. Б.).
26 Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа. У черкесов и абхазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму / Перев. с франц. Н. А. Данкевич-Пущиной. Сухум, 1937. С. 61.
27 Мачавариани К. Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение женщины в Абхазии // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. IV. Тифлис, 1884. Отдел II. С. 58.
28 И здесь мы видим, как Д. Гулиа, прекрасно знавший Апсуара, внимательно следит за поведением своих героев. Алиас придерживается норм этики, поэтому он не может во всеуслышание говорить о рождении своего ребенка, тем более что мать Торкана Щарифа была седовласой пожилой женщиной, она намного старше Алиаса. Уважительное отношение к старшим, скромность младших являлись также составной частью системы этических норм Апсуара.
29 В данном случае Д. Гулиа необоснованно немного отошел от этики. Торкан (вполне порядочный и воспитанный человек) не должен был открыто называть имя своей седовласой матери. Это как бы подчеркивает «невоспитанность» Торкана. Если молодой человек обращается к старику по имени, то это считается правилом плохого тона. Старик на
238
это мог сказать парню: «Разве мы с тобой ровесники?» А обращаться к старшим по отчеству у абхазов вообще не было принято. (Это новшество появилось в советское время.) Зато существовали иные формы обращения, которые зависели от ситуации. И Торкан вместо имени Щарифы мог произнести: «Как сказала моя мать» («Сан ишылҳәаз еиԥш»).
30 Для укладывания грудного ребенка абхазы, как и многие народы Северного Кавказа, до сих используют деревянную, обычно красиво сделанную люльку с постельными принадлежностями. В ней ребенок, как правило, лежит на спине в горизонтальном положении, а руки расположены ровно по боковым частям тела и привязаны тонким материалом (может быть, из хлопчатобумажной или байковой ткани); плотно завернуты и ноги ребенка. Только его голова более или менее свободна. Так что, ему очень трудно бывает развязать себе руки и ноги. Люльку используют в течение года. Считается, что люлька способствует правильному росту ребенка, препятствует искривлению позвоночника, рук и ног.
31 Гулиа Д. Агуалашәарақуа // Д. Гулиа. Иҩымҭақуа реизга. 6-томкны. 3-тәи ат. Аҟуа, 1983. Ад. 229-245.
32 Гулиа Д. Сара ашкол сышҭалаз // Д. Гулиа. Иҩымҭақуа реизга. 6-томкны. 2-тәи ат. Аҟуа, 1982. Ад. 211-218.
33 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976. Ад. 15-16.
34 Там же. С. 18.
35 Там же.
36 По абхазским обычаям, с того момента, когда девушка приняла подарки от жениха (это не калым, его у абхазов не принято было платить) (Камачич тоже приняла от Алхаса золотое кольцо, золотые часы и платок /ахьымаҭәа/— символы помолвки), она считается невестой. Если через некоторое время она передумала бы и захотела бы вернуть подарки, то последствия могли быть печальными, ибо сторона жениха могла быть сильно оскорблена и пойти на крайние меры, т. е. отомстить. То же самое произошло бы, если жених впоследствии отказался от своего предложения, тем самым оскорбив девушку и ее семью.
37 Обычно дочь, да и мать, сестры (если они есть) обслуживают застолье (речь идет о небольших застольях в честь почетных гостей, ритуальном празднике с участием гостей и т. д.). В присутствии гостей (почетных) они не могут участвовать в винопитии и произнесении тостов. Как правило, это прерогатива мужчин. Д. Гулиа чувствовал, что у читателей могут возникнуть сомнения по поводу поведения Камачич и решил подчеркнуть, что за столом чужих не было, в основном были все «домашние». В таком семейном кругу Камачич еще могла позволить себе произнести тост с бокалом вина, хотя не принято было, чтобы женщина и дома, и в гостях выпивала вино, произнося речи.
38 [Торнау Ф. Ф. ]. Воспоминания Кавказского офицера. 1835 год. Часть I. М., 1864. С. 60.
39 Там же. С. 59.
40 В старину умыкание девушки считалось героическим поступком. Оно изредка встречается и в наше время, но уже человек (вместе с группой лиц), совершивший
239
кражу девушки, преследуется законом (зависит, конечно, от показаний девушки). Встречаются два способа умыкания: 1) оно совершается с согласия девушки в случае, если ее родители категорически против брака; или оно совершается с согласия девушки с точки зрения романтических или иных соображений; 2) умыкание совершается вопреки воле девушки, последствия которого могут быть трагическими, ибо подобное действие равнозначно изнасилованию. Обо всем этом свидетельствуют этнографические и фольклорные материалы. (Например, в Нартском эпосе есть сказание о богатыре Нарджхиоу, который насильно похищает сестру нартов Гунду-красавицу, уже засватанную за Хуажарпыса; однако Нарджхиоу не смог уйти, мать нартов Сатаней-Гуаша, не видя возможности остановить Нарджхиоу, превратила его и Гунду в камень. В историческом сказании об Абатаа Беслане герой похищает красавицу Ханифу с ее, так сказать, позволения и др.)
41 Обычно в абреки (абх.: абрагьра) уходили (в основном вынужденно) после совершения убийства или иных тяжких преступлений, дабы избежать кровной мести. Мотивы могут быть разные: серьезное оскорбление чести и достоинства человека, к какому бы сословию он ни принадлежал, убийство близкого человека, позор и т. д. Абхазы говорят: «Ауаҩы адәы дзықу аԥхашьара азоуп» («Человек живет ради стыда, чести»), и он готов защитить свою честь, смыть позор любым способом. Сама кровная месть была главной причиной абречества, на которое не все могли решиться.
42 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976. Ад. 10.
43 Там же. С. 11.
44 Авидзба В. Абхазский роман. Сухум, 1997. С. 85.
45 Д. Гулиа в романе не описывает традиции аталычества, которые, между прочим, связывали князей, дворян и крестьян крепкими родственными узами. По этому обычаю князь или дворянин отдавал своих детей с малых лет на воспитание крестьянам. (Иногда князья в качестве аталыков выбирали дворян.) Таким образом, у ребенка появлялись «вторые родители» — аталыки (тюрк.: воспитатели; абх.: абаӡӡеи анаӡӡеи ), а также молочные братья и сестры (если у аталыков были свои дети). Процесс воспитания происходил в естественных условиях, в рамках традиционной этики Апсуара, которая предполагала и «спартанское» воспитание, включавшее в себя: владение оружием (ружье, кинжал, шашка или сабля), джигитовка, ораторское искусство и т.д. (если речь идет о мальчике). Девушек учили рукоделию, вязанию, шитью, хорошим манерам поведения, умению приготовления пиши и т. д.; не исключались и джигитовка, владение оружием. Часто воспитанники сильно привязывались к воспитателям, их дом становился для них вторым родным домом. Кстати, в прошлом эти традиции сглаживали и смягчали отношения между различными сословиями общества и не доводили противоречия до массового антагонизма и кровавого конфликта в форме «классового» восстания или революции.
46 Согласно существующим по сей день этическим нормам, редко кто из мужей употреблял слово «сыԥҳәыс» («моя жена») в присутствии посторонних, сельчан, гостей, (особенно старших по возрасту людей) и т. д.; мужчина не произносил также и имя супруги. Вместо них мужчины часто используют выражение типа «аҩны иҟоу» (дословно:
240
та, которая дома находится»). Это ни в коей мере не унижало женщину, а наоборот, означало почитание.
47 В такой критической ситуации этика (Апсуара) допускала участие родственников и даже родителей в решении проблемы развода. Развод в дореволюционной Абхазии документально не оформлялся, как не фиксировался и брак. Отсутствовало и венчание в церкви. По абхазским представлениям, это никак не означало незаконность брака. Равнодушное отношение абхазов к регистрации брака и развода сохранилось и по сей день. Кстати, эти явления более или менее отражены в главах романа «Камачич»: «Некрещеных не принимают в школу», «Оказывается, что дети невенчанных считаются незаконными».
48 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976. Ад. 10.
49 В абхазском фольклоре встречаются произведения, в которых зло наказывается местью; кровная месть считается героическим поступком. Об этом свидетельствует, например, «Песня о Салумане Бгажба», восхваляющая героический поступок Салумана, который отомстил убийце брата. В ней такие слова: «Утром убили брата, / А до середины того же дня отомстил за брата, / Абгажба Салуман... (Ашьыжьымҭан зашьа дыршьыз, / Шьыбжьаанза зшьа зуз, / Абӷажә Салуман)». (Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа / Еиқуиршәеит Ш. Хь. Салакаиа. Қарҭ—Аҟуа, 1975. Ад. 309).
50 Аҵнариа В. Жәлар рышәҟу // В.Аҵнариа. Аҳәатәи аҳәашьеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1976. Ад. 10.
51 Папасқьыр М. Аԥсуа прозеи апоезиеи. Аҟуа, 1970. Ад. 138.
52 Анқуаб В. Аԥсуа проза ашьақугылареи аҿиарамҩақуеи (1918—1948 шш.). Аҟуа, 1979. Ад. 217-218.
53 Там же. С. 217.
54 Там же. С. 218.
55 Агрба В. Ашәҟуҩҩи жәлар ражәарҿиареи. Аҟуа, 1977. Ад. 26.
56 Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа / Еиқуиршәеит Ш. Хь. Салакаиа. Қарҭ—Аҟуа, 1975. Ад. 283
57 Там же. С. 244.
58 Ачамгур — национальный смычковый музыкальный инструмент.
59 Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа / Еиқуиршәеит Ш. Хь. Салакаиа. Қарҭ—Аҟуа, 1975. Ад. 254.
60 Бгажба X. С. Об абхазской литературе. Сухуми, 1960. С. 6.
61 Авидзба В. Ш. Абхазский роман. С. 81.
62 Там же.
63 Проблема жанра «устного рассказа» до сих пор дискутируется в фольклористике. Она часто вызывала острые дискуссии в науке (см.: Емельянов Л. И. Проблема художественности устного рассказа // Русский фольклор. Т. V. Л.,1960. С. 247—264; Кузьмичев И. К. Жанровая природа современного сказа // Русская народная поэзия. Вып. I. Горький, 1961. С. 29—42; Ярневский И. 3. Устный рассказ как жанр фольклора. Улан-Удэ, 1969 и др.). Мы придерживаемся той точки зрения, которая утверждает, что «устный
241
рассказ» является самостоятельным жанром фольклора, ибо он существенно отличается от других повествовательных жанров устного народного творчества (сказок, легенд, сказаний). Один из сторонников «автономного» существования «устного рассказа» С. Л. Зухба пишет: «Под термином “устный рассказ” мы имеем в виду небольшие по объему народные устные повествования о реальных и конкретных фактах, о конкретных исторических лицах, эпизодах из жизни, при условии, если в основе этих рассказов лежат более или менее организованные сюжеты и их фольклористическая достоверность не вызывает сомнения... Устный рассказ является непосредственным и первичным откликом на конкретные жизненные события». (Зухба С. Л. Типология абхазской несказочной прозы. Майкоп, 1995. С. 291). Устный рассказ отличается от других повествовательных (прозаических) жанров фольклора своей динамичностью. «Постоянной изменчивости подвержены не только сюжеты, но и тематика устного рассказа... В устном рассказе не просто вымысел выдается за реальность... Характер достоверности в устном рассказе... обусловлен реальным фактом или событием, на основе которого он построен. По своей форме, стилю, языку устный рассказ ближе к обычной, живой разговорной речи». (Зухба С. Л. Указ. соч. С. 293). Кстати, устный рассказ — главный источник становления и развития жанров рассказа и новеллы во многих литературах Кавказа, зародившихся в XIX-XXвв.
64 Речь идет не об обычных проводах ночи. В данном случае они связаны с «праздником мертвых», как правило, проводимом 28 августа, в день успения Божьей матери. В характере проведения «праздника» ощущается синтез христианских и языческих обрядов. На абхазском языке этот «праздник» называется «нанҳәа». Термин состоит из двух корней: «нан» (в смысле «мать») и «ҳәа» (от слова «аныҳәа /ра/» — праздник, моление). Д. Гулиа вводит в роман эту главу (как и 34-ю главу «Поминки Озбека» — об обычаях проведения поминок) с целью описания конкретных обычаев, в данном случае обычая проведения «нанҳәа» (он по сей день «празднуется», хотя некоторые элементы традиционного «нанҳәа», а именно — «проведение ночи» перед «праздником» с импровизированными сценами «барбанджиа» /устраивание костра, перепрыгивание через костер и т. д./ встречаются весьма редко или вовсе отсутствуют). Как было принято, в ночь перед «нанҳәа» не спали, ибо считалось, что в эту ночь черти (аҩысҭаацәа, аԥсцәа) бодрствуют и шастают везде.
65 Инал-иԥа Ш. Абзиара— ҩадароуп // Алашара. 1982. № 10. Ад. 92—98.
66 Ацнариа В. Адунеи ҿыц агуеисбжьы // Алашара. 1986. №4. Ад. 115—126; №5. Ад. 121—130. Он же. Аамҭеи арҿиамҭеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1989. Ад. 231-292.
67 Зыхуба С. Ахаҳә еиҩсамхарц // С. Зыхуба. Ахаҳә еиҩсамхарц. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1984. Ад. 3—38.
68 Царгуш Шь. Ажәлар рышкол — школ ӷуӷуоуп // Алашара. 1983. № 9. Ад. 97—101.
69 Неделя. 1982. №41.
70 Инал-игъа Ш. Абзиара — ҩадароуп // Алашара. 1982. № 10. Ад. 98.
71 Зыхуба С. Ахаҳә еиҩсамхарц. Ад. 3.
72 Аҵнариа В. Аамҭеи арҿиамҭеи. Ад. 232.
242
73 Неделя. 1982. №41.
74 Аҵнариа В. Аамҭеи арҿиамҭеи. Ад. 236—237.
75 Там же. С. 237.
76 Шьынқуба Б. Адацқуа бзанаҵы — аҵла аԥсы ҭоуп. Аҟуа, 1995. Ад. 14.
77 Там же. С. 15.
78 Почвенничество — литературно-общественное и философское направление в России в 60-х гг. XIX в. Главными его представителями были А. Григорьев, братья М. М. и Ф. М. Достоевские и др. Во взглядах почвенников основополагающей была идея о «национальной почве» как основе и форме социального и духовного развития России. Почвенничество было консервативной формой философского романтизма. (См.: Русская философия. Словарь / Составитель А. А. Апрышко. М., 1999. С. 394).
79 Шьынқуба Б. Адацқуа бзанаҵы — аҵла аԥсы ҭоуп. Ад. 11—12.
80 Шьынқуба Б. Ашықусқуа рышьҭа. (Астатиа) // Б. Шьынкуба. Иҩымҭақуа реизга. 3-томкны. 3-тәи ат. Аҟуа, 1979. Ад. 480-516.
81 Шьынқуба Б. Адацқуа бзанаҵы — аҵла аԥсы ҭоуп. Ад. 25.
82 Шинкуба Б. Рассеченный камень. Роман / Перев. И. Бехтерева. М., 1986. С. 296—297.
83 Шьынқуба Б. Адацқуа бзанаҵы — аҵла аԥсы ҭоуп. Ад. 27.
84 Там же. С. 32.
85 Там же.
86 Там же. С. 4.
87 Аԥсуа поезиа антологиа. XX ашәышықуса: 2-томкны. 2-тәи ат. Аҟуа—Москва, 2001. Ад. 288.
88 Там же. С. 295.
89 См.: Читашева Р. Г. Апсуара как основа нравственности и нравственного воспитания абхазов. Гагра, 1995. 2-я стр. обложки.
90 Ҳашыг Н. Аԥсуара. Аҟуа, 1994. Ад. 3.
91 Там же. С. 5.
92 Там же. С. 9.
93 Аԥсны. 1994. № 53, октиабр 20.
94 Там же.
95 Бигуаа В. Ашәышықуса анҵәамҭазы... (Ҳаамҭазтәи апублицистика иахылҵыз ахуцрақуа)... М., 1996.
96 Шинкуба Б. Избранное: В 2-х тт. Т. 1. М., 1982. С. 108—109.
97 В традиционных абхазских домах, на кухне (амаҵурҭа, аԥацха), которая обычно отдельно стояла, использовался открытый огонь; над очажным огнем висела железная цепь, на которой подвешивался котел. Крыша плетеной апацхи была так сделана, что дым от очага уходил через верх. Если о том или ином доме скажут, что «там некому зажечь очажный огонь», то это значит, что двери дома навсегда закрылись, в нем никого не осталось, или род исчез.
98 Аҵнариа В. Аамҭеи арҿиамҭеи. Ад. 232.
99 Зыхуба С. Ахаҳә еиҩсамхарц. Ад. 4.
243
100 Аҵнариа В. Аамҭеи арҿиамҭеи. Ад. 233.
101 Там же.
102 Шинкуба Б. Рассеченный камень. Роман / Перев. И. Бехтерева. М., 1986. С. 9. (Далее сноски на это издание даются в тексте в скобках с указанием фамилии переводчика и страницы. По необходимости буду ссылаться на абхазский оригинал.)
103 В 1946—1951 гг. Б. Шинкуба записал 25 вариантов предания об Абрскиле, которые опубликованы в его сборнике фольклорных и этнографических материалов «Золотые россыпи» («Ахьырҵәаҵәа») (Сухуми, 1990. С. 272—314). В этой же книге опубликован полный вариант предания, реконструированный писателем-фольклористом на основе собственных записей и записей В. Гарцкия, Н. Джанашиа, Д. Гулиа, сделанных в конце XIX в. Полный вариант предания не раз печатался в периодической печати и выходил отдельным изданием. А два года назад (в 2000 г.) он был опубликован в Турции на турецком языке в переводе М. Папба (Пап-пха) (Papa-pha Mahinur Tuna).
104 Именно такое завершение последних слов Абрскила встречается и в фольклорных текстах, записанных Б. Шинкуба (см.: Ахьырҵәаҵәа. Ад. 276, 301). В них присутствует еще одно слово — «навсегда». Таким образом, последние слова Абрскила звучат так: «И одно отделено от другого навсегда, это, конечно, плохо». Слово «плохо» в устах героя имеет оценочный отгенок. Отделение одной части от другой, разрыв связей между прошлым и будущим ведет к забвению корней, историко-культурных традиций народа.
105 Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. II. СПб., 1892. С. 437-438 и сл.
106 Шьынқуба Б. Иҩымҭақуа реизга: 3-томкны. 1-тәи ат. Аҟуа, 1977. Ад. 185.
107 Кулиев К. Раненый камень. Стихи и поэмы. М., 1964. С. 216.
108 Там же. С. 217.
109 Там же. С. 80.
110 Там же.
111 Там же. С. 144.
112 Там же. С. 115.
113 В абхазской традиционной семье невестка, как правило, не имела право разговаривать со свекром и его братьями, ибо они были самыми старшими в семье. Этот патриархальный обычай существует давно и соблюдается по сей день в селах Абхазии. Видимо, обычай, являясь важным элементом семейного этикета, не допускал каких-либо недоразумений в отношениях между невесткой и свекром, способствовал сохранению мира в семье.
114 См.:Frazer J. G. Myths of the origin of fire. London, 1930.
115 Токарев С. А. Огонь // Мифы народов мира: В 2-х тт. Т. 2. М., 1992. С. 240.
116 Там же. С. 239—240.
117 Мифы народов мира: В 2-х тг. Т. 1. М., 1991. С. 136.
118 Зухба С. Л. Типология абхазской несказочной прозы. Майкоп, 1995. С. 53—54.
119 Мифы народов мира: Т. 2. С. 642.
120 Шинкуба Б. Избранное: В 2-х тт. Т. 1. С. 180.
244
121 Там же. С. 184.
122 Это стихотворение в переводе Б. Ахмадулиной опубликовано в первом томе избранных произведений Б. Шинкуба (1982; С. 126—127). Однако перевод сильно расходится с абхазским оригиналом, поэтому мы и даем подстрочный перевод.
123 Шьынқуба Б. Иҩымҭақуа реизга: 3-томкны. 1-тәи ат. Ад. 258.
124 Там же. С. 249.
125 Шьынқуба Б. Ҭагалантәи ашәахуақуа. Ажәеинраалақуа. Аҟуа, 1986. Ад. 19.
126 О повести Б. Шинкуба «Чанта приехал» см.: Бигуаа В. Абхазская литература в историко-культурном контексте. Исследования и размышления. М., 1999. С. 245—250.
127 Шьынқуба Б. Иҩымҭақуа реизга: 3-томкны. 3-тэи ат. Акуа, 1979. Ад. 442.
128 Купала Я. Собрание сочинений: В 3-х тт. Т. II. М., 1982. С. 7.
129 Купала Я. Стихотворения и поэмы / Перев. с белорусского. Минск, 1991. С. 82.
130 Там же. С. 61—62.
131 Там же. С. 63.
132 Моквский собор является венцом абхазской средневековой архитектуры. Как утверждает Д. Чачхалиа, «это единственный во всем Закавказье, сохранившийся до наших дней пятинефный, усложненной композиции храм... Моквский собор должен был олицетворять процветание страны...». (Чачхалиа Д. Абхазская Православная Церковь. Хроника. Прибавления. М., 1997. С. 70). По мнению Д. Чачхалиа, храм построен в 967 г. Впоследствии собор стал усыпальницей царей и владетельных князей Абхазии. Там же похоронен и царь Леон III, построивший храм.
133 Сравним: Амм — в йеменской мифологии — бог луны, бог-предок, обладал и чертами божества земледелия. А в мифологии догонов Амма считается верховным божеством, демиургом. Один из вариантов мифа о сотворении гласит, что Амма, подобно гончару, создал солнце и луну. (См.: Мифы народов мира. Т. 1. М., 1991. С. 70).
134 Зухба С. Л. Типология абхазской несказочной прозы. С. 33.
135 Там же. С. 34. См. также: Бганба-Горангур В. Р. [Бганба В. Р. ]. Абхазский космогенезис и ноосфера. Сухум, 2000.
136 Зухба С. Л. Типология абхазской несказочной прозы. С. 58.
137 Там же.
138 По абхазским обычаям, которые соблюдаются по сей день, спустя некоторое время после свадьбы, зятя приглашают в дом отца его жены (тестя). Зятя сопровождают его близкие родственники и друзья. В торжествах участвуют родственники тестя и соседи (они и помогают в подготовке и проведении торжеств). До такого «официального» приглашения зять как бы не имеет права посещать дом тестя и даже его близких (например, братьев тестя, жены и т. д.). Это касается и супруги зятя. Исключения составляют несчастные случаи, связанные со смертью одного из членов семьи тестя. (Кстати, эту тему мы затрагивали при анализе романа Д. И. Гулиа «Камачич».)
В данном случае Бежан истосковался по дочери Мари, но она не могла посетить отца без проведения торжеств. Речь, конечно, идет об обычной нормальной ситуации. Если дочь все же нарушила бы традицию, ничего страшного не произошло бы. О подобном «нарушении» говорилось в связи с характеристикой образа Камачич.
245
139 Ефрем Эшба (1893-1939) — выдающийся политический и государственный деятель, сыгравший заметную роль в новейшей истории Абхазии и Северного Кавказа; стоял у истоков возрождения абхазской государственности. Он закончил юридический факультет Московского университета, студентом уже вел политическую деятельность; не раз подвергался арестам, исключался из партии большевиков в 20-х гг. Занимал высокие посты в Абхазии, Закавказье, Северном Кавказе и Москве. Категорически был против включения Абхазии в состав Грузинской ССР. Обвинен в антигосударственной деятельности и троцкизме; расстрелян в Москве 16 апреля 1939 г.
Е. Эшба — автор многих статей и книги «Асланбек Шерипов (опыт характеристики личности и деятельности А. Шерипова в связи с народно-революционным движением в Чечне)». (Первое издание — Грозный, 1927; 2-е издание, испр. и доп. — Грозный, 1929; 3-е издание — Сухуми, 1990). О Е. Эшба см.: Дзидзария Г. А. Ефрем Эшба. М., 1967; 2-е издание, доп. — Сухуми, 1983. Марыхуба И. Р. Ефрем Эшба (выдающийся государственный деятель). Сухум, 1997. /
140 Шьынқуба Б. Ахаҳә еиҩса. Ароман. [Актәи ашәҟуы]. Аҟуа, 1983. Ад. 41.
141 Там же. С. 60.
142 Шьынқуба Б. Ахаҳә еиҩса: (Ҩ-шәҟукны // Б. Шьынкуба. Иҩымҭақуа реизга: Ԥшь-томкны. 4-тәи ат. Апроза. Аҟуа, 1998. Ад. 43. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. Подстрочные переводы мои. — В. Б.)
143 Шьынқуба Б. Ахьырҵәаҵәа... Ад. 276.
144 Там же. С. 301.
145 Аҵнариа В. Аамҭеи арҿиамҭеи. Ад. 285-286.
146 Шинкуба Б. Избранное: В 2-х тт. Т. 2. М., 1982. С. 336.
147 Там же.
148 Там же.
149 Там же. С. 338.
150 См.: Абуашвили А. Б. Образ родины в романах Григола Робакидзе // Литературное зарубежье. Национальная литература — две или одна? Вып. II. М., 2002. С. 145.
151 Искандер Ф. Баллада о свободе // Литературная газета. 1990. № 20, 16 мая.
152 Ажвейпш-Жвейпшыркан (или Ажвейпш) (Ажәеиԥшь-Жәеиԥшьыркан; Ажәеиԥшь, Ажәеиԥшьаа) — в абхазской мифологии божество охоты, покровитель диких животных.
153 Аирг (или Аерг) (Аиргь; Аергь) — в абхазской мифологии древнее божество охоты, покровитель диких животных.
154 С древнейших времен абхазы, как и другие горцы Кавказа (адыги /черкесы/, чеченцы, ингуши и др.), были связаны с горами, занимались скотоводством и охотой. Находясь в горах, охотники и пастухи пользовались специальным языком, иносказаниями. Например, охотники по-другому называли животных (в частности, вместо «амшә» /медведь/ — «шьапажә» /толстоногий/; «аҽы» /лошадь/ — «шьаԥаҟа» /широконогая/; «абынҳәа» /кабан/ — «цәқуаԥ» /длинный клык/ и т. д.). Видимо, возникновение иносказаний было обусловлено религиозными соображениями и прагматическими мотивами (если не говорить настоящее название зверя, то можно надеяться на успех в охоте).
246
(См. об этом: Гулиа Д. Божество охоты и охотничий язык абхазов // Д. Гулиа. Собр. соч.: В 6-ти тт. Т. 6. Сухуми, 1986. С. 293—308).
155 О том, что в январе—феврале 1911 г. в Абхазии выпал небывалый снег (такого не знала история края) писали абхазский ученый, просветитель и общественный деятель С. Басария (1884—1941) и многие авторы — свидетели события, в том числе русский ученый, публицист А. А. Ростовцев. Снег шел 20—24 дня и достиг на низменности 2-х м, а в нагорной полосе — до 7 м. (См.: Ростовцев А. А. Пицундская сосновая роща // Записки Кавказского Отдела Императорского Русского Географического общества. Кн. XXIX. Вып. 4. Тифлис, 1916. С. 7-9; Басария С. Биографический очерк. Статьи. Сухуми, 1984. С. 37).
156 Впрочем, Б. Шинкуба во время работы над второй книгой романа «Рассеченный камень» опубликовал рассказ «Старуха Расидац» (1988), посвященный трагическим событиям конца 30—40-х годов, когда невинные люди оказывались за решеткой и расстреливались. В 1990 г. рассказ в переводе И. Бехтерева был опубликован в журнале «Дружба народов» (№ 6; с. 3-18).
157 См.: Абхазия: Документы свидетельствуют. 1937—1953. Сборник материалов. Сухум, 1992. Абхазские письма. (1947—1989). Сборник документов. Т. 1. Сухум, 1994.
247
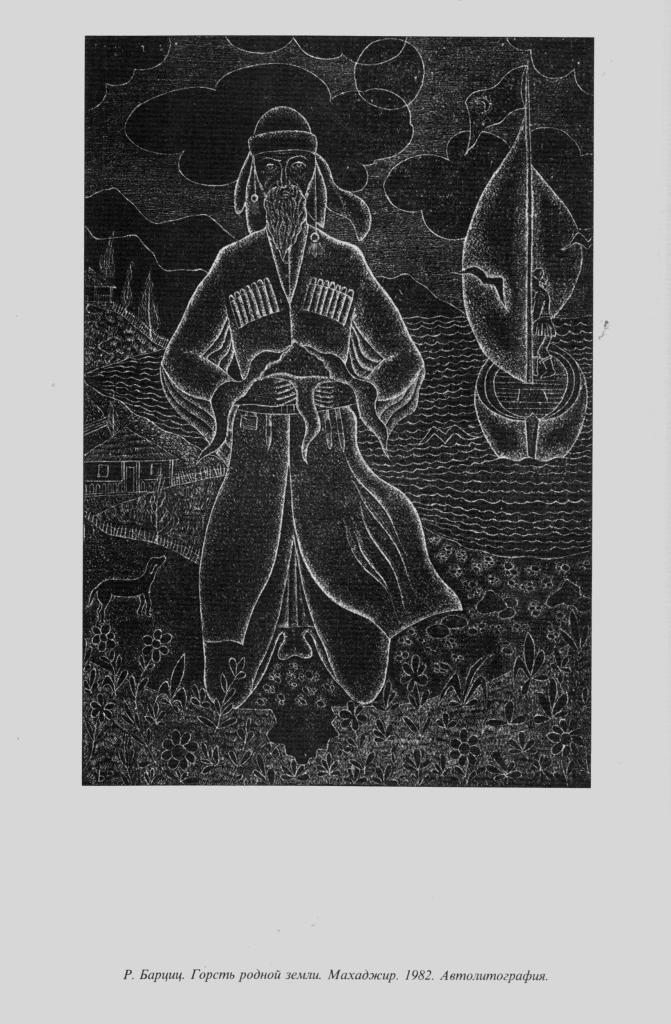
248
