ГЛАВА IV
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ В РОМАНЕ. ПОЭТИКА.
АДЫГСКИЙ (ЧЕРКЕССКИЙ) КОНТЕКСТ; ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ XIX В.
О КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ (Б. ШИНКУБА. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ», 1974)
Во второй половине XX века, точнее — в 60-90-е годы, абхазский роман занял ведущее место в национальной литературе. Это связано прежде всего с произведениями А. Гогуа, Б. Шинкуба, А. Джениа, В. Амаршан, И. Тарба, Д. Ахуба, Б. Тужба, Н. Хашиг, Л. Гицба и других. В течение 40-45 лет было опубликовано до 50 романов. Дело, конечно же, не в количестве, хотя и оно имеет немаловажное значение для такой сравнительно молодой письменной литературы, как абхазская, а в художественно-эстетической значимости произведений. Можно смело утверждать, что роман во многом определил характер литературного процесса второй половины прошлого столетия. Благодаря ему, а также повести и рассказу, национальная литература вышла за рамки республики и начала завоевывать иноязычного читателя, и в этом велика роль русского языка. Прежде всего на русский, а потом и на другие языки мира были переведены рассказы, повести и романы Б. Шинкуба, А. Гогуа, Д. Ахуба, И. Тарба, М. Лакрба (Лакербай) и др. Однако, к сожалению, самые значительные произведения А. Гогуа (романы «Нимб» и «Большой снег»), А. Джениа (повести «Не бери на себя греха, брат», «Мужская песня», романы «Восьмой цвет радуги», «Аными-рах — божество двоих» и другие) обойдены вниманием переводчиков. В творениях названных писателей рассматриваются проблемы, связанные с философией личности с точки зрения экзистенциализма, отчасти психоанализа и т. д., с этнософией, с особенностями и судьбой национальной этики Апсуара.
Примечательно, что в 60-90-е годы писатели продолжили те незначительные традиции художественного отражения прошлого народа, зачатки которых формировались в первой половине XX столетия (произведения Д. Гулиа, С. Чанба, Г. Гулиа и др.). В результате исторические жанры прозы (исторические повести и романы) заняли прочное место в литературе. Вспоминаются любопытные слова Б. Шинкуба, высказанные им в 1985 г. профессору Н. С. Надъярных, посетившей народного поэта на его сухумской квартире, свидетелем которых был я сам.
249
Н. С. Надъярных спросила писателя: «Почему в современной абхазской литературе стало много романов?» (Речь отчасти шла и об историческом романе.) Б. Шинкуба, указывая на генеалогию своей фамилии, помещенную на стене, лаконично ответил: «Народ вспомнил о своей родословной». Эти мысли подтверждаются словами самой Н. С. Надъярных, которая в 1986 г. писала: «Роман — это уровень духовного потенциала нации, но и его большая потребность в перспективе» (1). И далее: «Единственное усовершенствование, которое постигает его (роман. — В. Б.) на протяжении ближайшего полувека, — прозорливо рассуждал Л. Леонов, касаясь будущего романного жанра, — это повышение его мыслительной и образной емкости соответственно текущим приобретениям нашего ума и духа» (Леонов Л. Публицистика. М., 1976. С. 290; см. также.: Надъярных Н. С. Ритмы единения. Киев, 1986. С. 167).
Таким образом, национальная литература пополнилась историческими повестями Д. Дарсалиа «Водоворот» (1973), Б. Тужба «Звон колокола» (1983}, Д. Зантариа «Судьба Чыу Иакупа» (1982) и «Князь хылцисов» (1981), историческими драмами А. Мукба «В солнечное затмение» (1977) и «Когда открыты двери» (1988), историческими романами Г. Гулиа «Водоворот» (1959), Б. Шинкуба «Последний из ушедших» (1974), Б. Тужба «Апсырт» (1991), В. Амаршана «Апсха — царь Абхазии» (1994), Л. Гицба (Гыц Аспа) «Киараз» (1989) и т. д.
Как свидетельствуют эти произведения, писателей больше всего интересовали две эпохи — время объединения абхазских субэтносов и создания Абхазского царства (VI — начало X в. н. э.) (произведения Б. Тужба, В. Амаршана, драма А. Мукба «В солнечное затмение») и эпоха Кавказской войны и махаджирства XIX в. (произведения Г. Гулиа, Б. Шинкуба, Д. Дарсалиа, Д. Зантариа, драма А. Мукба «Когда открыты двери»). Потому что VI—X и XIX столетия — это важные, уникальные страницы истории Абхазии, и связанные с проблемами создания централизованного государства и выселением основной части населения страны в Турцию. Очевиден резкий контраст: с одной стороны — достижения в области государственного и культурного строительства, с другой — величайшая трагедия, последствия которой до сих пор отражаются на судьбе народа.
Удивительно, но революционная эпоха (1917—1921 гг.) слабо отражена в прозе, особенно в романе; исключение — роман в стихах Б. Шинкуба «Песня о скале», произведение Л. Гицба «Киараз».
Интересно то, что в северокавказских литературах (особенно в литературах народов Дагестана и Центрального Кавказа) большое место занимала тема борьбы горцев за установление советской власти в республиках региона. Поэтому среди исторических жанров прозы превалировали историко-революционные романы и повести. (Примеры: романы балкарских и карачаевских писателей Ж. Залиханова «Горные орлы», Б. Гуртуева «Новый талисман», М. Шаваевой «Мурат», X. Байрамуковой «Годы и горы» и «Семья Карчи», О. Хубиева «Аманат», абазинских писателей X. Жирова «Пробуждение гор», К. Джегутанова «Проданный с конем», адыгских /черкесских/ писателей А. Кешокова «Вершины не спят», X. Теунова «Род Шогемоковых», А. Шомахова «Заря над Тереком», Т. Керашева
250
«Состязание с мечтой» и «Дорога к счастью», чеченского писателя М. Мамакаева «Мюрид революции», дагестанских писателей Р. Динмагомаева «Герои в шубах», М. Хуршилова «Сулак — свидетель», М. Башаева «Отцы», М. Магомедова трилогия «Месть», И. Керимова «Махач» и «Крылатая девушка», трилогия М. Яхьяева «Горы свидетели»: «Кинжалы обнажены», «Нам некогда умирать» и «Победившие смерть», Ш. Альбериева «Живая волна», А. Мудунова «Огонь в крови», А. Искендерова «Самур» и т. д.). Исключение составляют исторические романы И. Машбаша «Жернова» и «Хан-Гирей», М. Кандура (пишет на английском языке) «Казбек из Кабарды», «Тройной заговор», «Балканская история» и др., Т. Адыгова (пишет на русском языке) «Щит Тибарда», М. Эльберда (пишет на русском языке) «Страшен путь на Ошхамахо» и «Ищи, где не прятал», Б. Тхайцухова «Горсть земли», К. Джегутанова «Золотой крест», X. Бештокова «Каменный век» (роман в стихах), С. Мафедзева «Достойны гыбзы» («Достойны печальной песни»), В. Абитова «Дом его — бурка», «Несостоявшаяся свадьба», И. Базоркина «Из тьмы веков», А. Айдамирова «Долгие ночи» и т. д.
Нет сомнения, что на развитие исторического романа (а также повести и рассказа) оказали сильное влияние достижения исторической мысли, и не только абхазской, но и русской, грузинской, северокавказской, отчасти английской, немецкой и французской, связанные с абхазоведением, и в целом с кавказоведением (смотрим библиографию под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7). На этих проблемах следует, хотя бы кратко, остановиться, ибо поступательное движение исторического романа во многом было обусловлено развитием исторических наук (археологии, этнографии и историографии) в XIX-XXвв.
Заметим, что именно во второй половине прошлого столетия абхазская литература активно использовала древнегреческую, римскую, византийскую, древнегрузинскую, древнеармянскую историческую литературу, а также русскую, немецкую, английскую историческую публицистику XVIII-XIXвв. об абхазах и адыгах (черкесах); потому что в этот период они стали более или менее доступны писателям и этнографам.
Огромное значение имел перевод (на общедоступный русский язык) и издание важнейших исторических сочинений древних авторов (античных, римских, византийских, грузинских): Геродота («История», 1993), Страбона («География», 1964, переиздание — 1994), Фукидида («История». Т. 1-2, 1915, переиздание — 1980), Прокопия Кесарийского («Война с готами», 1950, переиздание в 2-х тт. — 1996), Аммиана Марцелина («История». Вып. 1-3, 1906-1908), Корнелия Тацита (Сочинения: В 2-х тт. 2-е изд-е, 1993), Агафия Миринейского («О царствовании Юстиниана», 1953, переиздание — 1996), Флавия Арриана («Путешествие по берегам Черного моря», 1961), Константина Богрянородного («Об управлении империей», 1989), Л. Мровели («Жизнь картлийских царей. Извлечение сведений об абхазах, народах Северного Кавказа и Дагестана», 1979), а также «Летописи Картли» (1982). В деле перевода древних источников о Кавказе весомый (кстати первый) вклад внес выдающийся русский ученый конца XIX-первой половины XX в., автор ряда исследований о Кавказе В. В. Латышев. В 1890 и в
251
1904-1906 гг. он впервые издал два тома «Известий древних писателей (греческих и латинских) о Скифии и Кавказе» (Т. I. Греческие писатели, 1890; Т. II. Латинские писатели, 1904-1906). Эти материалы впоследствии были опубликованы в «Вестнике древней истории» в 1947-1949 гг. (№№ 1-4) и 1952 г. (№ 2). В 1911 г. он выпустил книгу «К истории христианства на Кавказе. Греческие надписи из Ново-Афонского монастыря».
В 1974 г. в Нальчике был издан большой сборник «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII—XIX вв», в котором содержится немало материалов об истории и культуре абхазов; а в 1990 г. — «Античные источники о Северном Кавказе» (состав. В. М. Аталиков). Опубликованы также книги путешествий турецкого автора Евлия Челеби, французского путешественника и ученого Фредерика Дюбуа де Монперэ и др.
Формирование традиций русского кавказоведения, в частности,абхазоведения и адыговедения, в XIX-XXвв. связано с именами историков, этнографов, археологов, фольклористов и лингвистов: С. М. Броневского, Н. П. Колюбакина, С. Г. Пушкарева, Л. Я. Люлье, М. Я. Ольшевского, В. А. Потто, Р. А. Фадеева, Е. Д. Фелицына, Н. Ф. Дубровина, Ф. И. Леонтовича, А. П. Берже, В. И. Савинова, Е. П. Ковалевского, Н. П. Конадакова, Е. Г. Вейденбаума, М. М. Ковалевского, И. И. Пантюхова, Н. М. Альбова, Г. А. Рыбинского, Ю. А. Кулаковского, Н. С. Державина, А. А. Миллера, П. К. Услара, Н. Башенева, П. И. Ковалевского, Г. Ф. Чурсина, А. А. Олонецкого, А. Н. Генко, Н. Я. Марра, Е. М. Шиллинга, К. Кудрявцева, С. К. Бушуева, А. В. Фадеева, С. Н. Замятнина, Б. А. Куфтина, М. М. Иващенко, Л. И. Лаврова, М. Н. Покровского, Н. А. Смирнова, Е. И. Крупнова, М. О. Косвена, К. В. Голенко, Е. П. Алексеевой, М. И. Артамонова, Л. Н. Соловьева, Е. Н. Даниловой, А. П. Новосельцева, Н. Г. Волковой, Я. А. Федорова, Я. С. Смирновой, В. Б. Вилинбахова, Ю. Н. Воронова, Г. Ф. Турчанинова, Л. Г. Хрушковой и других (2).
Важную роль в изучении истории и культуры народов Кавказа сыграли русские периодические издания, выходившие в Москве, Санкт-Петербурге, Тифлисе (Тбилиси), Владикавказе, Ставрополе и других городах. Среди них «Кавказский календарь», «Сборник сведений о кавказских горцах», «Сборник сведений о Кавказе», «Кавказские епархиальные ведомости», «Кавказская старина», «Кавказский сборник», «Записки Кавказского Отдела Императорского Русского Географического общества», «Вестник Европы», «Военный сборник», «Терские ведомости», «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», «Русский инвалид», «Русский художественный листок», «Сборник сведений о Северном Кавказе» и многие другие (3).
Русская историческая наука XIX-XXвв. об абхазо-адыгских народах, да и о других народах Кавказа была главным образом сосредоточена на изучении истории горцев XVIII-XXвв., то есть эпохи завоевания и присоединения Кавказа к Российской империи, Кавказской войны и на исследовании обычаев и традиций, языков многочисленных народов и субэтносов региона. Она часто описывала события и культуру горцев с великодержавных (XIX — нач. XX в.) и клас-
252
совых (XX в.), позиций, оправдывая колонизацию края, а также объясняя исторические явления с точки зрения только марксистско-ленинского исторического материализма, но одновременно она оставляла для будущих поколений бесценный исторический материал о Кавказе и обращала внимание на острые проблемы истории и этнографии горцев.
Кроме того, русское кавказоведение закладывало основы научного исследования древней истории абхазов и Кавказа. И самое главное — оно (отчасти совместно с учеными Кавказа) ввело в научный оборот (в переводе на русский язык) важнейшие древние источники об абхазах, адыгах (черкесах), карачаевцах, балкарцах, осетинах, чеченцах, ингушах, картвелах (грузинах) и т. д., которые впоследствии стали базой формирования национальной историографии, в основном развивавшейся на русском языке. Русские переводы компенсировали недоступность подавляющего большинства древнегреческих, латинских, итальянских, арабских, турецких, армянских источников. (Сюда не включаются грузинские источники, ибо многие абхазские ученые могли читать их в оригинале.)
Несправедливо было бы не сказать несколько слов и о зарубежной историографии и этнографии (немецкой, английской, французской и т. д.) XVIII-XXвв., связанные с именами М. Пейсонеля, Я. Потоцкого, П. Палласа, Ю. Клапрота, Фредерика Дюбуа де Монперэ, Т. Марини, Д. Уркварта (Давуд-Бея), Е. Спенсера, А. Гакстгаузена, Дж. Дитсона, М. Вагнера, Ф. Боденштедта, Дж. Бэддли, Ж. Дюмезиля, Л. Видершаля, Н. Фарсона, М. Пинсона, К. Тоуманофа, Дж. Хьюита и других ученых (4). Они внесли весомый вклад в абхазоведение и кавказоведение. В исследованиях этих авторов, использующих массу исторических материалов из иностранных архивов, музеев и библиотек, в полном объеме недоступных по сей день нашим историкам, часто дается иная концепция исторических событий, совершенно отличная от русской. Тем самым полемика внутри мировой историографии о народах Кавказа способствовала выявлению существенных сторон исторического процесса XVIII-XX вв. (ибо иностранная историография тоже в основном сосредоточила свое внимание именно на этом периоде истории Кавказа) и развитию исторической мысли в самих кавказских республиках, особенно во второй половине XX в. (так как в это время сама зарубежная историография стала более или менее доступна национальным ученым).
Немалую роль в области исследования истории и культуры абхазов, формировании национальной историографии и этнографии (абхазов, адыгов и других народов Северного Кавказа) сыграла и грузинская историография, которая по сравнению, например, с зарубежным кавказоведением и отчасти с русской исторической наукой больше внимания уделяла не XIX в., а древней истории, в которой сама же искала генетические корни, истоки культуры грузинского народа. Достаточно назвать имена таких известных ученых, как Д. Бакрадзе, С. Эсадзе, Ф. Жордания, М. Джанашвили, К. Мачавариани, Е. Такайшвили, И.Джавахишвили, Н. Джанашиа, С. Джанашиа, С. Каухчишвили, В. Леквинадзе, А. Апакидзе, Г. Меликишвили, Г. Цулая и другие (5).
253
Грузинская историография, несмотря на ее значимость, имела и свои особенности, как русская и зарубежная: она часто рассматривала историю Абхазии исключительно как неотъемлемую часть истории Грузии (иногда даже доходила до того, что отрицалось само существование абхазского народа и его истории /пример — книга П. Ингороква «Георгий Мерчуле»/), тем самым лишая абхазов собственной истории. Поэтому основная дискуссия с абхазскими учеными разворачивалась в связи с проблемами этногенеза абхазов и картвелов (грузин), с вопросами истории средневекового Абхазского царства и т. д. Острая полемика несомненно способствовала и даже провоцировала рост национального самосознания абхазов, ускоренное развитие абхазской историографии, которая не отрицала и не отрицает сегодня исторические и культурные связи абхазов с другими народами Кавказа, в том числе с грузинским. Сами исторические повести и романы о древней истории не только историчны, но и полемичны; они пытаются создать цельную художественную картину той или иной эпохи и найти в ней смысл.
И, наконец, в развитии исторических жанров в абхазской, абазинской и адыгских литературах важную роль сыграли и достижения самих национальных историографий, этнографий и археологий — абхазо-абазинской6 и адыгской (черкесской) (7), а также отчасти и других народов Северного Кавказа. Приведем лишь несколько имен ученых, которые внесли большой вклад в историческую науку и оказали сильное воздействие на литературу не только метрополии, но и горской диаспоры в зарубежных странах (в Турции, Сирии, Иордании и т. д.): Ш. Инал-ипа, Г. Дзидзария, М. Трапш, О. Бейгуаа, 3. Анчабадзе, М. Гунба, Г. Амичба, О. Бгажба, Г. Шамба, Р. Туганов, И. Чеченов, 3. Налоев, Г. Мамбетов, X. Думанов, В. Гарданов, С. Мафедзев, Т. Кумыков, Б. Бгажноков, С. Бейтуганов, Р. Гугов, М. Кандур, И. Калмыков, А. Мусукаев, С. Чекменев, Г. Кокиев, В. Кажаров, Р. Бетрозов, А. Касумов, Р. Трахо, А. Эльмесов, С. Хатко, Б. Мальбахов, Ш. Хавжоко, И. Беркок, А. Кушхабиев, М. Хагандока и другие.
Трагическая судьба абхазо-адыгских народов в XIX столетии стала одним из главных предметов исследований и абхазских, и адыгских ученых, ибо тяжелые последствия Кавказской войны — массовая гибель и выселение горцев в Турцию — по сей день дают о себе знать. И закономерно то, что во многих исторических романах (И. Машбаша, Б. Шинкуба, М. Кандура и др.) предпочтение было отдано теме махаджирства, что совершенно не наблюдается, как говорилось выше, в других литературах Северного Кавказа, так как массовому выселению (без права на возвращение) подверглось именно адыгское (черкесское) и абхазо-абазинское население Западного Кавказа.
Развитие историографии в той или иной мере способствовало расширению временных рамок художественных произведений. Адыгская историческая наука пристальное внимание уделяла и средневековому периоду истории народа, связанного с Крымским ханством и монголо-татарским нашествием и т. д. В ито-
254
гe — романы М. Эльберда «Страшен путь на Ошхамахо», Т. Адыгова «Щит Тибарда» и другие.
Абхазская историография, наоборот, больше углубилась в древнюю и раннесредневековую историю, особенно в VI-Xвв. — эпоху объединения абхазских субэтносов и создания централизованного Абхазского царства. В результате — романы Б. Тужба «Апсырт», В. Амаршана «Апсха — царь Абхазии» и другие.
Словом, диалектика исторического романа и повести в национальной литературе тесно связана с движением исторической мысли. Литература пользовалась достижениями не только абхазской историографии, этнографии и археологии, но и русской, грузинской, северокавказской, немецкой, английской, французской и др. Иногда литература сама оказывала воздействие на историческую науку; яркий пример — роман Б. Шинкуба «Последний из ушедших».
* * *
В одной беседе с Багратом Шинкуба (8) я в частности поинтересовался историей создания романа «Последний из ушедших», переведенного на многие языки мира, такие как русский, английский, арабский, турецкий, немецкий, эстонский, болгарский, венгерский, казахский, кабардинский, грузинский, армянский. Задан был вопрос и о соотношении исторической действительности и художественной правды. По словам Б. Шинкуба, к написанию романа побудила его складывавшаяся в конце 30-х — нач. 50-х годов ситуация в Абхазии, когда абхазский народ оказался на грани исчезновения, насильственной ассимиляции. Были закрыты национальные школы, свернута работа творческих организаций, вместо функционировавшего алфавита на латинской графической основе в 1938 г. ввели грузинский.
Кроме того, после выселения в 1943—1944 гг. с Северного Кавказа чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев готовился зловещий план освобождения Абхазии от абхазов. Выселение должно было произойти в конце 40-х годов. Однако .неожиданно Сталин решил судьбу абхазов иначе. Как вспоминает Баграт Васильевич, Сталин сказал: «Лучше их (абхазов. — В. Б.) огрузинить».
В то время абхазская интеллигенция осмелилась выступить в защиту народа и его национальной культуры. В 1947 г. молодые ученые Б. Шинкуба, Г. Дзидзария, К. Шакрыл написали письмо в ЦК ВКП(б) (9) на имя секретаря А. А. Кузнецова. Отвез его в Москву сам Б. Шинкуба. В нем отражалась реальная ситуация, сложившаяся в Абхазии, притеснения народа, глумления над его историей, запрещение абхазского языка, целенаправленное изменение демографического состояния в республике с целыо уменьшения численности абхазов. Нетрудно себе представить, что могло ожидать авторов письма, которых заставили заявить об ошибочности фактов, изложенных ими (10). Их вопрос был специально рассмотрен
255
на заседании бюро ЦК КП(б) Грузии, куда по инициативе Берия и других лиц в Москве письмо было переправлено. Особо усердствовал ставленник ЦК КП(б) Грузии секретарь Абхазского обкома партии А. Мгеладзе. Авторы письма чудом остались живы, они скрылись в селах Абхазии, а К. Шакрыл был изгнан из республики. Однако и в Тбилиси среди грузинской творческой и научной интеллигенции нашлись ученые (правда их было очень мало), которые поддержали молодого Б. Шинкуба. Баграт Васильевич часто вспоминает академика Симона Джанашиа, который не раз вырывал его из когтей смерти.
5 сентября 1953 г. Б. Шинкуба и Г. Дзидзария написали еще одно письмо на
имя секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, секретарей ЦК КП Грузии и Абхазского обкома партии, в котором подтвердили факты, изложенные в первом письме.
Именно в 40—50-е гг. Б. Шинкуба начинает размышлять о создании «романа-трагедии» (11) о народе, который был стерт с лица земли. Думая о судьбе абхазов, которые могут разделить участь убыхов, Б. Шинкуба приступает к собиранию исторических материалов. В автобиографической статье «По следам годов» он указывает, что собственно трагедия убыхов толкнула его к созданию «Последнего из ушедших»: «Вот уже несколько лет меня сильно волновала трагическая судьба убыхов, собирал все исторические материалы о них, фольклорные произведения. О махаджирстве я слышал и раньше, в детстве, из рассказов моего деда, его переживаний я знал, что оно было великой трагедией. Отца, мать и сестру моего деда забрало махаджирство... Эта историческая несправедливость затронула как абхазов, так и других кавказских горцев, а убыхов полностью уничтожила. Я не мог не написать об этой величайшей трагедии народа... Создание произведения, которое так или иначе отразило бы эту трагедию — было для меня святой обязанностью. В 1966 г. я наконец-то решился приступить к написанию “Последнего из ушедших”, а завершил его в 1973 г.» (12).
Б. Шинкуба в беседе со мной говорил о том, как он собирал и изучал материалы по Кавказской войне и об убыхах, много работал в тбилисских, московских и других архивах, в том числе и в Российском Государственном военно-историческом архиве (раньше — ЦГВИА), где часто встречался с историком Г. Дзидзария — автором фундаментального труда «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» (Сухуми, 1975). Дзидзария оказывал писателю большую помощь в изучении архивных данных. Помогал ему и В. Кожинов. Б. Шинкуба не совершал специальной поездки в Турцию, да и трудно было получить такую командировку в то время. Однако он получал материалы из Турции. Посылал их ему, в частности, активный общественный деятель абхазской зарубежной диаспоры Орхан Шамба. Эти материалы, а также доступная литература о Турции XIX—XX вв. позволили писателю всесторонне изучить историю Турецкой империи и горцев, выселенных из Северного Кавказа и Абхазии. «Я уже хорошо знал Турцию, будто я ездил туда и видел страну изнутри», — говорил Б. Шинкуба и заключил: «Все, что написано в “Последнем из ушедших”, сущая правда, в нем нет ни строки лжи».
256
А правда была горькая, трагическая. Жил народ убыхский (13) в Убыхии (на части территории нынешнего Сочинского региона в верховьях рек Псахе и Сочи) в соседстве с другими абхазо-адыгскими народами до марта 1864 г., когда царские войска заняли Сочи и прилегающие территории (14). Немного раньше генерал Гейман категорически предложил убыхам: «...Сейчас же, без обозначения срока, те, кто желают идти в Турцию, должны собраться табором на берегу моря к устьям Шахе, Вардане и Сочи... Те же, кто хочет идти к нам, должны сейчас же выселиться на Кубань...» (15). Словом, немногочисленному гордому и воинственному народу предложили подчиниться царским властям или выселиться в Турцию. Убыхи выбрали войну, они были убеждены, что только с оружием в руках можно защитить свою честь и свободу. В итоге, как писал Е. Вейденбаум в 80-х годах XIX в., «горцы, боровшиеся с необычайным ожесточением, побежденные, но не покоренные, огромной массой потянулись в Турцию» (16). В 1858—1865 гг. по официальной статистике было выселено 418 ООО человек (17) — представителей абхазо-адыгских народов, в том числе убыхов 74 567 (18). Всего несколько убыхских семей (19) осталось на Кавказе, они естественно растворились среди родственных народов.
Трагедия убыхов и других горцев не закончилась в марте 1864 г. Впереди их ожидали бесконечные страдания и гибель. Шестидесятилетний путь к смерти, внутренние и внешние факторы, приведшие к трагедии, судьбы родины и народа, конкретных исторических личностей, а также других представителей горцев и отразил Б. Шинкуба в романе «Последний из ушедших»; по сути это произведение — памятник народу, стертому с лица земли. По своей художественной значимости роман вряд ли потеряет свое значение и смысл и в будущем.
Впервые роман был опубликован в 1974 г. в журнале «Алашара» (№№ 1—8), отдельной книгой вышел в конце того же года. Не успев выйти, произведение сразу же попало в поле зрения критики. Одним из первых, кто отметил художественную и историческую ценность романа, был литературовед и поэт В. Ацнариа (Цвинариа): в газете «Аԥсны ҟаԥшь» («Апсны капш» — «Красная Абхазия») (1975, 29 июля) он напечатал весьма эмоциональную содержательную, но местами небесспорную статью «Реквием кровавому пути (трагедии)» («Ареквием ашьамҩазы»). В ней, в частности, ученый писал: «Роман Б. Шинкуба “Последний из ушедших” не похож на привычное для нас произведение. В нем читатель не увидит четкого разделения белого и черного, страдания и радости... Во всем романе господствует темная ночь, никакого проблеска света... “Последний из ушедших” — это многоплановое историческое произведение ...это история... целого народа... До сих пор у нас не было подобного произведения, которое так возвышало бы наше историческое мышление, национальное самосознание, заставляло бы думать о прошлом, настоящем и будущем... Таким образом, “Последний из ушедших” является первым абхазским историческим романом. Именно те произведения, которые ставят большие проблемы, рождают глубокие мысли, создают большую литературу...» (20).
257
Впоследствии о «Последнем из ушедших» писали много, роман получил высокую оценку К. Симонова, Л. Арутюнова, Г. Ломидзе, Н. Надъярных, К. Султанова, У. Далгат, В. Кожинова, Г. Джибладзе, Н. Байрамуковой и других. Литературоведы и критики рассматривали некоторые особенности повествовательной структуры произведения, отчасти характерные черты образной системы, частично идейное содержание в контексте исторических процессов в эпоху Кавказской войны и т. д. Однако поэтика романа еще требует рассмотрения. Совершенно не изучена, например, поэтика исторического образа, проблема генеалогии исторического факта и его перехода в литературный образ и т. д.
Исследователи пытались ответить на вопросу: почему роман привлекает к себе миллионы читателей? Почему они верят в истинность событий, описанных в произведении? Почему многие народы воспринимают роман как свое? В чем секрет его духовной силы и философской значимости?
Один из ключей к тайнам романа связан с повествовательной структурой творения. Перед Б. Шинкуба стояла сложная задача; материал, от которого веяла величайшая трагедия, диктовал «свои условия». Изначально писатель стремился к масштабному, «полифоничному» (М. Бахтин), внутренне напряженному историческому роману. Конечно, к тому времени у него уже был большой опыт в создании эпических произведений и в поэзии (романы в стихах /или, по мнению некоторых критиков, поэмы/ «Новые люди» и «Песня о скале», масса поэм и баллад). В прозе Б. Шинкуба являлся новичком; он тогда был автором единственного прозаического произведения — повести «Чанта приехал» (1969). Писатель понимал, что обычное объективное эпическое повествование от третьего лица, широко распространенное в литературе, не подходит для передачи труднейшего и тяжелого сюжета. И он выбрал сложную многоступенчатую структуру повествования. Такая повествовательная структура, по словам Ю. Лотмана, находится «в прямо пропорциональной зависимости от сложности передаваемой информации... Данная информация не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры» (21).
Повествовательная структура романа формируется из нескольких уровней. Т. Джопуа выделяет два уровня повествования: «Устный уровень речи Зауркана Золака и письменный уровень повествования Шараха Квадзба... Эти два уровня, гармонично сочетаясь, в то же время чрезвычайно усиливают восприятие трагической судьбы убыхов» (22). Вместе с тем, в романе присутствует и третий повествователь в лице автора, который играет важную роль в структурной организации произведения, хотя он встречается в начале и в самом конце творения. Автор-повествователь как бы задает тон, определяет характер повествования; он же и завершает роман. Между двумя появлениями автора-повествователя — нашего современника, на огромном географическом (от Кавказа до Турции и стран Ближнего Востока) и временнбм (вторая половина XIX в. — первая половина
XX в.) пространстве разворачиваются события, о которых главным образом рас-
258
сказывает (Шараху Квадзба) центральный герой произведения и основной повествователь Зауркан Золак — свидетель трагической судьбы убыхов (если не считать отдельные события, излагаемые некоторыми персонажами в диалогах). Три повествователя (автор — Шарах Квадзба — Зауркан Золак) соединяют разные временные пространства, протягивая между ними связующую духовную нить. Важно, что каждый из них очевидец событий своего времени. И это усиливает художественную значимость романа.
Говоря о повествовательной структуре произведения, нельзя не сказать о первых страницах романа, т. е. Предисловии, которое сыграло важнейшую роль хтя «построения моста», соединившего историческую правду и художественную правду, предопределило судьбу всего романа и его героев. Предисловие небольшое, но без него невозможно представить произведение. В нем рассказ ведется от лица самого писателя, т. е. Б. Шинкуба. В его речи, как и в речи других повествователей, обнаруживаются традиции ораторского искусства, главной целью которого всегда было: красивой, изящной, логически связной, слаженной, увлекательной речью убедить слушателя в достоверности или правильности, справедливости изложенных фактов или высказанных предложений.
В Предисловии писатель сжато, но емко рассказывает о судьбе рукописи гомана и ее автора Шараха Квадзба, который, по словам Б. Шинкуба, погиб в конце Второй мировой войны в Италии. Благодаря речи первого повествователе. т. е. писателя, читатель знакомится с краткой биографией Шараха Квадзба. Б. Шинкуба подчеркивает, что автор рукописи — ученый-лингвист, учившийся в Ленинграде на факультете Кавказских языков Института восточных языков и слушавший лекции академика Н. Марра. Как видим, упоминаются реальное научное учреждение и имя известного кавказоведа-лингвиста. Шарах, изучавший убыхский язык, в течение двух месяцев находился в Турции и некоторых других ближневосточных государствах, он шел по следам выселенных с Кавказа убыхов, чтобы найти людей, знающих родной язык и историю своего народа. Результаты его поездки были отражены в рукописи. Само имя Шараха Квадзба, как и «мена многих героев, вымышленное, хотя у него есть реальный прототип — молодой лингвист, ученик Марра — Виктор Кукба.
Убеждающий характер речи автора усиливается тем, что Б. Шинкуба отчасти
использовал научно-исследовательский стиль, который, как видно в других частях романа, присущ и речи Шараха Квадзба. Автор пишет: «Рукопись Шараха Квадзба состояла почти из пятисот, точнее, четырехсот восьмидесяти двух листов, исписанных мелким, иногда, особенно ближе к концу, торопливым, но разборчивым почерком. В середине рукописи были заложены две машинописные странички, датированные августом 1940 года, довоенной автобиографии Квадзба и написанные от руки короткие тезисы, очевидно, того отчета, который Квадзба, вернувшись из заграничной командировки, делал у себя в институте. Вместе со всем этим была также заложена в рукопись расписка, выданная Абхазским государственным музеем Ш. Квадзба в том, что он сдал, а музей принял на
259
хранение медную трубу и кавказский кинжал, привезенные им из заграничной командировки для передачи музею... В тезисах своего отчета Квадзба писал, что собранный им в командировке материал сможет, по его мнению, пролить свет на пробелы в изучении трагической истории убыхского народа» (23). Важно, что писатель три раза говорит об объеме рукописи, т. е. указывает количество страниц, а также многократно употребляет слово «рукопись». Кроме того, он выступает как бы первым «рецензентом» рукописи Ш. Квадзба, отмечает, что в ней «оживают страницы истории убыхов — народа, который издавна жил в горах Западного Кавказа. ...Прошел всего один век, и народ с богатым и мужественным прошлым исчез с лица земли как нечто единое целое». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 8—9). И далее читаем: «... Мне хочется предложить вниманию читателей рукопись Шараха Квадзба, которая... состоит из весьма подробно записанных им в 1940 году бесед с ... столетним убыхом, в доме которого Шарах Квадзба пробыл больше месяца. Этот столетний убых Зауркан Золак, человек, судя по рукописи, отличавшийся не только редким здоровьем и выносливостью, но и редкою цепкостью памяти...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 9). Здесь писатель дает первые штрихи к портрету главного героя произведения Зауркана Золака. По словам Шинкуба, Квадзба подряд записывал весь рассказ Зауркана, сохраняя даже особенности его речи. Рукопись сохранилась в первозданном виде. «Проанализировать ее с чисто научной точки зрения, видимо, не поздно и сейчас, не поздно и подвергнуть критическому анализу те или иные упомянутые в ней факты — и исторические, и бытовые, — и, однако, при всех своих изъянах с научной точки зрения эта рукопись именно в своем первозданном виде предстает как интересный человеческий документ, раскрывающий... прежде всего личность рассказчика (Зауркана Золака. — В. Б.), но в какой-то мере и личность слушателя (Шараха Квадзба. — В. Б.), которого слишком сильно волновало все им услышанное, чтобы оставлять за собой только роль стенографа». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 10).
Завершая Предисловие, писатель отмечает: «Итак откроем рукопись. Хочу предупредить, что передо мной лежало четыреста восемьдесят два плотно исписанных листа, не только не снабженных заглавием, не разделенных на части и главы, но и написанных почти без абзацев рукой человека, думавшего не о публикации, а о том, как бы за отведенный для этого срок успеть дописать до конца. И то название рукописи, которое вы уже увидели, и названия глав, и деление на части, сделанное для удобства чтения, — все это на моей совести, все это сделано уже мной, а не Шарахом Квадзба». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 10).
Как видим, Б. Шинкуба отводит себе скромное место и создается впечатление будто действительно существовала рукопись произведения, хотя автор романа один — Б. Шинкуба. Забегая вперед, скажем, что голос писателя вновь звучит только в конце романа, в Послесловии, в котором он повторяет слова, сказанные в конце Предисловия, и утверждает, что, по мере подготовки рукописи
260
Шараха Квадзба к изданию, долго размышлял над ее названием. Наконец остановился на «Последнем из ушедших».
Таким образом, речь первого повествователя, т. е. писателя сыграла важнейшую роль в судьбе всего произведения; именно она укрепляла доверие читателя к роману. Вместе с тем, только через эту речь мы узнаем о жизни и деятельности молодого ученого Шараха Квадзба, некоторые черты характера главного героя Зауркана Золака и других персонажей.
Следует подчеркнуть, что речь повествователей занимает особое место в поэтической структуре романа. Она является основным средством раскрытия образов героев. А риторическое слово, как писал М. Бахтин, влияет на философию языка и эстетику романа (24). Поэтому постижение художественного мира и эстетической ценности произведения возможно путем исследования поэтики речи персонажей, главным образом Зауркана Золака, в которой отразились, как отмечалось выше, традиции народного ораторского искусства.
Рассказав о судьбе рукописи и ее автора, писатель представляет слово Шараху Квадзба — второму повествователю, речь которого, как и речь Зауркана Золака — очевидца и участника событий, играет структурообразующую роль. Если первый повествователь, т. е. писатель, своей прямой речью выделил некоторые черты портрета, характера Зауркана Золака, то слово Шараха Квадзба дорисовывает образ главного героя, хотя читатель больше узнает о Зауркане от самого героя, который рассказывает о пережитом им самим и его народом; можно даже сказать, что это самораскрывающийся образ. И все же без речи автора «рукописи» мы никогда бы не узнали в частности о примечательных особенностях портрета Зауркана Золака, которые стали важным подспорьем для художников-живописцев и графиков-иллюстраторов романа. Понятно, что сам герой не стал бы говорить о них. Вот первые впечатления Шараха Квадзба от встречи с «таинственным» Заурканом Золаком, которые напоминают эпический стиль описания героических образов фольклора, в том числе Нартского эпоса: «Изнутри, из хижины доносится глубокий, глухой кашель, но проходит еще несколько минут, прежде чем Зауркан показывается в дверях. Он очень высокий и широкий в плечах, его длинное лицо кажется еще длинней из-за доходящей до середины груди длинной белой бороды. На нем и похожая, и не похожая на халат, длинная, ниже колен, белая( просторная одежда с широкими рукавами. В правой руке посох, тяжелый, с тяжелым железным наконечником... Шаги у него легкие, он продолжает держаться прямо не только когда стоит неподвижно, но и когда ходит... Только теперь, когда он стоит близко, я понимаю, какого он огромного роста, и вижу смотрящие на меня оттуда, сверху, небесно-синие, нисколько не выцветшие глаза. Потом... он медленно... опускается на обрубок толстого столетнего дерева и, пока садится, успевает показать мне рукой на ту лавку, где мы сидели с Бирамом. Я повинуюсь ему и тоже сажусь. Он ставит посох рядом с собой, с силой воткнув его наконечник в землю, и достает из кармана янтарные четки». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 13-14). Старик готов к беседе, к
261
долгой беседе, тому свидетель воткнутый в землю посох, по народной традиции, часто являвшийся неотъемлемой частью опытного оратора. Его повествование будет медленным, спокойным, об этом говорят даже четки. По свидетельству самого автора рукописи, Зауркан был прекрасным рассказчиком, одинаково хорошо владевшим как убыхским, так и абхазским и адыгским (черкесским) языками. Вообще в абхазской литературе нет другого такого произведения, как «Последний из ушедших», где так сильно отражены традиции народного ораторского искусства. Конечно же, это касается прежде всего речи Зауркана Золака, который с детства впитал в себя любовь к слову, слушая старших, сказки бабушки, выступления народных ораторов на различных вечевых собраниях.
Писатель поставил перед своим героем труднейшую задачу: он должен рассказать об истории трагедии малочисленного, вольнолюбивого и воинственного народа. Поэтому его речь особенная, в ней ощущается синтез различных типов ораторской речи: политической, философской, надгробной, выступления на народном суде и т. д. Проявляется также артистизм, «актерские способности» самого героя. Вместе с тем, повествователь следует и традиции сказительства; активно использует фольклорный материал, в частности сказки, пословицы и поговорки; они усиливают эффект высказанной мысли, художественно-эстетическую значимость, философскую глубину слова героя. Заметим, что в романе Б. Шинкуба фольклорные и этнографические материалы несут большую смысловую нагрузку, иногда претерпевая определенную трансформацию в контексте движения сюжета и в соответствии с философией (или историософией) романа. Часто этнографический факт (изначально являвшийся природным явлением), овеянный фольклорными преданиями, превращается в художественный образ, символ (например, святыня Бытха, о которой скажем отдельно), а целый сказочный сюжет в речевой структуре главного героя приобретает философский смысл, он обобщает, синтезирует исторический опыт народа, придавая ему общечеловеческую значимость, показывает негативные стороны цивилизации, бытия, ставит нравственные, этические проблемы, которые человечество до сих пор не способно решить; и от духовного несовершенства человека, невежества, алчности и амбиций происходят трагедии: уничтожаются целые общества и народы. Писатель, затрагивая эти вопросы глобального характера, предупреждает: «Не истребляйте друг друга. Более сильный не должен давить на слабых, убивать их... Каждого может настигнуть судьба убыхов».
* * *
Повествование Зауркана Золака состоит из двух частей. В первой части герой рассказывает о событиях и людях до выселения убыхов и во время махаджирства. Он начинает с импровизированной сцены приема почетного гостя в лице Шараха Квадзба (первая часть романа «Трапеза с мертвыми»), которая
262
говорит о том, что речь пойдет о величайшей трагедии убыхов, о философии истории исчезнувшего народа, примеров коего много в истории человеческой цивилизации. Эта история — и урок, и предупреждение. Сцена, естественно, предопределяет характер и структуру самой речи повествователя-горевестника. Зауркан с помощью слова воскрешает прошлое, давно умерших братьев и сестер, родственников, обычаи и традиции (в частности, этику приема гостя). Очевидно стремление последнего убыха создать не только исторический образ, но и этнографический портрет народа.
Зауркан Золак, взяв трубу — реликвию убыхов, доставшуюся ему от старца Соулаха, выходит из хижины, «миновав все четыре растущих перед хижиной дерева, он останавливается над обрывом и начинает трубить». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 17).
Звук трубы оказывает сильное воздействие на Шараха Квадзба, и он делает запись в своей рукописи: «Я впервые в жизни слышу звуки этой трубы, одновременно и страшные, и жалобные, похожие на крик раненого зверя (в оригинале — льва. — В. Б.). Эти звуки то поднимаются высоко, как дым над крышей, то, унесенные ветром, жалобно умирают где-то вдали. И я слушаю их и думаю: почему бы этой трубе не закричать еще громче и еще жалобнее, так, чтобы заплакали все, кто ее услышит. И почему бы всем, кто ее услышит, не обнажить головы, вспоминая ушедший из истории народ. Трубит последняя труба убыхов, и беда не в том, что трубящему в нее столетнему старику уже никогда не стать снова ни ребенком, ни юношей, ни воином. Беда в том, что ими уже не станет и никто другой, потому что самый последний убых — это он!» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 17-18).
Стороннему наблюдателю может показаться, что Зауркан Золак с психическими отклонениями: в присутствии Шараха он общается с мертвецами, разговаривая с ними вслух. Однако в поведении Зауркана нет даже маленькой толики сумасшествия. Он мудрый человек. Узнав, что его, столетнего старика, живущего на отшибе, вдали от людей, посетил самый почетный гость из далекого и роднoгo Кавказа, он оказывается в сложном положении. Зауркан не в состоянии принять гостя по-убыхски, по-горски, как это бывало раньше до выселения в Турцию. Эта традиция исчезла, ибо уже нет самого народа. Но он своей речью создает иллюзию приема гостя. Таким образом последний убых хочет показать, что они умели соблюдать истинное гостеприимство. С другой стороны, герой как бы просит прощения у Шараха Квадзба за то, что он не может следовать нормам этики.
Приступая затем непосредственно к рассказу о судьбе убыхов, Зауркан Золак вспоминает об одном эпизоде из жизни на родине и адыгскую сказку о муравье. Как-то он с бабушкой шел на мельницу. Бабушка несла на голове бурдюк, полней зерна, а свободными руками сучила шерсть. И язык у нее не оставался без дела: рассказывала внуку адыгейские (адыгские. — В. Б.) сказки и прибаутки.
263
«Один раз... она остановилась и показала на муравьев, переползавших куда-то, пересекая нашу тропинку:
— Смотри, они идут в поход. Можешь остановить их?
— Сейчас увидишь, — крикнул я и хотел наступить на муравьев, но бабушка не позволила:
— Хочешь показать, что ты сильней муравьев? А вдруг нас с тобой встретят в лесу всадники с оружием и убьют нас или затопчут копытами. Разве можно убивать слабого только из-за того, что он слабый? Ведь иногда самый маленький и слабый бывает самый умный». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 26).
И затем бабушка рассказала небольшую сказку о судьбе одного муравья.
«Был когда-то один человек, который понимал все языки: и волчий, и заячий, и муравьиный. Однажды, идя по лесу, он нечаянно наступил на муравья, и муравей, рассердившись, крикнул:
— Какой это дурак идет, не глядя под ноги?
Услышав это, человек поймал муравья и, положив на ладонь, с удивлением стал рассматривать его.
— Какая у тебя большая голова!
— Это чтоб было куда прятать ум, — сказал муравей.
— А почему у тебя такая тонкая талия?
— А потому, что я живу не ради того, чтобы есть, а ем ради того, чтобы жить.
— Сколько же ты съедаешь за целый год?
— На один год мне хватит одного пшеничного зерна, — сказал муравей.
— Хорошо. Посмотрим... — сказал человек и посадил муравья в коробочку, бросив ему зерно пшеницы.
Через год, вспомнив о муравье, он открыл коробочку и с удивлением увидел, что муравей съел за год только ползерна.
— Почему ты съел только ползерна? — спросил человек.
— Потому что тот глупый человек, который без всякой вины бросил меня в эту темницу, мог вспомнить обо мне не через год, а через два, и я на всякий случай оставил ползерна, — ответил муравей». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 26-27).
В словах мудрой бабушки Зауркана Золака и сказке заключен определенный философский взгляд на жизнь, который формировался веками. «Убивать грех, убивать слабого еще больший грех», «Возлюби ближнего, как самого себя» (библейская заповедь), «И слабый должен иметь такие же права, как и сильный, ибо все одинаковы», «Делая что-то, думай о последствиях», «Знания — это еще не мудрость», «Живя сегодня, не надо забывать о завтрашнем дне, который обязательно наступит», «Личные корыстные интересы иногда губят целый народ», «Хочешь выжить — подумай о смерти» и т. д. — эти мысли, логически вытекающие из сюжета о муравьях, свидетельствуют о духовном состоянии самого повествователя, Зауркана Золака, который прошел с народом трагический путь. К таким философским заключениям он не сразу пришел. В начале он был горяч,
264
воинственен и наивен, гордился тем, что был «ординарцем» предводителя убыхов Хаджи Берзек Керантуха, который, согласно роману, повел народ по гибельному пути. Но затем, после многих испытаний, одиночества, Зауркан ясно стал понимать (хотя и сомнения не покидали его) ошибки прошлого, которые привели к большой трагедии.
Следовательно, динамичность, диалектичность души, внутреннего мира, мировосприятия — важнейшие элементы образа главного героя, да и многих персонажей романа Б. Шинкуба. В произведении почти отсутствует идеологическая или иная заданность, которая, как правило, ведет к одностороннему, упрощенному и блеклому раскрытию характера, эпохи. Исключение, видимо, составляют некоторые эпизоды, связанные с характеристикой ряда представителей высшего сословия общества в лице, например, предводителя убыхов Хаджи Берзек Керантуха (о котором еще скажем ниже), Алоу-ипа Шардына и других, с чрезмерной идеализацией (со слов Шараха Квадзба) исторических процессов, которые происходили на Кавказе (в т. ч. в Абхазии) в 20-30-е годы XX в. Здесь ощущается, хотя и слегка, влияние классового подхода. Дворянское или княжеское происхождение не порок, оно не источник больших ошибок, ибо порочность, иррационализм взглядов, близорукость в политике, нерасчетливая эмоциональность, гордыня (притупляющая ум, именно ослепляющая человека, а не гордость, забота о чести вообще) и т. д. обычно присущи представителям всех слоев общества. Возможно, прав Хагур — герой исторического романа адыгейского писателя И. Машбаша «Жернова», посвященного Кавказской войне XIX в. на Северо-Западном Кавказе, когда он говорит о князьях и дворянах: «... говорят, что князья и уорки сильно печалятся о своем народе, о его счастье радеют. Неправда это — они заботятся о своей важности, о своем гордом имени и о возвышении над людьми, а не судьбой каждого соплеменника озабочены» (25). Однако в образе шапсугского князя Сафербия Зана И. Машбаш показывает историческую личность, переживающую не только о собственном положении, но и о судьбе народа. Нельзя игнорировать тот факт, что решение глобальных национальных проблем, вопросов войны и мира часто зависело от высшего сословия, которому традиционно доверяли крестьяне. Хотя, заметим, что и авторитетные представители крестьянства тоже участвовали на вечевых собраниях, где обсуждались крупные проблемы (об этом свидетельствует и «Последний из ушедших»).
Ценность образа Зауркана Золака заключается не только в том, что он понял ошибки и открыто рассказывает об историческом пути убыхов, но и в том, что в ходе повествования мы видим раскаивающегося за всех и за себя человека, хотя уже ничего не вернешь. В итоге он становится мудрым, личностью, которая рассуждает о философии истории убыхов, но герой остался один, без рода, племени, без народа.
Есть и другая сторона повествования, которая имеет огромное значение для самого Зауркана. Появление абхаза Шараха Квадзба (сородича по материнской линии; мать Зауркана была абхазкой), как уже отмечалось, было величайшим
265
событием для столетнего старика, ибо, несмотря на затворническую жизнь, Зауркан жаждал встречи именно с таким почетным гостем, тем более из Абхазии. Он внутри себя носил тяжелую ношу — воспоминания о прошлом, которые необходимо было рассказать близкому по крови человеку, именно по крови; только он мог сохранить и передать будущим поколениям память о былом величии и трагедии народа. Более того, у последнего из убыхов появилась возможность погрузиться в историю, в свое прошлое; воскрешая пройденное словом (мастерским словом), герой возрождает себя; ему важно войти в мир прошлого, этому способствует сам процесс повествования, который иногда доводит его до экстаза. Мысль героя сосредоточена на прошлом, а будущее бесперспективно, ибо там нет продолжения рода, национальных традиций, обычаев, языка... В повествовании ощущаются черты мифологического мышления, которое, по утверждению М. Элиаде (26), сохраняется по сей день.
Зауркан Золак постепенно рассказывает как убыхи шли к своему концу. С одной стороны, он участник и свидетель событий, объективно повествующий об истории народа. Он перед Шарахом Квадзба предстает как горевестник (ашәаџьҳәаҩ), поэтому его речь насыщена соответствующей лексикой, рассказами о жизни убыхов, от которых веет могильный холод, печаль смерти. Жизнь убыхов как бы заключена в черную рамку, которая, благодаря речи повествователя, превращается в экран, и на экране читатель видит длинные кадры из жизни народа с участием самого Зауркана Золака. С другой стороны, за кадром слышен рассудительный, критический голос последнего из убыхов: он оценивает события, персонажей, он ничего не идеализирует, говорит об исторических явлениях и процессах, о людях, учитывая их внутреннюю противоречивость и сложность. В его речи заложены национальная самокритика, обобщающие философские начала, которые наталкивают читателя на глубокие размышления, связанные с общечеловеческими проблемами. Антиномичность — важнейшая черта характера самого Зауркана Золака и многих персонажей, о которых он говорит. Речи главного повествователя присуща оппозиционность: она раскрывается в его мыслях, образах, в конфликтах собственного «Я» того или иного персонажа с этническим «Я», особенно в условиях кризисной ситуации перед выселением в Турцию и жизни в инонациональной среде, в отрыве от родины и экосистемы, в которых формировалась многовековая национальная культура.
Рассказ Зауркана убеждает, что национальная культура, которая включает в себя язык (один из самых важных компонентов культуры), обычаи, традиции, фольклор, этику отношения человека к природе, литературу (если она есть), может сохраниться и развиваться в лоне родной природы, на базе собственной историко-духовной почвы, родины; выбив у нее почву, обрекаешь ее на медленную смерть, хотя эта культура может исчезнуть и на родине, если создать искусственную среду для ее растворения, ассимиляции (в частности, целенаправленное массовое расселение представителей иного народа и культуры среди аборигенов, запрет родного языка коренного населения, отсутствие национальных
266
школ и т. д.). Зауркан Золак утешает себя, что язык не может бесследно кануть в Лету. Обращаясь к Шараху, который сказал ему, что он нигде, ни в Турции, ни в Сирии, ни в других странах, не встретил человека, кроме него, знающего убыхский язык, он утверждает: «Нет, мой дорогой Шарах, язык не может умереть так просто, как тебе кажется, потому что он живет не только на кончике языка человека, но и внутри него, и не только внутри него, но и внутри воды, земли и камня. Я верю, что там, в земле убыхов, ветка с веткой, камень с камнем и ручей с ручьем и сейчас еще продолжают говорить на том языке, на котором говорю я!» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 29). Он также подчеркивает: «А могила наших предков с камнями у изголовья? Это неправда, что камни молчат, они тоже способны заговорить с тобой, если у тебя не отсохла память...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 29). К сожалению, все это уже «архив» истории, время показало, что язык главным образом живет до тех пор пока жив народ в полном смысле этого слова.
Прежде чем приступить к описанию исторических событий, определивших судьбу убыхов, повествователь сжато, но емко рисует этнографический портрет убыхов. В данном случае речь Зауркана напоминает, например, этнографические очерки об убыхах первого абхазского ученого-этнографа, публициста, подполковника царской армии С. Т. Званба (Званбай) (27). С. Званба в очерке «Зимние походы убыхов на Абхазию» (1852) дал великолепное описание общественного строя убыхов (28), который структурно во многом совпадал с известной в истории «военной демократией». В таком обществе все его члены имели одинаковые права, даже при выборе предводителя народа. Особое внимание обращалось на характерные черты личности, его подвиги, мужество, «спартанскую» физическую подготовку и, вероятно, ораторские способности; социальное происхождение почти не бралось в расчет. По словам Зауркана, «... каждое поколение мужчин воспитывалось как поколение воинов... В горячее время года, каждая семья осязана была по первому сигналу собрать в поход воина. Десять мужчин избирали из своей среды десятника, десятники из своей среды — сотника, а сотники — тысячника. Когда в поход шло несколько тысяч человек, то выбирали :otueroпредводителя, такого, кто не раз видел блеск шашек, был опытен, терпелив и храбр. После того как он бывал выбран, его приказания становились законом для всех воинов, кто бы они ни были — крестьяне или дворяне». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 33).
Впрочем, в Убыхии, как свидетельствуют многие исторические материалы, не было княжеского сословия, как у большинства абхазо-адыгских народов и субэтносов; общество состояло в основном из крестьян и дворян, между которыми существовали аталычные отношения. Как утверждает Зауркан Золак, сами крестьяне часто были инициаторами установления «родственных» (аталычных) связей с дворянами. «Иногда крестьяне договаривались об этом еще заранее, еще ло рождения ребенка, посылали гонцами к отцу будущего своего воспитанника :ачых почетных людей деревни и через них просили у дворянина дать возмож-
267
ность дотронуться до его подола — это значило породниться с ним. Если дворянин отправлял к ним на воспитание сына и был при этом богатым и могущественным, то они смотрели на него как на своего покровителя и надеялись на его помощь». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 30). Да и сами дворяне не отдавали своих детей на воспитание кому попало, они перебирали крестьянские роды, останавливались на более многочисленных и крепких, на которых в той или иной ситуации можно опереться.
Кроме того, повествователь рассказывает о хозяйственной (охота, земледелие, скотоводство, рыболовство и т. д.) и иной деятельности убыхов. При этом он не скрывает и негативные стороны бурной жизни народа, которые приводили к неоправданным страданиям. «Надо сказать правду, — говорит герой, — у нас, в стране убыхов, никогда не было спокойствия: грабежи и набеги, продажа рабов за море, в Турцию, вражда между родами, с соседними племенами, похищение женщин и кровная месть — все это было, и нам казалось, что и не могло быть иначе». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 33). В молодости, когда убыхи еще жили на родине, Зауркан Золак не доходил до такой национальной самокритики. Участие в грабежах и набегах считалось героическим поступком, а кровная месть являлась обычным явлением. (Это, в частности, отразили народные героические песни и предания XVIII—XIX вв.) В них могли участвовать и вооруженные женщины-воины (о таких женщинах говорилось при анализе романа Д. Гулиа «Камачич»),
Обобщая последствия войны убыхов за свободу до махаджирства, герой приходит к печальному заключению: «Война шла не год и не два, а гораздо дольше... Да, дорогой Шарах, это было такое черное время, что, наверное, самая сильная лошадь не смогла бы переплыть ту реку крови, которую мы пролили тогда. Но сколько бы ее ни было пролито, она все равно не принесла убыхам ничего, кроме несчастья, а ведь самая горькая кровь — это та, которая пролита напрасно... Мы еще не представляли себе тогда ни силы русского царя, ни числа его солдат и еще не понимали истинных намерений турецкого султана, который подстрекал нас на эту войну с самого ее начала». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 32- 33). Через некоторое время герой, оценивая трагический опыт убыхов, приходит к философским размышлениям, связанными с философией истории и выраженными образно. Повествователь сравнивает жестокую жизнь с бурными морскими волнами, которые иногда крушат все на своем пути. «Боже мой, сколько же времени прошло с тех пор (со времен Кавказской войны. — В. Б.) и сколько раз с тех пор все менялось в этом постоянном мире! Жизнь часто сравнивают с морем, и это правильное сравнение. Потому что, как в жизни, его безжалостные волны иногда сокрушают и хоронят на своем пути все живое, а иногда, словно удовлетворясь первой легкой добычей, быстро отступают назад. Но там, где они прокатились туда и обратно, жизнь все равно исчезает, как остатки воды, высыхающие среди раскаленных песков. Я всегда вспоминаю это, когда думаю о том, что случилось с ними, убыхами, и дай бог, если я сумею рассказать тебе все
268
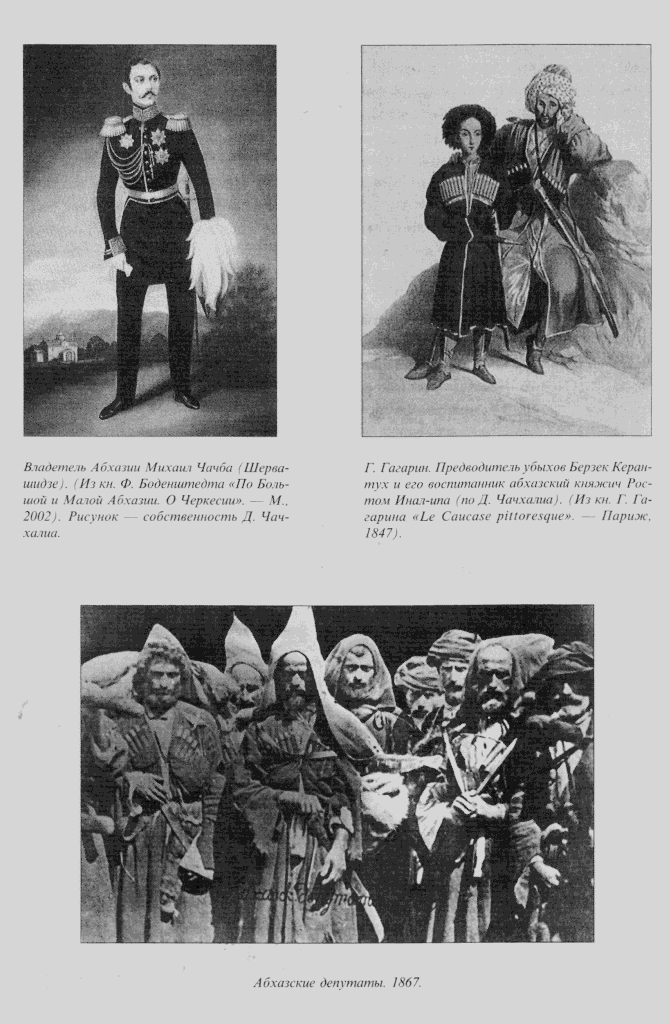
269
по порядку...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 36). Вдруг Зауркан Золак резко меняет тон разговора и вносит в свою речь трагическую ноту, его обреченный голос не дает никаких шансов на перспективное будущее: «Ах, дад Шарах, когда плакальщицы кричат и до крови раздирают себе лицо и грудь над гробом, от этого становится легче только родственникам. А мертвому это все равно уже не поможет. Не так ли и с моим рассказом? (в оригинале — “с моим старчеством”. — В. Б.)». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 33). Невольно вспоминается стихотворение поэта Ю. Лакербая (пишет на русском языке, хотя хорошо знает родной язык) «Исповедь убыха», которое написано, по утверждению автора, до выхода романа «Последний из ушедших». Читая произведение Лакербая, естественно, представляешь образ Зауркана Золака, и кажется, что это его исповедь:
Забывают мои одежды,
И оружие мое, и речь.
Только имя осталось прежним.
Для чего мне имя беречь?
Узнаю я гнездо орлицы.
Понимаю шелест змеи.
А вокруг все чужие лица —
Ни очага, ни семьи!
Кто — от яда,
Кто — предан, продан,
Кто под гребнем крутой волны...
Переврали дела и годы Летописцы со стороны.
Перевалы — в алмазном сверке,
Но бесстрастны они, глухи.
И, названия их исковеркав,
Сочиняют теперь стихи.
Снег весной, как вино, забродит.
Оглушителен крик реки:
— Посмотри!
Земляки уходят.
Туго стянуты башлыки,
И бредут они тихо-тихо,
И вода пожирает след...
Ни нашествия и ни ига.
Есть земля.
А народа нет! (29)
Вообще объективное повествование Зауркана часто прерывается краткими размышлениями героя вслух или пояснениями и т. д. Эти небольшие «антракты»
270
позволяли не терять из виду слушателя Шараха Квадзба (старец, прерывая рассказ, постоянно обращается к нему: «Дад Шарах...»); давали возможность Зауркану Золаку подвести черту под теми или иными событиями, оценить исторические процессы и высказать обобщенные мысли, которые по сути были похожи на приговор мудрого многоопытного судьи, вынесенный историческим событиям и личностям. В оценочной речи главного героя просматривается позиция самого Б. Шинкуба. Другое дело: соглашаться или не соглашаться с заключениями Зауркана, которые высказываются слушателю.
В первой же части повествования Зауркан рассказывает о многих персонажах (некоторые из них исторические личности: например, Хаджи Берзек Керантух, Михаил /Хамутбей/ Чачба /Шервашидзе/, Гечба Рашид, Маан /Марганиа/ Кац и др.; ряд из них вызывают неоднозначные размышления).
Рассказ об этих героях показывает, как мировосприятие самого Зауркана Золака постепенно менялось. На процесс трансформации взглядов главного повествователя оказали мощное воздействие исторические события 60-х годов XIX в. и трагедия родного народа, которая была осознана им позже, после махаджирства, под чужим небом. Но уже невозможно было что-либо исправить. И не случайно Зауркан подробно рассказывает о предводителе убыхов Хаджи Берзек Керантухе (30), с которым он был тесно связан. В повествовании о Берзеке, в зависимости от исторических обстоятельств, возраста и настроения Зауркана, проявляют себя два уровня, два способа создания образа предводителя убыхов. В итоге через восприятие главного героя раскрываются две ипостаси Хаджи Берзек Керантуха.
Первый уровень связан с идеализацией, мифологизацией, героизацией образа предводителя. Отсюда и соответствующая речь, лексика, художественные средства. Героизация Керантуха была порождена романтическим, возвышенным отношением юного Зауркана к предводителю. Зауркан Золак, не скрывая, говорит: «Как и многие молодые убыхи, я был опьянен славой и храбростью Хаджи Керантуха. Я так любил его, что всегда был готов преградить своим телом дорогу каждой пущенной в него пуле... Три года я был рядом с ним (в качестве телохранителя. — В. Б.) и старался подражать ему во всем...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловкою; 36). По словам Зауркана, слава пришла к Керантуху не сразу. Когда его грозный дядя Хаджи Берзек, сын Адагвы, вел войны, Керантух ничем не отличился, часто прохлаждался и играл в нарды. Но после Хаджи Берзека, сына Адагвы (Дагомуко) Керантух стал предводителем убыхов, и не без влияния большого авторитета дяди, о котором так писал свидетель исторических событий на Кавказе А. Ф. Рукевич: «Горцы, населяющие эту часть побережья, принадлежали к племени убыхов, находившегося под властью князя Берзекова, который пользовался, благодаря своим личным качествам, громадным авторитетом не только у своих, но и вообще у других горских племен. Это был рыцарь по своему характеру и в то же время человек большого ума и военных дарований... Я... слышал, что под эгидой этого благородного представителя убыхского рыцарства
271
воспитывались даже дети владетельного князя Абхазии Шервашидзе (Хамутбея /Михаила/ Чачба. — В. Б.)» (31).
Встав во главе убыхов, он неожиданно проявил и твердость, и храбрость в боях, и страсти тех, которые сомневались в правильном выборе предводителя, улеглись. Он умел убедить людей словом, увлечь за собой. Предводитель обладал всеми необходимыми качествами лидера. Зауркан Золак, стараясь не пропустить ничего, ярко рисует портрет Керантуха: «Он был уже не молод, но у него не было седых волос, он был среднего роста и крепкого сложения, двигался быстро, как огонь, голос у него был сильный, громкий, а взгляд тяжелый и властный. Он любил подолгу смотреть на человека, пока тот не Отведет или не опустит глаза». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 36).
Сравним: своеобразный портрет Керантуха рисует А. Фонвиль (32) — очевидец и участник событий 1863-1864 гг. на Северо-Западном Кавказе: «...Хаджи-Керандук... большой весельчак, человек лет 60-ти, с длинной, черной бородой и с пренеприятной физиономией. Он говорил вообще мало, но каждый раз, что мы на него смотрели, он считал нужным почему-то улыбаться; в его глазах было какое-то особенно зверское выражение. Его рекомендовали нам как воина, необычайная храбрость которого вошла в народную пословицу. Два широкие рубца на лице его показывали, что он не раз бывал в схватке с русскими» (33). Вместе с тем, предводитель убыхов чрезмерно эмоционален, горд, горяч и вспыльчив. Эти черты характера не могли не сыграть роковую роль в решении ключевых проблем будущего народа, ибо слово всенародно признанного лидера играло решающую роль.
Второй уровень раскрытия образа Хаджи Берзек Керантуха связан со снятием ретуши с лица предводителя Заурканом — теперь уже умудренным старцем. «Сейчас, когда долгие годы умудрили меня опытом жизни, я, вспоминая, что думал и что делал и тогда и потом Хаджи Керантух, вижу, что он был слишком необузданным, слишком недальновидным человеком. Но в те годы моя молодость и моя неопытность ничего этого не замечали», — признается герой. (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 36).
Зауркан Золак поняв, что Керантух является одним из главных виновников трагедии убыхов, усиливает критическую интонацию своей речи, одновременно включая в повествование образы персонажей, не разделяющих точку зрения предводителя народа; но их оказалось очень мало, всего два-три человека (Дзапш Ахмет, сын Баракая, владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба и др.).
Характер Хаджи Керантуха особо проявился во время встречи предводителя с русским генералом и Хамутбеем Чачба у побережья реки Мзымта (34), а также на последнем Совете убыхов перед выселением и во время махаджирства. Зауркан здесь, как часто он делает, дает слово самому герою, активно использует диалог. Это способствует более яркому отражению столкновения непримиримых позиций по проблемам войны с Россией или примирения с ней, выселения или невыселения. При этом повествователь не размещает персонажей на двух полю-
272
сах со знаками плюс и минус, т. е. не делит их на положительных и отрицательных, хотя влияние подобной литературной традиции иногда ощущается. Б. Шинкуба понимал, что в противном случае трудно было бы показать сложнейшую эпоху махаджирства. Естественно, у каждого героя своя правда, однако конечной точкой отсчета, мерой оценки действий исторических лиц является итог — гибель, исчезновение целого народа. Это наблюдается и в речи Зауркана Золака. И читатель, в частности, исходя из «итога», симпатизирует Ахмету, сыну Баракая, Хамутбею Чачба и другим; видя в их деятельности главное и ценное, он может простить им недостатки и ошибки.
В русле исследования данного вопроса особый интерес представляет рассмотрение некоторых оппозиций: Хаджи Берзек Керантух и Хамутбей Чачба; Дзапш Ахмет, сын Баракая и Керантух, Дзапш Ахмет и его брат Ноурыз. Есть в романе и другой тип оппозиции, как Хаджи Берзек Керантух и Шардын, сын Алоуа (воспитанник Золаков), в основе которого лежат меркантильные интересы. (В данном случае в момент выселения дворяне Керантух и Шардын борятся за влияние на большой род крестьян Золаков: с кем из них они выселятся в Турцию, тому опорой они станут на чужбине.)
Во время встречи у берегов реки Мзымта состоялся жесткий разговор между Керантухом, царским генералом (у него нет имени, ибо он исполнитель воли власти и потому не свободен в своих решениях) и Хамутбеем Чачба, в котором участвовал и Ахмет Дзапш. Речь Керантуха была импульсивной, чрезмерно эмоциональной, он стремился показать себя патриотом, отстаивающим интересы народа. Вероятно, предводитель был искренен, но нехватка мудрости, близорукость в политике ограничивали его возможность правильно анализировать реальную ситуацию, которая иногда требует дипломатического подхода, отступления назад, сохранив главное — народ. Генерал, с присущей военному прямотой, обвинил Керантуха в измене, и в его словах есть доля правды. «Ты, Хаджи Керантух, — сказал генерал, — принадлежишь к знаменитому роду Берзек, ты человек высокого происхождения, и тебе не подобает сегодня делать одно, а зайтра — другое. Его величество император пожаловал тебе чин и жалованье, но ты оказался недостойным милостей императора. Когда началась война, ты отказался от пожалованного тебе императором чина и звания. Вместо того чтобы соблюдать верность России, ты сблизился с турками... С тех пор ты нарушаешь заключенные с нами условия, постоянно держишь под ружьем все мужское население, нападаешь на наши укрепления... Ты все еще возлагаешь надежды на турецкого султана. Я не хочу тебя оскорблять, но не нахожу для твоих поступков другого слова, как измена». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 40-41).
На это последовал такой же прямой, резкий, но во многом справедливый ответ Хаджи Берзека: «Господин генерал, тебе следует поосторожнее выражаться, когда ты говоришь со мной,.. Я стою на своей земле, и не в кандалах, а с оружием... Да, правда. Я совершил бы измену, если бы, как некоторые другие
273
владетельные князья на Кавказе (Керантух имел в виду прежде всего Хамутбея Чачба. — В. Б.), ради ваших чинов и ваших серебряных рублей предал бы свой народ. Но... как видите, меня ничто не соблазнило (35). Но, господин генерал, как назвать того человека, который пришел сюда с бесчисленным войском, чтобы выгнать убыхов с их земли?.. Да, ты сказал мне правду: мы когда-то приняли ваше подданство, надеясь, что нам в этом подданстве будет хорошо жить. Но наши надежды были обмануты... Когда вы во время войны не можете защищать от турок это побережье, вы уходите, оставляя его и нас на произвол судьбы! А когда возвращаетесь — начинаете бранить нас изменниками! Какой же, я спрашиваю, мир может быть заключен между нами?» (III; 49-50).
В разговор вступает Хамутбей Чачба, воспитанник убыхов. Он пытается убедить Керантуха согласиться с предложениями царского генерала, не вступать на тропу войны, не делать опрометчивого шага, от которого зависит судьба народа. Хамутбей говорит на абхазском языке предводителю убыхов: «Если через горный перевал ведет только одна дорога и другой нет, то приходится идти по этой дороге... Не обижайся на мои слова, но у вас, убыхов, уже нет времени на колебания и нет двух дорог через перевал». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 43). Однако Керантуху было что сказать абхазскому князю (речь Керантуха неоправданно сильно сокращена в переводе К. Симонова и Я. Козловского); он напомнил Хамутбею, что тот вместе с царскими генералами в прошлом неоднократно участвовал в усмирении убыхов, да и некоторых абхазских вольных обществ Дала и Цабала (Цебельды). При этом Хаджи Керантух одним штрихом, но метко характеризует предшественников Хамутбея Чачба на посту владетельного князя — Келешбея и Сефербея Чачба, о которых говорилось во второй главе данного труда (анализ произведения Г. Гулиа «Черные гости»), «Если сегодня твой дед Келешбей, царство ему небесное, когда-то объединивший всех нас, — говорит Керантух Хамутбею, — был бы жив, ни вы, абхазы, ни мы, убыхи, не оказались бы на краю пропасти. Нам так сейчас не хватает его ума, мудрости, смелости и энергии. Был бы с нами, он обязательно нашел бы правильный выход. С его гибелью исчезло многое. У него не осталось никого, кто мог бы продолжить его дело. Твой отец, Сафарбей (или Сефербей /Георгий/. — В. Б.), ради чина и власти, не спросив свой народ, без выстрела уступил русскому царю всю Абхазию. А теперь, ты хочешь накинуть аркан и на нашу шею». (III; 53). Позиция Хаджи Керантуха совпадает, например, с концепцией личностей Келешбея и его сына Сефербея, предложенной С. Лакоба в работе «Асланбей» и рассмотренной уже во второй главе этого исследования.
Слова Керантуха о Келешбее свидетельствуют о том, что в эпоху Кавказской войны среди предводителей абхазов и адыгов (черкесов) не было лидера (скажем, уровня Келешбея), которому доверили бы свои судьбы многочисленные абхазо-адыгские субэтносы и общества. Да и сам Керантух, получается, не мог претендовать на роль «вождя»; значит, были на то причины, скрытые в характере
274
личности Берзека. К сожалению, его имя редко встречается в литературе, и даже в историографии он занимает едва заметное место.
В итоге, Хаджи Керантух, обращаясь и к Хамутбею Чачба, и к безымянному царскому генералу, говорит: «Никто не дарил нам эту землю. И никто не отнимет ее у нас, пока мы живы!.. Если между нами будет мир — хорошо, если нет — то мы будем воевать!» (III; 54).
Хаджи Берзек, по словам Л. Арутюнова, попал в «роковую ситуацию, из которой должен был вывести свой народ, не опираясь на его, народа, идеальные, ко чисто эмоциональные, т. е. внеполитические представления» (36). Однако не смог, в нем победило романтико-героическое представление о жизни.
Можно понять настроение предводителя, которое совпадало с этнопсихологическим состоянием народа, не желавшего признавать чью-либо власть, но не принимая его мнение и избранный им путь. Невольно вспоминаются слова русского офицера Ф. Ф. Торнау (Торнова) — автора интереснейших мемуарных произведений о горцах Северо-Западного Кавказа и Абхазии, опубликованных в 60-х гг. XIX в. в русской периодической печати (газета «Кавказ», «Русский вестник» н т. д.): «При заключении Адрианопольского трактата в 1829 году, Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии... Эта уступка имела значение на одной бумаге; на деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе как силой. Кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались... Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятною... Горцы говорили: “Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану... и никому другому не. хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог уступить”. Десять лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русскою силой, они все-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский (37), командовавший в то время черноморскою береговою линией, усиливаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсугским старшинам, приехавшим спросить его по какому поводу идет он на них войной: “Султан отдал вас в пеш-кеш, — подарил вас русскому царю”. “А! Теперь понимаю”, — отвечал шапсуг, и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. “Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми ее!” Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить упорство черкесов. Война сделалась неизбежною» (38). Образный, метафоричный ответ шапсуга, который сравнивает вольную жизнь горцев с птичкой, провоцирует некоторые философские размышления, связанные с концепцией свободы в условиях Северо-Западного Кавказа XIX в. С одной стороны, для горца как личности, так и этноса свобода является высшей ценностью, она — составная часть Адыгэ хабзэ и Апсуара. К этим чувствам горца не остался равнодушным и М. Ю. Лермонтов. В начале поэмы «Измаил-Бей» поэт писал:
275
И дики тех ущелий племена.
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных;
Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь (39).
Такая свобода не терпит даже оскорбления личности по социальным или иным мотивам, давления на этнос, посягательств на национальную независимость (в пределах целой этнической группы) и автономное существование общины (в пределах субэтноса, поселения). Такое чувство свободы безусловно сыграло ту или иную роль; в данном случае — роковую, ибо те, которые совершали насилие, были далеки от такого понимания свободы; они не могли чувствовать себя свободными, отнимая свободу у других; а свобода оскорбленного и обесчещенного горца призывала к мести, бунту, сопротивлению, к войне, она ослепляла личность, которая не замечала реальную расстановку сил и вела свой род, общину, народ к пропасти. Оказывается, такая свобода вредна, опасна и не нужна ни завоевателю, ни народу, борющемуся с захватчиками. Поэтому, во-вторых, жизнь птички не может быть абсолютно вольной и свободной. Ее может схватить хищный орел или застрелить охотник, отступивший от естественных правил гармоничного сосуществования с природой.
Образ вольной птички (да и сцена переговоров генерала с адыгским князем), зафиксированный Ф. Ф. Торнау, воссоздается и в историческом романе современного кабардинского писателя С. Мафедзева «Достойны гыбзы» (или «Достойны печальной песни», 1992). В нем автор так же, как и в романе «Последний из ушедших», для отражения двух несовместимых позиций, мировосприятий приводит «диалог-поединок» (Ю. М. Тхагазитов) русского генерала Бибикова и адыгского князя Хачимахо. Генерал сказал: «Неужели ты еще не понимаешь? Кончилось ваше время. О прежней гордости и мужестве адыгов остается только вспоминать. Вместо того чтобы смириться с неизбежным, вы закрываете на происходящее глаза...» (40). Реакция Хачимахо была адекватной. Генерал и князь по-разному трактуют свободу личности, этику; один выступает в роли завоевателя, другой — в роли борца за свободу собственного народа. Хачимахо говорит генералу: «... Наши люди... не похожи на ваших. Если вы прикажете своим людям воевать, они будут воевать, быть рабами — будут рабами, быть свободными — будут свободными. Наши люди берутся за оружие только в том случае, если нужно отстаивать ту самую свободу ...их не заставишь быть рабом... Послушай-ка, генерал (Хачимахо подошел к открытому окну. — В. Б.),
276
видишь на самой верхушке дерева птичку?.. В знак благодарности за большую науку... я дарю ее тебе. Но поймать ее ты должен сам...
— Птичку, князь, незачем ловить, — сказал генерал, — ее можно подстрелить.
Бибиков достал пистолет и начал целиться. Хачимахо, не столько осознанно, сколько инстинктивно, выбил пистолет из рук генерала...» (41).
В речи шапсуга (у Ф. Торнау) и Хачимахо (у С. Мафедзева) птичка — это символ свободы, ради которой жертвовали собой горцы. Если Хаджи Берзек Керантух искренен в своих мыслях и действиях, то он жертва этой свободы, как и подавляющее большинство горцев, а если нет — то он просто эксплуатирует это чувство в масштабах этноса в сугубо личных интересах. В романе «Последний из ушедших» Б. Шинкуба, рисуя образ предводителя убыхов, склоняется к второй версии, то есть к тому, что Керантух больше заботился о своей судьбе. Однако, думается, нельзя исключать и первую позицию — искренность Берзека. В исторических материалах личность Хаджи Берзек Керантуха противоречива, в ней сочетаются и талант храброго воина, предводителя, и изворотливость, лицемерность, непостоянство лживого человека. Только жаль, что образ Керантуха шочти исчезает во второй части повествования Зауркана Золака, где рассказывается о судьбе убыхов в Турции. Что же стало с ним, о чем он думал на чужбине? Может быть, для него, как и для Мансоу, сына Шардына перестала существовать проблема родины и народа, и он избрал конформистский путь, выгодный только ему?.. Или же он переживал за судьбу убыхов, раскаивался за свои ошибки?.. Приходится только гадать. Между тем, некоторые исторические материалы дают повод говорить об этом.
В романе вырисовываются и другие оппозиции: Хаджи Керантух и Дзапш Ахмет, сын Баракая; Дзапш Ахмет и Дзапш Ноурыз (брат Ахмета). Особый интерес представляет трагический образ Ахмета. В исторической литературе не удалось найти личности с аналогичным именем. Однако этот поиск все же дал определенные результаты: были обнаружены истоки образа. С моей точки зрения. они отчасти связаны прежде всего с достаточно известной политической фигурой 50-х — начала 60-х годов XIX столетия Измаила Дзиаш (Дзейш), сына Баракая (Баракай-ипа) — представителя одной из самых знатных убыхских фамилий (42) (как и род Берзеков). Измаил, как и герой романа «Последний из ушедших» Ахмет, был прекрасным дипломатом. В начале 60-х гг. (видимо, в 1861 г.) на очередном меджлисе («Великое свободное собрание»), созданном в 1861 г. горцами Западного Кавказа, «было принято решение отправить специальное посольство в Константинополь, Париж и Лондон с просьбой о “заступничестве”... Посольство возглавлял Измаил Дзиаш» (43). Он удачно справился с дипломатической миссией. Он также развернул активную деятельность по доставке современного оружия на Кавказ.
Кроме того, известны весьма интересные материалы о встрече императора Адександара II с абадзехами 18 сентября 1861 г., о которой писали, в частности,
277
В. Потто (44) и С. Эсадзе (45). Свидетельства об этой встрече сохранились и в записях адыгского общественного деятеля Сефербия Сиюхова (1887-1966). Он в 1914 г. записал рассказ (воспоминания) одного из очевидцев — дяди Сефербия по матери, М. М. Азаматова-Бгуашева — о встрече императора с черкесами. Рукопись рассказа хранится у родственников и друзей С. Сиюхова, впервые она была опубликована Б. X. Бгажноковым в 1990 г. в сборнике «Мир культуры» (выпуск 1). Кстати, встреча была отражена на картине «Депутация от абадзехского народа представляется государю императору в укреплении Хамкеты. 1861 г.» немецкого художника Теодора Горшельта, который долгое время пребывал на Северном Кавказе во время Кавказской войны.
В материалах мы видим и Хаджи Берзека, и Хаджемуко-Хадже (Хаджемуков), напоминающего Ахмета, сына Баракая, и талантливого оратора старца Тлише Шуцежуко Цейко, речь которого во многом совпадает с речью предводителя убыхов Хаджи Керантуха из романа Б. Шинкуба «Последний из ушедших» во время его встречи с царским генералом и Хамутбеем Чачба. И далее, вслед за Ю. Тхагазитовым (46), позволю себе привести пространные отрывки уникального воспоминания, записанные С. Сиюховым, которые отражают важные стороны покорения Западного Кавказа и способствуют более глубокому пониманию образной системы романа «Последний из ушедших», в том числе и характеры Хаджи Берзека, Ахмета и других.
«... Собрание большого количества людей на лугу напоминало огромный муравейник: все жило, двигалось, говорило.
Царь подъехал совсем близко и спешился, спешилась и вся его свита. Народ расступился, и царь со своими спутниками вошел в круг, и круг замкнулся...
Затем царь заговорил: “Я к вам прибыл не как враг, а как доброжелательный друг. Я хочу, чтобы ваши народы сохранились, чтобы они не бросали родных мест, чтобы они согласились жить с нами в мире и дружбе.
Россия — большое государство, перед которым стоят великие исторические задачи. Нам необходимо укрепить наши границы, приобрести моря для выхода к другим странам. Наша торговля с другими народами должна идти через моря. Мы не можем обойтись без Черного моря. Предлагаю дать ваше согласие на прокладку через ваши земли трех дорог к Черному морю: к Анапе, Новороссийску и Туапсе. Казна моя за это выплатит вознаграждение тем аулам, которым придется переселиться с территории, отведенной под эти дороги.
Вы должны признать подданство русского царя, это не лишит вас национальной самобытности: будете жить и управляться по своим адатам, сохраните неприкосновенность своей религии, никто не будет вмешиваться в ваши внутренние дела. Администрация и суд будут из ваших выборных людей.
Вы много десятков лет воюете храбро, но ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять самостоятельности потому, что моя армия велика и сильна. Уже ясно виден конец: Кавказ будет русским. Нет никакого разумного основания губить
278
и дальше людей. Если вы прекратите губительную войну, ваш народ сохранится и ему будет лучше жить. Русское государство будет вас охранять от врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, утихнет вражда и забудутся обиды, и через полвека вы будете жить государственной жизнью и управляться по справедливым законам.
Ваши дети и внуки воспримут грамоту и культурные навыки в ведении хозяйства, и им жить будет легче, чем вам.
В этот решительный час я прошу вас понять неизбежность покорения русскими Кавказа и принять мои условия, при которых ваш народ сохранится в наибольшей целости и будет иметь возможность жить и развиваться себе на пользу и благоденствие. Если мои условия вами будут отвергнуты, я буду принужден приказать своим генералам закончить войну в ближайшие годы, несмотря ни на какие жертвы, и царский приказ будет исполнен, но это принесет вам неисчислимые бедствия и истребление народа... Будьте же благоразумны и примиритесь с исторической неизбежностью. Царское слово крепкое, и я торжественно заявляю, что мое слово будет свято и нерушимо, это все я подтвержу царским указом”.
Полковник Лоов... на чистом черкесском языке начал переводить роковые, грозные слова...
Народ слушал в гробовой тишине. Перевод окончился. Несколько секунд стояло общее молчание. Потом Хаджемуко-Хадже (Пшымаф; абадзехский дворянин. — В. Б.)... несколько подвинулся вперед и заговорил: “У меня любовь к родине так велика, что был бы готов любой ценой сохранить ее для наших детей. Но теперь я вижу, что у нас не хватит сил оружием отстоять наши земли. Пришло время, когда мы должны войти в одно из соседних государств... Нам ближе по религии Турция, но она не хочет оказать нам военной помощи... Русских иного, нас — мало, силы неравные, и нам не устоять... Мое мнение — принять предложение русского царя, покориться судьбе, за это бог не осудит нас...”.
В задних рядах народных масс прошел какой-то шепот, который затем стал
усиливаться и вылился в мощный ропот...
Царь побледнел и спросил у переводчика, что сказал этот старец... Когда слова Хаджемукова перевел переводчик, царь сказал: “Старец сказал правильно, но, видимо, народу эти слова не понравились...”.
Вторым и последним выступил Тлише Шуцежуко Цейко. Это был высокий сухой старик с небольшой седой бородой, с суровым мужественным лицом. Цейко был известен как выдающийся оратор и человек, который никогда и «чего не боялся, всегда открыто говорил что думал. Он оглянул сборище, повернулся к царю и заговорил:
— Русский царь нам сказал, что он должен был сказать по своему долгу, его я не осуждаю, но мои слова не совпадут с его желанием. Народ рождается, как отдельный человек, один раз, как отдельный человек, он развивается, стареет и умирает. Самый большой век человека — 100 лет, а народ живет тысячелетия...
279
Нет ничего вечного под солнцем. Русскому царю понравился Кавказ, и вот он уже 60 лет ведет войну за его покорение. Но и нам люба и дорога наша Родина-мать, и мы, не жалея жизней, защищаем и отстаиваем ее. Мы должны дать ответ своим предкам и богу за это священное дело. Нас никто не упрекает, что мы щадим себя. Нет, мы обильно проливаем свою кровь и кладем свои головы... Мы гибнем, но лучше гибель, чем рабство. Русский царь нам обещает неприкосновенность наших адатов и нашей религии. Но разве это возможно! Бросьте горсть соли в кадку воды и посмотрите, что случится с солью: она растворится. Маленький народ, покоренный большим народом, должен раствориться в нем... С окончанием нашей свободы окончится и наша самобытность, иначе и быть не может. Мы храбро и беззаветно должны продолжать борьбу. Бог не в силе, а в правде. Будем биться до конца. Если погибнем за Родину, за народ, за веру, за честь, то позора нам не будет. Может, Кавказ и будет русским, но черкесы не будут рабами русского царя, пока в их жилах течет кровь.
Русский царь называет себя нашим доброжелателем... Как это странно, наш “доброжелатель” 60 лет безжалостно проливает нашу кровь... Нет, Кавказ будет или нашей любимой колыбелью, или нашей могилой, но живыми мы его не отдадим. Лучше гибель, чем рабская жизнь. Не опозорим воинской славы наших предков и не забудем первейшей заповеди: “Будь героем или умри!” Считается неприличным в лицо говорить горькую истину, но не могу не сказать, что русский царь нам вовсе не друг, а исконный и непримиримый враг и кровник. И напрасно он нас призывает к покорности. Сильные духом умрут, но не покорятся. Ну, а если слабые духом, как Хаджемуко-Хадже, и покорятся, то это не опозорит лучшей героической части черкесского народа. Тлебланы (л1ыбланэхэ, то есть сильные мужи, богатыри. — примеч. Б. Бгажнокова), смерть нашим врагам-завоевателям! Да живет и развивается священная война — Газават! Слава героям!
Старец замолк...
Эти слова подхватили сотни и тысячи, и скоро все поле огласилось грозным, устрашающим кличем.
Царь испуганно озирался вокруг...
Но Шуцежуко Цейко сделал рукой знак, и постепенно все утихло. Тогда Цейко сказал: “Царь в настоящее время наш гость, а гость — священная особа, и пусть никто не подумает, что абадзехи способны нарушить долг гостеприимства. Пусть народ расходится и ждет указания своих уполномоченных”» (47).
Итак, мы видим три подхода, три непримиримые позиции, мировосприятия, три возможных решения проблемы войны и мира, судьбы горцев Западного Кавказа. И каждая точка зрения имеет под собой почву, это — историческая реальность. Вопрос как бы ставится по-шекспировски: «Быть или не быть?» Очевидно, что проблема, волнующая Кавказ по сей день, приобрела философский характер, в ней во многом заключены секреты философии истории Кавказа. И эти секреты пытается раскрыть Б. Шинкуба.
280
Опираясь на исторические данные о Дзиаше Измаиле и другие материалы, Б. Шинкуба создал прекрасный динамичный образ героя (Дзапш Ахмета), который, не боясь, пошел против течения, открыто выступил против неверных решений и переселения в Турцию. Он был мудрым, дальновидным и гибким политиком; был предан народу и искренне переживал за его судьбу. Его можно рассматривать в одном ряду с Тахиром, о котором рассказывает Зауркан Золак во второй части повествования. Во время тех тяжелых переговоров между царским генералом, Хамутбеем Чачба и Керантухом генерал, считавший Ахмета не менее достойным представителем убыхов, попросил его высказать свое мнение о создавшейся ситуации. Ахмет фактически занял разумную позицию, которая вызвала раздражение как у Хаджи Берзека, так и у генерала. Ахмет сказал: «Вы не понимаете нас, господин генерал, а мы не понимаем вас». Разозленный Керантух подумал: «Причем мы, если они нас не понимают». Но Ахмет, сын Баракая далеко смотрел, он предвидел, чем могла обернуться для малочисленного убыхского народа война с огромной империей. На последнем меджлисе разгорелся новый конфликт между Ахметом и Керантухом, а также между Ахметом и его старшим братом Ноурызом. Даже братья оказались по разные стороны баррикад; Ноурыз, призывавший воевать до последнего убыха, был готов убить Ахмета, но его удержали. Ахмет, в прошлом упорно ведший борьбу против России, осмелился сказать то, о чем никто не решился бы говорить. В своей речи он критикует и себя, говорит, что раньше, воюя с царской армией, ему казалось, что он борется за свободу родины, а в действительности допустил, как и другие, непростительную ошибку: «Мы не должны были вести войну с бесчисленными войсками русского царя». Ахмет также подчеркивает, что некоторые убыхи (он прежде всего имел в виду Керантуха, себя и других), наделенные властью, однажды примирились с русскими, получили чины и погоны, но затем, поверив султану, повернули оружие против них; они не смогли трезво оценить реальную действительность. Это не значит, что герой одобряет завоевание, с какой бы стороны оно не шло. Совершенно справедливы слова бывшего турецкого офицера Осман-бея (о нем еще скажем ниже) о политике Порты на Кавказе, их можно отнести и к политике царизма на Северо-Западном Кавказе: «В Константинополе умы были затемнены до такой степени, что там не различали творимого на Кавказе, в земле черкесов, и играли судьбою целого народа с тем же легкомыслием, как с самою ничтожною вещью в мире. Стремясь поддержать черкесов, начинают уничтожением социального и политического их быта; подстрекая на борьбу с русскими, в то же время отрезают им путь отступления...»48. Теперь, по логике мыслей Ахмета, сына Баракая, сами убыхи могут «отрезать себе путь отступления». Завершая свою речь, Ахмет сказал: «Я вижу только два выхода для нашего народа: или погибнуть до последнего человека в битвах, или понять, что враг победил нас и — пусть теперь поступает с нами как хочет, как велит его совесть. Я больше верю тем, кто шел против нас с обнаженной шашкой, чем тем, кто тайно продавал нам свое оружие, но никогда не хотел проливать за нас свою
281
кровь. Я много раз бывал в Турции и знаю, что нас, мужчин, не ждет там ничего хорошего... Покинувший свою землю будет страдать до конца! Я знаю одно: если мы, убыхи, покинем ее — нас не будет. А теперь делайте со мной что хотите: изгоняйте или убивайте». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 73-74). Последние слова Ахмета оказали сильное воздействие на толпившихся вокруг людей. Они молчали.
А вот позиция брата Ахмета, Ноурыза: «Это не собрание мужчин, это сборище старух и гадалок!.. Если мы будем и дальше гадать, вместо того чтоб сражаться, давайте хотя бы снимем с себя мужскую одежду, не будем ее позорить... Наш дом здесь, а не в Турции и не на Кубани. Пусть трусы уходят куда хотят, а храбрые останутся сражаться, пока жив хоть один убых!» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 69). Ахмету же пригрозил: «...Как мы с тобой, рожденные одной матерью, можем примириться с русскими? Кто поднял на штыки наших двух братьев? Кто отплатит за их кровь... Клянусь покойным отцом/если ты повторишь еще раз, что хочешь примирения с гяурами, я зарублю тебя. Не доводи меня до братоубийства. Уходи! Оставь нас! (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 72). Речь, действия Ноурыза обусловлены ненавистью к врагу, жаждой кровной мести.
Сумятицу на последнем меджлисе внесло возвращение дяди Керантуха — Арсланбея Берзека с плохими новостями. Он был послан к генералу Гейману для переговоров о перемирии, но генерал категорически заявил: «Поздно. Между нами и вами уже не будет мира! Те из вас, кто согласен переселиться на равнины Кубани, пусть идут через нас, мы их пропустим, а для тех, кто хочет переселиться в Турцию, мы освободим три дороги. Пусть они идут по этим трем дорогам к морю и садятся на корабли, которые их ждут. А здесь, где вы жили, мы отныне не разрешим жить ни одному из вас». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 74). Б. Шинкуба фактически, без особого искажения приводит жесткие требования генерала В. А. Геймана (49).
Неприятная новость, переданная Арсланбеем, ошеломила всех присутствовавших на собрании убыхов, в том числе Хаджи Керантуха. И тут снова звучит четкий голос повествователя Зауркана Золака — свидетеля событий, который, используя сравнение, одной фразой отразил состояние собравшихся, напоминающее «немую сцену» в «Ревизоре» Н. В. Гоголя. «Ты, наверное, видел изломанный ураганом лес? — говорит Зауркан, обращаясь к Шараху Квадзба. — Так выглядели в ту минуту убыхи, собравшиеся в доме совета». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 74).
В конце концов совет меджлиса принял пагубное решение о переселении в Турцию, а каштановый дом совета сожгли. И с этого момента, как утверждает Зауркан, для него Хаджи Керантух перестал существовать.
Зауркан Золак дорисовывает образ Ахмета, сына Баракая. Ахмет не изменил своим словам, высказанным на последнем меджлисе, не предал себя и народ. Когда начался процесс выселения, он всеми силами пытался остановить их.
282
С обнаженной шашкой, преградив дорогу толпе (был там и Зауркан), идущей к берегу моря, к кораблям, Ахмет кричал: «Убейте меня, но пока я жив, вы не пройдете мимо меня!.. Вернитесь, пока не поздно, в свои осиротевшие дома... Вас ждут корабли. Но когда вы поймете, что вас обманули, они уже не привезут вас обратно... Те, кто ушли, — ушли, но хоть вы вернитесь, сохраните свой род!.. Почему среди вас нет настоящего мужчины, который бы сразил меня раньше, чем я увижу, как погибнет мой народ...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 91-92). А из толпы ему в ответ: «Эй, Ахмет, сын Баракая! Если бы ты желал нам добра, разве б ты отстал от своего народа? Разве б ты не пошел вместе с ним?» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 92).
Народ не понял Ахмета и продолжал свой гибельный путь.
Корабли поплыли в сторону Турции, а Ахмет один метался по опустевшему берегу, он махал руками и что-то громко кричал вслед уплывающим, среди которых был и сам Зауркан Золак; его слова не были слышны, ибо ветер уносил их. «Давайте вернемся и возьмем его с собой, — предложил Зауркан. — Нельзя же оставлять человека совсем одного». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 94). Зауркан тогда не понял Ахмета, который ни при каких обстоятельствах не собирался покидать родину. Там, на берегу, Ахмет, видимо, последний раз со слезами на глазах говорил исчезающим в морском пространстве убыхам: «Что вы делаете!.. Как можно оставлять родную землю, могилы своих предков!.. Опомнитесь!..»
Соседи по лодке не знали, как реагировать на предложение Зауркана Золака. Но пока они колебались сам Ахмет, сын Баракая решил проблему за них: раздался выстрел, Ахмет качнулся и упал в море. А его конь, верный друг, оставшись один побежал по пустынному берегу. И тут Зауркана, как и других, осенило некоторое прозрение. Повествователь с горечью рассказывает: «Мы все были в смятении. Там, на дороге, когда он задерживал нас, его не хотели слушать. Но теперь его смерть наполнила наши сердца тревогой. “Кто так поступил с собой, наверное, знал какую-то правду, которой мы не знали!” — так подумали мы, сядя в лодке, когда уже поздно было об этом думать. Страна убыхов была пуста, а несчастное тело Ахмета, сына Баракая, волны бросали взад и вперед между прибрежными камнями, словно то море, то берег попеременно тянули его к себе». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 95).
Судьба Ахмета, сына Баракая, а также других убыхов напоминает судьбу героя — Хатажука — из небольшого малоизвестного рассказа осетинского историка, писателя и публициста А. Цаликова «Последний из убыхов. Кавказская быль», который был опубликован в 1913 г. (50) По всей видимости, рассказ написан на русском языке. Произведение, похожее на так называемое «стихотворение в прозе», воссоздает страшную картину выселения горцев в Турцию, она, в частности, отражена в образе Хатажука, потерявшего всех своих близких. Автор пишет:
«Убых Хатажук был мрачен.
283
Вот уже несколько месяцев, как он вместе с тысячами соплеменников добрался до Черного моря.
Много горя пришлось испытать изгнанникам.
Люди умирали сотнями... Скот погибал от голода и изнеможения... Весь путь от моря был усеян костями павших...
Пока Хатажук добрался до берега, он похоронил отца и мать. А здесь, не выдержав холода, голода и всевозможных лишений, умерли два его младших брата и сестра.
Хатажук осиротел.
Его род, слава о котором широко гремела'по родным горам, был истреблен почти поголовно.
Побежденный, но не сломленный Хатажук не захотел остаться в руках врагов...
Повсюду он видел следы гибели родного народа, запустение, разгром...
Бешено мчался людской поток...
Скорей... Скорей... Прочь!..
Рев буйволов, ржание коней, блеяние овец, вой и лай собак, плач женщин и детей, выстрелы, заунывные песни, в которых народ-изгнанник прощался с родными горами, проклятия, взрывы бешенства и злобы — все это висело в воздухе с утра до вечера.
И над всем этим хаосом и шумом царило одно, полное глубокого смысла, то, в чем сосредоточивались все помыслы, надежды, чаяния, жизнь — одно далекое и не совсем понятное, но таинственно-заманчивое, близкое и родное:
— В Стамбул!.. В Стамбул!..» (250-251).
В этом эпизоде А. Цаликов сжато, но емко передает суть эпохи, рисует мрачный портрет махаджирства, которое ведет к гибели народа.
В рассказе автор развивает линию о неразрывной связи Хатажука с его конем. (Кстати, этот мотив встречается и в романе Б. Шинкуба.) Здесь, думается, уместно говорить о влиянии традиции русской классической литературы, например, М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»).
Конь — вот что осталось у Хатажука. Цаликов, как и Лермонтов, с пристрастием создает портрет коня, который никогда не изменяет хозяину (джигиту). В народе говорят: «В жилах лошади течет человеческая кровь». Хороший конь для горца бесценен. В «Герое нашего времени» Азамат не пожалел свою сестру Бэлу ради коня Казбича Карагёза. А Казбич никогда не променял бы Карагёза на Бэлу. Когда Азамат предложил Казбичу свою сестру, тот долго молчал, потом запел старинную песню:
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет (51).
284
Казбичу «завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось, — пишет Лермонтов, — Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином...». (С. 16). Карагёз не раз спасал своего хозяина, уводил его от погони.
У А. Цаликова читаем: «Тонконогий, стройный, с маленькой головой на гордой шее, цвета вороненой стали — он не знал равного себе в беге. Враги завидовали Хатажуку... Из каких сражений, схваток, наездов вывез его невредимый верный товарищ... С ним слилась вся жизнь Хатажука, все, что было нежного в его душе, что будило воспоминания, трогало сердце сурового воина... И теперь расстаться... В тяжелую минуту, когда потеряно все... Горько стало Хатажуку, и глухо зарыдал он на шее друга...». (С. 252).
Хатажук вынужден переселиться в Турцию, он не может оставаться на родине под властью врага. И в этом он более похож на брата Ахмета Ноурыза, сына Баракая. Но что делать с другом, конем; его невозможно вести с собой, а убивать — рука не поднималась. И он решил продать тем, с кем раньше воевал. Кто-то предложил двадцать копеек, другие смеялись. «Хатажуку казалось, что люди смеются над всем, что было дорогого, заветного в его жизни. Смеются, а он, гордый джигит, должен покорно переносить обиду. Ему показалось, что наступило время, когда все, что он считал ценным, лишилось этой ценности. И внезапно сама жизнь потеряла для него какую бы то ни было привлекательность...». (С. 253). По обычаю горцев, иной человек, оскорбивший коня (скажем, ударом плеткой), оскорблял прежде всего самого всадника, который за это мог отомстить ему. В другое время Хатажук обязательно отомстил бы за поруганную честь своего верного друга, но не та уже была ситуация. В результате он решился на крайнюю меру: «Поднял голову. Далеко в море вдавался мол, а там дальше синее небо сливалось с морем... Едва заметным движением колена повернул Хатажук коня к морю... Доехал почти до самого мола. Взмахнул плетью. Вороной красавец изогнулся, бросился в море, поплыл вместе с всадником в открытый простор, туда, где на свободе ходили сердитые волны. Плыл, а потом скрылся навеки в пучине морской». (С. 253-254).
Герой Б. Шинкуба Ахмет, сын Баракая не убивает коня, который вообще остается в стороне; все мысли персонажа, переживания сосредоточены на судьбе родины и народа. По логике Ахмета, народ без исторической родины не может существовать, но когда окончательно произошел разрыв между народом и родиной в связи с выселением, тогда его жизнь потеряла смысл. Он не мог отправиться в Турцию и в то же время не мог без народа оставаться на родине. Этим обусловлено его самоубийство.
По-другому сложилась судьба коня самого повествователя Зауркана Золака, который, в отличие от Ахмета, решил переселиться в Турцию вместе с народом. Его коня, как и коня-араша Сасрыквы — одного из главных героев эпоса о нартах, зовут Бзоу. Зауркан с болью рассказывает о Бзоу. Накануне выселения
285
он спустился с конем к ручью, выкупал его, затем, накормив его в последний раз кукурузой, повел к широкому полю, где Зауркан часто по вечерам устраивал джигитовку. «Увидев это, мать и сестра закрыли глаза руками и зарыдали, — говорит повествователь. — А мой Бзоу, ничего не зная, весело шагал за мной, иногда ласково подталкивая меня в плечо головою, словно хотел сказать: “Садись!” ... — Мой верный Бзоу, сколько раз ты спасал меня от гибели, а теперь погибнешь от моей руки, сказал я и заплакал, прижавшись к шее коня. Потом снял уздечку и погнал его по полю. У нас уже было всенародно решено, что наши кони (именно кони, а об остальных домашних животных, которых оставляли убыхи, речь вообще не идет. — В. Б.), так же как и мы, не должны попасть в руки врага, и пусть каждый, кто вырастил коня, сам его и застрелит». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 88—89).
Зауркан прицелился в ухо коня и, закрыв глаза, спустил курок, но выстрела не было — осечка. «А когда открыл глаза, — рассказывает Золак, — я прочел в добрых глазах Бзоу: “Что с тобой, наставил на меня свой пистолет, будто настал твой конец?”» (III; 122). (Эта деталь не сохранена в переводе К. Симонова и Я. Козловского.) На второй раз пистолет не подвел. Конь упал. Одновременно раздавались выстрелы в разных местах, там тоже убивали своих коней. Зауркан своими руками похоронил Бзоу. По признанию повествователя, именно тогда, возможно, жестокость закалила его. (Эта мысль отсутствует в русском переводе.)
Мотив привязанности человека (всадника) к коню и, наоборот, коня к человеку, который в контексте романа Б. Шинкуба имеет более глубокий смысл и отражает особенности этносознания, шире — философию связи человека с родиной, нередко встречается в мировой литературе и кино, в частности, в фильме «Служили два товарища», завершающемся трагическим финалом. Сценарий фильма написан в русле традиций М. Булгакова (пьеса «Бег»; по ней снят и фильм «Бег»). Действия разворачиваются в эпоху гражданской войны. Герой В. Высоцкого — белогвардейский офицер, убедившись, что нет уже смысла продолжать борьбу, решил эмигрировать. С большим трудом он попадает на переполненный корабль, который уже отходил от берега. В порту оставались его конь и близкие люди. Что же заставило героя «бежать» (сравним его с генералом Хлудовым из пьесы «Бег», который тяжело переживал разрыв с родиной)?.. Страх перед новой властью, возмездием?.. Или что-то еще?.. Не возмездие, конечно, его волновало, а одиночество в условиях чужбины, сама Россия, без которой он не мыслил свою жизнь.
Корабль постепенно отдалялся от берега. Позади оставалась родина, прошлая жизнь, душа, отделившаяся от тела, а впереди — туман, неизвестная и бессмысленная жизнь, оторванная от родных корней. Равнодушный, пустой, отчасти тревожный взгляд героя В. Высоцкого сосредоточился на коне, который не раз спасал его и никогда не предавал; конь мечется на берегу, он не может смириться с разлукой с хозяином. В итоге он прыгнул в море и поплыл за кораблем. Развязка наступила сразу: немного подумав, герой одним выстрелом из
286
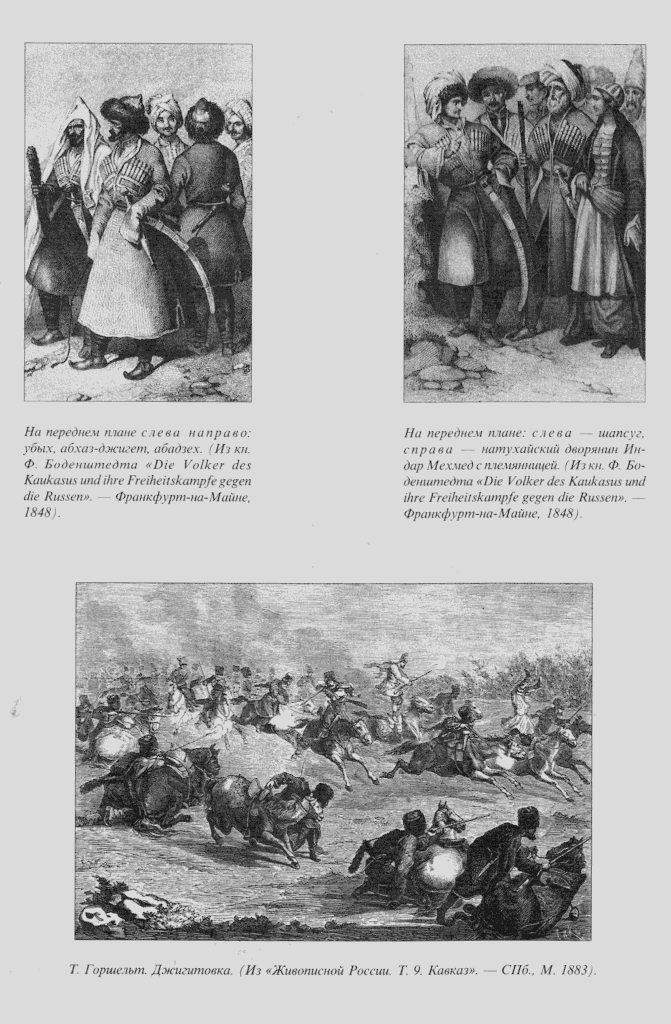
287
пистолета убивает коня, тем самым окончательно разорвав связь с родиной, а вторую пулю направляет в свой висок. Самоубийством персонаж уничтожил и веру, и надежду на возвращение в Россию. То же самое сделал и персонаж Б. Шинкуба Ахмет, сын Баракая.
Как видим, мы, вероятно, имеем дело с «интертекстом» (52) или с художественным параллелизмом, порожденным образами коня и всадника, которые широко распространены в мировой литературе, а их корни глубоко уходят в национальный фольклор.
В абхазских сказках, легендах, преданиях, эпосе о нартах, историко-героических сказаниях часто встречаются образы коней, например Бзоу (эпос о нартах), араш Абрскила (предание об Абрскиле), черный, белый и серый кони (в «Сказке о трех волосинках») и другие. В фольклорных произведениях конь выступает верным другом, главным помощником героя; именно ему он часто обязан успешным совершением героических поступков. Вместе с тем, в устном народном творчестве трудно найти эпизод с убийством коня всадником. Но, как свидетельствуют раннесредневековые археологические и этнографические материалы (в частности из Цебельды), в древности у абхазов, как и у многих других народов мира, существовала традиция захоронения лошади вместе с умершим или погибшим воином. О захоронении человека с конем на Северном Кавказе писали историки и археологи XIX в., в частности Н. И. Веселовский (53). Считалось, что и в загробном мире конь должен быть вместе со своим хозяином. Впоследствии этот обычай исчез. Однако по сей день в некоторых местах Абхазии сохранились любопытные нюансы похоронного обряда, связанные с лошадью. Об этом писал, например, Ш.Д. Инал-ипа в 80-х годах XX в.: «В день похорон лошадь покойного, покрытую черным коленкором, с седлом и нагайкой, с навешанным на седло оружием хозяина — кинжалом, шашкой, ружьем и пр. — “ставили” (аеыкургылара) во главе группы родственников, несущих траур... Лошадь держал под уздцы кто-нибудь из близких родственников покойного... Траурная процессия, ведя перед собой коней, в сопровождении обрядовой похоронной песни “Ауоу”, исполняемой двумя женскими партиями, трижды обходила по кругу двор, где покоился умерший (аеыкугалара). К концу дня какой-нибудь близкий пожилой мужчина, умеющий складно говорить, став около траурной лошади, в кругу собравшихся у гроба, произносит импровизированную “напутственную речь”, которая представляет собой обычно пересказ биографии и прославление покойника. Когда последнего несут к могиле, лошадь также ведут во главе процессии, непосредственно вслед за гробом. Перед тем как предать тело земле, в некоторых местах практиковали еще не совсем забытый обряд обведения петуха вокруг лошади. Через несколько дней... петух приносился в жертву умершему. Этот символический обряд с петухом... следует понимать, как остаток отошедшего древнего обычая принесения в жертву покойнику самого коня. В течение одного года со дня смерти ни один человек не имел права ездить на лошади умершего, а в день годичных поминок эта лошадь
288
обязательно принимала участие в специальных конных ристалищах в честь ее бывшего владельца, которые устраивались и у других народов Кавказа» (54). Например, когда хоронили умершего адыгского (черкесского) воина, в могилу с ним клали его оружие, упряжь его коня; устраивали, как и у абхазов, скачки и стрельбу в цель.
Нередко в литературе конь становится главным персонажем эпического произведения, в частности, Бзоу — в рассказе Д. Ахуба «Бзоу», серый конь (аеыхуа) — в рассказе А. Гогуа «Серый конь» и др. Однако в них авторы решают иные проблемы, связанные с нравственностью, этикой, с философией взаимоотношения человека и природы и т. д.
Сравнительный анализ романа Б. Шинкуба «Последний из ушедших» показывает, что в нем образы коня и всадника выполняют (по сравнению с фольклорными образами) совершенно другую художественную функцию. Рассказывая о судьбе коней и их хозяев, повествователь Зауркан Золак хотел усилить мотив трагизма. Вообще, как оказалось, в произведениях о выселении и эмиграции в XIX — первой четверти XX в. иногда присутствует сцена прощания или убийства коня. И мы видим несколько типов (в данном случае три типа) развязки: 1. Зауркан Золак, покидая родину, как и другие убыхи, убивает коня; 2. Ахмет, сын Баракая не уходит с махаджирами, он застрелился, но не убил своего коня; 3. Герой В. Высоцкого из фильма «Служили два товарища» убивает коня и себя.
В первом случае, Зауркан, как и соплеменники, считает, что коней нельзя оставлять врагу, их надо умерщвлять. Однако он не застрелился, ибо убыхи надеялись на возвращение на родину. Во втором случае, конь как бы предоставлен самому себе, самоубийство самого Ахмета имеет большую значимость. В третьем случае, персонаж типа героя В. Высоцкого, потеряв родину и прошлое, разочаровавшись в жизни и не видя никаких перспектив в будущем, застрелился, но прежде убил коня, чтобы он не страдал в разлуке с хозяином.
Теперь рассмотрим другую важную и интересную оппозицию, о которой истинно говорили выше.
Зауркан Золак противопоставляет Хаджи Берзек Керантуху его молочного брата, владетельного князя Абхазии Хамутбея Чачба (Шервашидзе), которого он считал дальнозорким и мудрым политиком; он чуть ли не идеализирует его. Зауркан сожалеет, что убыхи не последовали совету Хамутбея не продолжать войну с Россией и примириться с ней. Он с горечью говорит: «... тот день, когда в страну убыхов приехал их молочный брат Хамутбей Чачба, наверное, был самым последним днем, когда нам еще не поздно было сделать другой выбор, чем тот, который мы сделали...» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 46). Но Зауркан мог видеть князя только два раза — во время встречи представителей убыхов во главе с Керантухом с русским генералом (с ним и был Хамутбей Чачба) и во время посещения Хамутбеем Убыхии (около 1863 г.). А как изначально Б. Шинкуба принял за правило, герои романа должны рассказывать о
289
том, что они лично видели, перенесли. Это важная особенность повествовательной структуры произведения. И в данном случае автор следует этому принципу. В главе «Как убыхи встретили своего молочного брата» писатель прерывает речь Зауркана Золака и передает слово «автору рукописи» Шараху Квадзба, который, опираясь на исторические документы, не растягивая свою речь, рассказывает о владетельном князе Абхазии и некоторых важнейших событиях, связанных с Хамутбеем. Шарах, объясняя почему он активно вмешивается в повествование Зауркана, говорит: «В тот вечер Зауркан действительно вычерпал для меня из колодца своей памяти все, что спустя три четверти века осталось там на дне и было связано с событием семидесятилетней давности, с приездом Хамутбея Чачба в страну убыхов... Я успел заметить... необычайную цепкость памяти Зауркана в тех случаях, когда он вспоминал о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Но в данном случае дело было не так, и он сам счел нужным предупредить меня об этом... Поэтому в данном случае, изменив своему обыкновению, я не буду приводить речь Зауркана, а расскажу об этом событии (приезд Хамутбея в Убыхию. — В. Б.) все, что, изучая эту особенно интересную для меня страницу истории абхазов и убыхов, я узнал из самых разных источников, еще до своей поездки к Зауркану... И только в заключении дословно приведу самый конец рассказа Зауркана (о встрече Хамутбея с убыхскими женщинами в трауре. — В. Б.), при всей легендарности изложения опирающийся, однако, на совершенно точно установленный исторический факт». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 46-47).
Шарах дает определенную концепцию личности Хамутбея Чачба и некоторых исторических деятелей — представителей других народов Кавказа XIX в. (наиб имама Шамиля Магомет Амин, шапсугский князь Сефербей Зан и др.), которая во многом совпадает с позицией исследователей Кавказской войны, в частности крупного кавказоведа Г. А. Дзидзария, который, как отмечалось выше, усиленно изучал историю Кавказской войны и оказывал консультативную и иную помощь писателю. Основой формирования точки зрения Г. Дзидзария стали документальные материалы из Центрального Государственного исторического архива Грузии (ЦГИАГ) и Центрального Государственного (ныне Российского Государственного) военно-исторического архива (ЦГВИА/РГВИА/), труды, статьи и записки А. В. Фадеева, Т. Лапинского, Ф. Ф. Торнау, Н. А. Смирнова, М. Н. Покровского, X. М. Ибрагимбейли, Н. Карлгофа, Е. Фелицына, С. Эсадзе, А. Лилова, С. Духовского, А. П. Берже, Я. Абрамова и др., публикации в 12-томном издании «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею» и т. д. К сожалению, ни для Г. Дзидзария, ни для Б. Шинкуба не были доступны (кроме некоторых) зарубежные архивы, исследования иностранных ученых, например, Англии, Германии, Франции, Турции и Польши, которые в той или иной степени были причастны к кавказским событиям и к геополитике в причерноморских странах. Ощутимо (хотя и незначительно) влияние марксистского понимания истории, идеологического и классового подхода к раскрытию истори-
290
ческих процессов и личностей. В итоге оно отразилось и в рассказе ученого Шараха Квадзба.
По мнению Шараха, Хамутбей (Михаил) Чачба (Шервашидзе), который был владетельным князем Абхазии с 1823 по июнь 1864 г., решил посетить Убыхию по двум причинам:
1. Вероятно, он искренне желал спасти убыхов, уговорив их сложить оружие и прекратить войну против могущественной России, которую горцам никак не победить. В этом убеждает и история самого князя — близкого родственника убыхского рода Берзеков. Шарах прав: Хамутбей действительно был воспитанником (по традиции аталычества) семьи Хаджи Берзек (Берзедж) Дагомуко (Адагва-ипа) — дяди Хаджи Берзек (Берзедж) Керантуха (Джирандука). Владетель надеялся и на свой авторитет среди горцев Западного Кавказа, в том числе убыхов. В записке начальника войск в Абхазии ген.-м. М. Т. Лорис-Меликова от 3 октября 1858 г. читаем: «Владетель Абхазии (т. е. Михаил Шервашидзе /Чачба/. — В. Б.) — воспитанник убыхов, пользуется в этом племени популярностью и влиянием совершенно исключительным. Что он у убыхов сильнее Магомет-Амина (наиба Шамиля на Северо-Западном Кавказе. — В. Б.) и прочих проповедников, в том нет сомнения, и при искреннем желании его, дело совершенного подчинения власти нашей джигетов, убыхов, ахчипсувцев и псхувцев потребовало бы никак не более 3-х лет времени» (55). Он действительно был влиятельной политической фигурой среди горцев Северо-Западного Кавказа, несмотря на то что раннее активно участвовал в усмирении садзов, убыхов, псхувцев, ахчипсувцев, цабальцев, дальцев и др.
2. Князь, естественно, думал и о себе, сохранении своего владения (княжества), и беспокоился о своем «шатком» политическом положении перед царской властью, хотя он — генерал-лейтенант и генерал-адъютант царской армии, награжденный орденами «Святой Анны», «Белого орла» и «Александра Невского», больше старался служить российскому престолу. В конце 50-х — нач. 60-х гг. XIX в. рапорты, письма-доносы на М. Чачба постоянно шли в Санкт-Петербург. Многим представителям царской администрации на Кавказе, особенно великоцу князю Михаилу Николаевичу (наместник Кавказа с 1863 г.) очень хотелось ликвидировать Абхазское княжество и устранить Хамутбея Чачба с наследственного престола владетеля Абхазии (этого добивались и противники князя в самой Абхазии). Во «Всеподцанейшем Отчете главнокомандующего Кавказскою армиею по военно-народному управлению за 1863-1869 гг.» Михаил Николаевич отмечал: «Князь Михаил Шервашидзе, вступив в сан владетеля с 1823 года и быв в начале верным слугою русского Правительства и доброжелательным правителем своей страны, впоследствии однако же, задолго до моего прибытия в край, стал пользоваться репутацией человека вредного, и для Правительства, и для своего народа. Явные и направленные в ущерб нам сношения его с непокорными горцами и с турецким правительством, своекорыстные действия по внутреннему управлению и умышленное поддержание беспорядков в среде населения аля достижения мелких целей, недостойных занимаемого им высокого положе-
291
ния, все это, конечно, давно должно было бы послужить поводом к устранению князя Шервашидзе от управления Абхазиею, если бы Кавказское начальство не было вынуждено, по недостатку средств и по множеству других забот, воздерживаться от вмешательства в дела Абхазии» (56). И далее великий князь Михаил Николаевич предлагает императору Александру II «приступить к устройству дел в Абхазии, приняв за главное основание этого устройства удаление владетеля, с потомством его, от управления страною и учреждение в ней непосредственной русской администрации» (57). Забегая вперед, скажем, что все произошло потом по сценарию Михаила Николаевича, который бвш ярым противником сохранения в пределах империи какого-либо «автономного субъекта», формы государства, противоречащие правилам функционирования империи. Впрочем, такой подход к народам Кавказа, не признававший какую-либо самостоятельность, каких-либо прав и свобод этноса, игнорировавший вековые национальные обычаи и традиции, задевавший честь и достоинство горцев, не способствовал устранению конфликтной ситуации на Северном Кавказе и Абхазии, предотвращению войны, которая в итоге обернулась величайшей трагедией — махаджирством.
В июне 1864 г. Абхазское княжество было упразднено, а Михаил Шервашидзе (Чачба) был арестован и сослан в Воронеж, где и умер 16 апреля 1866 г.; его похоронили в Моквском храме (в с. Моква Очамчирского района Абхазии), в фамильном склепе владетельных князей. Напомним, что Михаил был отцом известного поэта, публициста, общественного деятеля Георгия Чачба (Шервашидзе) (1846-1918), о котором говорилось в первой главе исследования.
Как ни странно, многовековое Абхазское княжество, как более или менее автономное государственное образование, со своими полумонархическими и полудемократическими порядками управления, в Российской империи просуществовало дольше всех других княжеств, ханств и царств после завоеваний и присоединений многих территорий Восточной Европы, Северо-Восточного и Центрального Кавказа и Закавказья.
Однако официальные круги Санкт-Петербурга и некоторые генералы на Кавказе (в том числе предшественники Михаила Николаевича на посту наместника Кавказа А. И. Барятинский и М. С. Воронцов) считали преждевременным упразднение Абхазского княжества и устранение его владетеля до покорения горцев (черкесов) Северо-Западного Кавказа. В 1862 г., когда вновь обострился вопрос об Абхазском княжестве, тогдашний наместник Кавказа А. И. Барятинский писал: «В преследовании князя Шервашидзе я не вижу никакой надобности, а скорее вред. Влияние его в Абхазии и на соседние племена, как мне известно, еще очень важно... Поэтому расположить этого человека к нам считаю очень полезным... Князь Шервашидзе, если будет предан нашему делу, может привлечь к себе самых влиятельных людей из соседних ему племен» (58).
В романе «Последний из ушедших» Б. Шинкуба создает сложный и противоречивый образ Хамутбея Чачба. В нем, в зависимости от исторической ситуации, собственное «Я» и этническое «Я» героя то сливаются, то вступают в кон-
292
фликт, как это наблюдается, например, в образе шапсугского князя Сафербия из романа И. Машбаша «Жернова». В той нестабильной политической ситуации ему, конечно, было трудно сохранить свой имидж и авторитет перед собственным народом и соседними родственными этносами. Владетельный князь безусловно был одаренным политиком, дипломатом, который в течение десятилетий сумел сохранить определенную самостоятельность Абхазии. Он умело использовал русско-турецкие противоречия и конфликты, не вступая при этом в открытый военный конфликт ни с Россией, ни с Турцией, словно следовал мудрой народной пословице: «Аҵәгьы мбылуа, акуцгьы ӡуа» («Одновременно и жарить шашлык, и не сжигать шомпол /деревянный/»). Вместе с тем, и Турция, и Россия постоянно стремились использовать его возможности и перетянуть на свою сторону. Ему часто приходилось лавировать между двумя державами. При этом религиозный фактор (на котором Б. Шинкуба иногда неоправданно заостряет внимание) не являлся определяющим в его действиях. В стратегическом плане князь все же придерживался пророссийской политики, которая в итоге обернулась для него и для народа трагедией, ибо царизм усиленно проводил колонизаторскую политику на Кавказе, не считаясь с интересами, с традициями, историей и культурой населяющих его народов, покупал и продавал своих сторонников. Словом, его совершенно не волновала судьба горцев. В этом одна из важных сторон философии истории империй, ведших бесконечные войны за расширение территорий и сфер влияний; под их натиском исчезали этносы и культуры, языки. И эта философия просматривается через всю образную структуру романа «Последний из ушедших».
Шарах Квадзба, говоря о положении Хамутбея Чачба после Крымской войны 1853-1856 гг., которая фактически завершилась поражением России, обращает внимание на один важный момент прошлого, сыгравший трагическую роль в истории абхазо-адыгских народов в конце 50-70-х гг. XIX столетия; она завершилась, как известно, массовым выселением горцев в Турцию. Эту проблему историография до сих пор почему-то обходит или особо не связывает с трагедией махаджирства. К сожалению, и герой романа Б. Шинкуба Шарах Квадзба не досказал, не углубил свою мысль, он остановился лишь на судьбе владетельного князя Абхазии. Шарах отмечает: «... Хамутбей Чачба во время Крымской войны оказался в достаточно трудном положении. Русские военные части уходили с черноморского побережья... Русские генералы по стратегическим соображениям временно оставляли Абхазию, выводили из нее все свои военные силы. Владетельный князь, почувствовав опасность своего положения, сначала уехал в Мингрелию к родственникам своей жены, князьям Дадиани, но потом, невзирая на риск, решил все-таки вернуться в свое княжество... Еще по пути к Сухуми его ожидало не сулившее ему добра зрелище: на горизонте маячили мачты двигавшихся к берегу турецких военных кораблей. Едва он успел появиться в своем княжеском дворце, как его — один за другим — стали осаждать гости...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 49). Остановимся здесь, ибо дальше рассказчик
293
затрагивает не менее сложные проблемы, связанные с наибом Шамиля Магомет-Амином, поляком Теофилом Лапинским и другими историческими личностями.
Уход царских войск из региона происходил регулярно в течение XIX в. В результате население, которое в той или иной степени примирялось с присутствием русских гарнизонов и частей на своей территории и даже налаживались какие-то связи, снова и снова оказывалось под ударами турецкой армии, возвращавшейся на свои прежние позиции на черноморском побережье. Горцам, чтобы не вести изнурительную войну против тех же турков, приходилось как-то договариваться с ними. За это потом царские генералы обвиняли их в измене, они хотели, чтобы горцы в их отсутствие самостоятельно вели войну против врага империи — Турции. И, естественно, вставал вопрос: за что народы Кавказа должны жертвовать собой? За постоянные предательства царизма, который, уводя войска, даже не оставлял горцам в помощь военную технику (пуши!, ружья, боеприпасы), не говоря о живой силе. То же самое происходило и с турками.
Поражение России в Крымской войне укрепило положение Турции в Северо-Западном Кавказе и отчасти в Абхазии. Она разными способами пыталась привлечь на свою сторону горцев, с которыми была связана уже 300 лет. Кроме того, события 1853—1856 гг. (Россия тогда воевала не только с Турцией, но и с Англией и Францией) оказали сильное воздействие на сознание народов Кавказа; они разочаровывались в мощи самодержавия, не видели в нем опоры. Это неверие и недоверие усугублялось благодаря поведению царских администраторов и военных на Кавказе, которые грубой силой устанавливали новые порядки, вступавшие в конфликт с вековыми традициями и обычаями, этикой кавказских народов. Среди горцев росло число бойцов, готовых воевать с царскими войсками. Такой заманчивый поворот событий через 7-8 лет обернулся для адыгов (черкесов) и абхазов, как уже говорили, величайшей трагедией — махаджирством, опустошением Северо-Западного Кавказа и Абхазии.
Заметим, что Зауркан Золак сказал Шараху: «Если не началась бы та большая война (т. е. Крымская война. — В. Б.), возможно, судьба убыхов сложилась бы иначе и не было бы той трагедии». И он был прав.
В романе «Последний из ушедших» владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба показан как личность, не поддающаяся уговорам турок, а также Магомет-Амина, Теофила Лапинского и др. выступить против России. Представители Турции, Англии, имама Шамиля предлагали помощь, современное оружие, славу и т. д. Многие абхазские князья и дворяне, склонявшиеся к переходу на сторону турок, упрекали Хамутбея в близорукости, в том, что он ослеп и не видит, на чьей стороне сила. Но Чачба упорствовал. По утверждению героя романа Шараха Квадзба, упорство в отстаивании своей позиции, проявленное владетельным князем в те труднейшие и опасные для его жизни дни, объяснялось двумя главными причинами: во-первых, «он лучше многих других представлял себе истинную силу русских и, несмотря на все их неудачи в Крымской войне, не верил, что они ушли из Абхазии навсегда...». (Перев. К. Симонова и
294
Я. Козловского; 50). Во-вторых, «он знал, что есть немало абхазцев, не одобрявших его русской ориентации, но знал и другое — после трех столетий владычества султана многие абхазцы, и, пожалуй, даже большинство, успев на своей шкуре достаточно хорошо испытать, что это такое, не одобрят и готовности отдаться под власть турок. И если против него вспыхнет из-за этого восстание (абхазского народа. — В. Б.), то еще вопрос, поддержат ли его турки, не найдут ли вместо него кого-нибудь другого, более для них удобного». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 50). Для подтверждения своих мыслей и научного подхода к проблеме, Шарах ссылается на статью в лондонской «Таймс», в которой подчеркивалось, что абхазы негативно относятся к туркам, мешают продвижению англо-турецких войск и не скрывают своего сочувствия к России.
«Трезво оценивая силу русских, абхазский владетель был искренен, когда хотел удержать убыхов от продолжения кровопролитной и безнадежной борьбы. — отмечает Шарах. — А то, что упорство Хаджи Керантуха, решившего продолжать эту борьбу, подыгрывалось тайными приездами сменявших друг друга турецких агентов, было хорошо известно Хамутбею Чачба и ослабляло в его душе ту меру сочувствия, которую он испытывал к убыхам, отдавая должное их мужеству...». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 51-52). Политическую целесообразность поведения Чачба герой противопоставляет недальновидности Хаджи Керантуха: «Мужества у Хаджи Керантуха хватало, а ума и дальновидности — нет». При этом Шарах открыто говорит: «Однако Хамутбей Чачба ехал на переговоры с убыхами не только потому, что его тревожила их будущая судьба, но и потому, что, пожалуй, еще больше его тревожила судьба собственная... Он не без основания считал, что непримиримость и строптивость Хаджи Керантуха называют возбуждающее влияние и на его собственных подданных — абхазцев, особенно из Цебельды и других мест». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 52). Чачба был уверен, что от успеха переговоров с убыхами зависит и сохранение Абхазского княжества.
Речь-вставка Шараха Квадзба в главе романа «Как убыхи встретили своего маточного брата» медленно прерывается, и «автор рукописи» передает слово главному герою Зауркану Золаку, ибо Шарах считал, что о дальнейших событиях, связанных с приездом Хамутбея Чачба к убыхам, должен рассказать уже сам очевидец встречи князя со своими «воспитателями». Но Шарах еще раз обращает внимание на то, что факты, изложенные Заурканом, соответствуют действительности, несмотря на легендарные подробности его рассказа.
Естественно, речь Зауркана Золака намного отличается от речи Шараха; она образна, поэтична, метафорична и философична. В речь главного повествователя Б. Шинкуба вложил весь свой поэтический дар (напомним, что писатель вошел в литературу как талантливый поэт, автор многих стихов, поэм, романов в стихах, баллад, ставших классикой национальной литературы). Поэтому неслучайно В. Кожинов назвал роман «Последний из ушедших» «подлинной поэмой в прозе» (59).
295
Чтобы усилить эмоциональную насыщенность картины трагической встречи князя с убыхами, автор мастерски использует фольклорный жанр плача (амыткума).
Заметим, что Б. Шинкуба в романе несколько раз обращается к фольклорному жанру плача (амыткума), который по сей день распространен у абхазов. (К сожалению, не все амыткума сохранены в переводе К. Симонова и Я. Козловского.) Амыткуму произносят женщины и только в дни похорон, а также в течение года после смерти у могилы умершего или умершей. Этими женщинами чаще всего бывают мать, сестра, тетя, самые близкие родственники усопшего. Для сочинения амыткумы необходим особый «поэтинеский» дар. Обычно амыткума отличается сильным трагическим содержанием, проникает в душу, передает горечь потери близкого человека, без которого жизнь живых теряет смысл. Амыткума — динамичный, «мобильный» жанр и связан с индивидуальными способностями каждой женщины-сочинительницы, она ситуативна, как правило, создается экспромтом. Ее порой трудно записать. Б. Шинкуба неслучайно обращается к этому «трагическому» жанру, ибо роман насыщен смертями, от него веет могильным холодом. Естественно, амыткума, как часть поэтики произведения, отличается от фольклорной формы. В ней ощущается поэт Б. Шинкуба. В романе амыткума часто стилизована и рифмована. А в устных амыткумах не всегда встречаются рифмованные строки, они больше напоминают структуру «белого стиха», корни которого, думается, уходят в фольклор.
В данной ситуации амыткума исполняется при живом человеке. Когда Хамутбей Чачба со своими спутниками ступили на поляну с семью дубами и святилищем убыхов, где хранилась национальная святыня Бытха, их встретили женщины в черном. Заметив среди них вдову его воспитателя Хаджи Берзека, сына Адагвы, вскормившую его своим грудным молоком, князь поспешил к ней. А та даже не посмотрела на него. Она плакала и причитала, словно стояла у изголовья покойника, плакали и остальные женщины. Хамутбею легче было умереть, чем слышать амыткуму своей воспитательницы (анаӡеи). В ней содержались такие слова:
Нан, нан (60), уабатәида, сара усыздырӡом?
Нан, нан, иуаҳахьоума сара ишысхацәаз?
Гуҳәԥыхшла исааӡаз, соуԥшәыл хазына,
Аҳцәа ирылҵыз, ахра иазшаз Ҳамыҭбеи.
Дыԥсит, аха дышԥаԥси, сара хгуаша,
Нышә даднымкыло, лаӷырӡык имоуа!
Аублаакуа дырцәыԥсит рыхуԥҳа хазына,
Аԥсуаагьы дырцәыӡит раҳ изықугуӷ’уаз!..
(III; 68)
Нан, нан, кто ты, тебя я не знаю?
Нан, нан, слышал ли ты, как я несчастна?
296
Вскормленный моей грудью, воспитанник мой,
Хамутбей, потомственный князь, рожденный править,
Умер, но какой страшной смертью?
И земля не примет его, и не будет оплакан!
Убыхи потеряли своего молочного брата,
И абхазы потеряли своего князя, с которым связывали надежды!
(Подстрочный перевод мой. — В. Б.)
Вслед за старухой запричитала и ее дочь — молочная сестра Хамутбея. В ее плаче присутствует конкретная оценка поведения князя: «Неужели из-за чина и царского серебра / Ты предал убыхов, вскормивших тебя?..». (Подстрочный перевод мой. — В. Б.).
Эта театрализованная сцена сразу же решила участь переговоров Хамутбея Чачба с убыхами; они фактически провалились, чего и добивались Хаджи Берзек Керантух и его сторонники. Князю еще не приходилось переносить такого позора и несчастья.
Зауркан Золак завершает этот важный кульминационный исторический эпизод, который мог бы отвернуть убыхов от гибельного пути, краткой, но пророческой речью Хамутбея. Он, вырвавшись из оцепенения, добежал до своего коня и вскочил на него. «Плачь, моя кормилица-мать! — крикнул он сквозь слезы. — Плачьте, мои молочные сестры! Я, ваш воспитанник, плачу вместе с вами. Плачьте, плачьте, плачьте сейчас, потому что потом не успеете! Плачьте, потому что погибла страна убыхов. А ты, Хаджи Керантух, ты, который, наверное, смеешься сейчас над тем, что я плачу, помни, что не на мою, а на твою голову падет проклятие твоего народа!» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 55).
Это — жестокая оценка, даже приговор, предварительно вынесенный предводителю убыхов Керантуху. К такому пониманию личности Хаджи Берзека пришел в итоге Зауркан Золак, такова, вероятно, позиция и самого автора романа.
Образ Хамутбея (Михаила) Чачба (Шервашидзе) особого места не занимает в художественной литературе. Как герой эпического произведения он впервые встречается в романе «Последний из ушедших». Ему не совсем повезло, как не повезло в литературе и князю, предводителю шапсугов в 20-50-е годы XIX в. Сефербею Заноко (61). Исключение составляет историческая публицистика и мемуарная литература (русская и зарубежная), написанная свидетелями событий, которая пыталась раскрыть характеры этих и других исторических личностей. Вообще художественный образ личности Хамутбея Чачба во многом совпадает с образом Сафербия Зана — одного из центральных героев романа адыгейского писателя И. Машбаша «Жернова». Оба деятеля часто оказываются перед выбором пути, на перекрестке трех дорог, где первая ведет к собственному народу, вторая — в Россию, третья — в Турцию.
Любопытны воспоминания сына бывшего турецкого великого визиря Кепризли-Магомед-паши, адъютанта Мустафы-паши (сына бывшего коменданта
297
Анапы Ахмета-паши; 50-е гг. XIX в.), турецкого офицера, майора Осман-бея, которые были переведены с французского Н. П. Гельмерсеном и под названием «Воспоминания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе» впервые опубликованы в 1877 г. в «Кавказском сборнике». Воспоминания написаны живым языком, отличаются художественностью; они не могли не оказать воздействия на писателей, пишущих о Кавказской войне. В них автор описывает исторические факты (события, личности и т. д.), увиденные и в основном пережитые им самим. Порою Осман-бей неожиданно лаконично выделяет ряд черт политического и физического портрета исторических фигур, (в том числе Хамутбея Чачба, Сефербея, Мустафы-паши, Магомет-Амина), которые дают возможность представить образы героев.
По мнению Осман-бея, владетельный князь Абхазии Хамутбей (Михаил) Чачба не принадлежал к числу вполне независимых владетелей, обстоятельства вынуждали его придерживаться «двуличной» политики. Мустафа-паша, который был назначен султаном как бы «маршалом (муширом) земли черкесов и батумской армии» (дабы подчинить двух соперничавших черкесских лидеров — Магомет-Амина и Сефербея), «не переставал обещать Михаилу всю вселенную, если тот серьезно примет участие в интересах Турции; последний ограничивался одним и тем же ответом: “Мы увидим! Мы увидим!” “Мы увидим” страшно сердило мушира. Князь, как видно, был ловкий (осторожный. — В. Б.) дипломат, не желал скомпрометировать себя; он выбирал между соперниками, в ожидании пока разъяснится политический горизонт... Придерживаясь пословицы, чтобы “волки были сыты и овцы целы”...» (62). Осман-бей считал, что было бы несправедливо упрекать за это владетельного князя, который «должен был соображаться с желаниями своих подданных — Абхазия, разделяясь на различные племена, имела в каждом своего собственного князя, — владетель Абхазии находился поэтому более или менее в зависимости от каждого из них...» (63). Очевидна связь двух образов (ипостасей) Хамутбея (Михаила) Чачба из романа «Последний из ушедших» и из мемуаров Осман-бея. Однако Осман-бей удивлялся тому, «как Михаил, человек осторожный и знающий положение, кончил тем, что, отказываясь от разумной политики, дал себя наконец увлечь Омер-паше (генерал, возглавлявший турецкие войска в Абхазии. — В. Б.)» (64).
Заметим, что, в случае с Сефербеем, мы сталкиваемся со многими интерпретациями исторической личности. В романе Б. Шинкуба он встречается один раз. О нем говорит Шарах Квадзба, который рассматривает Сефербея в одном ряду с наибом Шамиля на Северо-Западном Кавказе, Магомет-Амином (65), польским добровольцем Теофилом (Теффик-беем) Лапинским, мадьяром-«авантюристом» Бандья Иоганом (Яношом) (Мехмедбеем), английским разведчиком Брауном и другими. Они все преследуют одну цель: способствовать расширению войны горцев против России, распространению газавата (священной войны) среди черкесов. Писатель, к сожалению, одним росчерком пера односторонне характеризует этих исторических личностей. А между тем, исторические и документаль-
298
ные материалы, военная публицистика XIX в. свидетельствуют о сложности и противоречивости характеров названных политических и военных деятелей. Возможно, Б. Шинкуба счел необходимым остановиться на краткой передаче информации о сущности ряда исторических личностей, которая как бы достаточна хтя отражения оппозиций: Хамутбей Чачба и Сефербей, Чачба и Магомет-Амин, Чачба и Мехмедбей (Бандья, Банья), Чачба и Лапинский и т. д. В результате, фрагментарность образов сузила функциональную значимость персонажей. Может быть, писателя волновала и другая проблема, связанная с особенностью повествовательной структуры романа, в котором рассказчики (главным образом Зауркан Золак) — очевидцы событий. Естественно, ни Зауркан, ни Шарах и другие не являются и не могли быть свидетелями, скажем, встречи Хамутбея Чачба с Магомет-Амином или с Теофилом Лапинским, хотя Золак тогда, несмотря на юный возраст, мог знать и видеть наиба Шамиля и Лапинского на Северо-Западном Кавказе, среди адыгов (черкесов), где они в разные годы вели политическую и военную деятельность (Магомет-Амин — в 1848 /1849/— 1859 гг., Т. Лапинский — в 1857-1859 гг.), тем более Сефербея, шапсугского (по некоторым данным — натухайского) князя (умер в декабре 1859 г.; по мнению Т. Лапинского — 1 января 1860 г.). Во всяком случае, можно было бы использовать течь Шараха Квадзбы-ученого, которая могла способствовать созданию более полных динамичных образов упомянутых исторических деятелей. О них существуют разные мнения. Им, в частности, больше повезло в романах И. Машбаша «Жернова» и отчасти представителя адыгской диаспоры в Иордании М. Кандура «Кавказ» (написан на английском языке, а ныне переведен и издан на русском языке); это единственные романы в кавказских литературах, в которых более полно раскрыты образы не только Лапинского, Сефербея, Магомет-Амина, Мехмедбея (Банья), но и других известных историографии личностей: английских разведчиков, политических деятелей, журналистов и историков Дэвида Уркварта, Джеймса Белла и Джона Лонгворта, сына Сефербея Карбатыра (Карабатыра), Хаджи Берзедж Джирандука (в романе Б. Шинкуба — Адагва-ипа Хаджи Берзек) (предводителя убыхов до Хаджи Берзек Керантуха) и других. Некоторые из них (Сефербей, Магомет-Амин, Хаджи Берзек Керантух и др.) представлены в историко-публицистической книге Теофила Лапинского «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание очевидца...» (на немецком «зыке — Гамбург, 1863; на pyсcком — Нальчик, 1995; книга имеет историко-этнографическую и художественную ценность).
В произведениях Б. Шинкуба, И. Машбаша, М. Кандура, Т. Лапинского и дp. мы сталкиваемся с несколькими ипостасями ряда исторических фигур XIX столетия, в том числе упомянутых Сефербея, Магомет-Амина и Хаджи Берзека Керантуха; они в той или иной степени соответствуют свидетельствам исторических и документальных материалов.
Если Б. Шинкуба удовлетворился констатацией одной «негативной» стороны деятельности, например, Сефербея и Магомет-Амина (он отсутствует в «Кав-
299
казе» М. Кандура), то структуры образов этих героев в романе И. Машбаша «Жернова» более сложные, хотя автор не избежал чрезмерной идеализации личности Сефербея и «негативизации» Магомет-Амина. Именно в таком понимании сопоставимы литературные образы Хамутбея Чачба и Сафербия (Сефербея), созданные абхазским и адыгейским писателями; два князя, согласно романам Шинкуба и Машбаша, преследуют благородные цели: спасение народа, объединение разрозненных адыгских (черкесских) этнических групп. Оба лидера уверены, что бессмысленно воевать с Россией и необходимо идти по пути примирения. При этом Хамутбей думал и о сохранении своего княжества, а Сафербий — об единой и сильной Черкесии, в которой, вероятно, видел себя (или своего сына Карабатыра) в роли единственного лидера. Вообще в современной адыгской (черкесской) историографии наблюдается тенденция возвышения, героизации и идеализации Сефербея. Например, А. Т. Керашев в статье «Политическая деятельность князя Сефер-бея Заноко в годы Кавказской войны» пишет, что князь Сефербей являлся «одним из лидеров народно-освободительного движения адыгов в 30—50-х гг. XIX в. ...Исходной позицией политического кредо Заноко являлось представление об исконном праве черкесов самостоятельно определять свою судьбу. Сефер-бею были присущи проосманские настроения, что в значительной мере связано с его фанатичной приверженностью исламу. Однако он не рассматривал протекцию Турции как угрозу потери горцами свободы. Это его убеждение основывалось на многовековой традиции адыго-османских взаимоотношений» (66). По мнению Керашева, Сефербей видел в лице царской России главного противника независимости Черкесии, и в борьбе с ней он делал ставку на правительства Турции и европейских государств. Кроме того, князь понимал, что неразумно было бы не считаться и с военно-политической мощью России. Одной из заслуг Сефербея Керашев считает его попытку консолидации антиколониальных сил Черкесии. «Однако в этом начинании он не преуспел в должной мере. Не удалось ему преодолеть личных и идейных противоречий с другим вождем черкесского народно-освободительного движения — шамилевским наибом Мухаммед-Амином» (67). Во многом прав А. Т. Керашев, как и справедливы слова героя романа «Жернова» Берзеджа (Берзека) — предводителя убыхов, который называет Сафербия (Сефербея) своим другом: «...Сафербий, царство ему небесное, хотел мира в Черкесии, но сам же и затевал борьбу то с наибом (Магомет-Амином. — В. Б.), то с царем, то с султаном». Только вызывает сомнение утверждение Керашева о «фанатичной приверженности Сефербея исламу», которая якобы играла важнейшую роль в формировании его протурецкой ориентации. Такое ощущение возникает и при анализе образа Сафербия в произведении И. Машбаша «Жернова». Впрочем подобные пристрастия проявил и Б. Шинкуба, раскрывая характер Хамутбея Чачба. Когда, после Крымской войны, в Сухуми прибыл турок Омарбей (Омар-паша), занимавшийся при стамбульском правительстве кавказскими делами, и попытался вручить владетельному князю Абхазии письмо с воззванием великого визиря к кавказским горцам о
300
борьбе против неверных под знаменем газавата (священной войны), Хамутбей отказался принять это письмо и заявил, что он не мусульманин, а истинный христианин. Напомним, что религиозные рвения и миссионерство наиба Шамиля Магомет-Амина, если и имели частичный успех среди абадзехов, но не смогли способствовать объединению адыгских (черкесских) и абхазских субэтносов в антиколониальной войне; они больше раздражали черкесов (68), хотя среди них были и ревнители ислама. В 1860 г. в статье «Магомет-Амин», подписанной инициалом «Р» (настоящее имя автора не удалось установить), отмечалось: «...Магомет-Амин ясно увидел, что рассчитывать на проявление религиозного фанатизма между черкесскими племенами невозможно. Надо было ожидать других обстоятельств, более выгодных, которые бы передали в его руки власть над черкесскими народами» (69). Заметим, что в современной северокавказской (в частности, дагестанской и частично — в адыгской) историографии идет процесс героизации, идеализации и Магомет-Амина, который неизбежно ведет к критике деятельности Сефербея, являвшегося как бы противником содействия наибу Шамиля в объединении черкесских народов для борьбы с общим врагом — Российской империей. Такая интерпретация личности Магомет-Амина давно господствует в зарубежной историографии о Кавказской войне, в том числе в исследованиях ученых — представителей горской диаспоры в Турции, Сирии, Иордании и т. д. В статье Ж. Хавжоко «Магомет-Амин», опубликованной в журнале «Kuzey Kafkasya» («Северный Кавказ») в 1938 г., в частности отмечалось: «В конце 1857 г. ...турки под давлением Англии и Франции покидают Западный Кавказ. Сефер-бей представляется собственным силам... Для русского командования Сефер-бей не представлял опасности. Наоборот, оно с удовлетворением наблюдало разъединительную работу Сефер-бея, препятствующую усилиям Магомет-Эмина, который при минимуме благоприятных условий объединил и упорядочил внутренне Западную Адыгею. Сефер-бей был более выгоден для русского командования в роли разъединителя, чем в роли изменника, и поэтому оно предпочло оставить его в Западной Адыгее в качестве своего врага» (70). В воспоминаниях Осман-бея Магомет-Амин показан как «выдающаяся оригинальная личность» XIX столетия. Кроме того, автор мемуаров пытается создать портрет двух лидеров горцев Северо-Западного Кавказа, которых знал лично. Контраст очевиден. «Сефербей, человек большого роста, но глупый, как пробка, — писал Осман-бей, — другой — знаменитый посланный Шамиля — Магомет-Амин, человек до крайности честолюбивый, но одаренный большою деятельностью и упорством. Отличаясь совершенно противоположным характером, складом и направлением, Сефер-бей... был упрямый старик, гордился своею кровью и храбростью; тогда как Магомет-Эмин, в полной силе лет, походил на тех трибунов, которые дышат огнем и энергиею и требуют, на подобие пророка, слепого повиновения безграничной власти...» (71).
У Т. Лапинского — очевидца и участника многих событий конца 50-х годов XIX в., Сефербей — человек недоверчивый, упрямый, слепо верящий в непобе-
301
димость султана; он не имел такого авторитета среди всех адыгов, чтобы объединить их, он больше думал о себе и привилегиях своего рода (Занов). Но он не был скупым и алчным. Лапинский, воевавший вместе с черкесами против царских войск, даже предложил некоторым старшинам западных адыгов взять под стражу князя Сефербея и отправить в Турцию. «Таким образом, — считал он, — был бы устранен самый большой камень преткновения для организации и объединения страны (черкесов. — В. Б. ; по Лапинскому — абазов), а Порта (под чьим покровительством Сефербей вернулся из Турции на родину. — В. Б.) могла бы убедиться в том, что в отношении положения дел в Абазии (72) все идет к лучшему» (73).
Т. Лапинский не скрывает, что он симпатизирует наибу Шамиля Магомет-Амину (Мохамед-Эмину), через которого хотел выйти на имама Чечни и Дагестана. По его мнению, Магомет-Амин слыл после Шамиля самым ученым и набожным имамом, сильным и могущественным политиком, который всегда выступал от имени Шамиля и никогда не упоминал имя султана (74). Это не устраивало Порту, но открыто выступать против Магомет-Амина она не рисковала, ибо таким образом она поссорилась бы с имамом Шамилем и породила бы конфликт султана со «старотурецкой фанатично магометанской партией», позиции которой были сильны в Константинополе, так как эта партия считала Шамиля и наиба Магомет-Амина святыми и высокочтимыми людьми. Поэтому Порта стремилась найти противовес личности Магомет-Амина среди адыгов, которым можно было бы манипулировать. Как утверждает Лапинский, таким человеком был князь Сефербей. Вместе с тем, Лапинский критически относился к чрезмерному следованию наибом нормам ислама, шариату, «к его недоверчивому отношению ко всему христианскому», которое отталкивало от него горцев Северо-Западного Кавказа, хорошо помнящих свое христианское и языческое прошлое. Даже офицерам польского отряда Теффик-бея не нравилось «явно преувеличенное мусульманское ханжество наиба и его приближенных» (75). Прав и современный историк А. Панеш, который пишет: «Мусульманское государство, к которому стремился Магомет-Амин, являлось военно-теократическим. В Черкесии позиции ислама были не так сильны, чтобы играть роль консолидирующего элемента в государственной системе. К тому же дух свободы и независимости черкесов противоречил строгим рамкам теократического государства» (76).
Документальные и исторические материалы в основном подтверждают точку зрения Т. Лапинского о Магомет-Амине. Наиб действительно являлся незаурядной, одаренной личностью, талантливым политиком, которого иногда сравнивали с Шамилем; он, по всей видимости, был лучшим наибом имама. Более того, он вполне мог заменить Шамиля. Создается впечатление, что они могли быть равнозначными фигурами, только Магомет-Амином меньше интересовались (чем Шамилем) художники, историки, публицисты и писатели Х1Х~ХХвв., поэтому
о нем меньше известно.
Если в романе Б. Шинкуба «Последний из ушедших» владетельный князь Хамутбей Чачба противопоставляется Хаджи Берзек Керантуху, то в произведе-
302
нии И. Машбаша «Жернова» князь Сафербий (Сефербей) противопоставлен Магомет-Амину. Заметим, что в романе И. Машбаша нет той сложной, многоступенчатой повествовательной структуры, как в произведении Б. Шинкуба; в нем рассказ ведется от третьего лица (не участника событий), в котором легко угадывается сам автор. Поэтому его взгляд на исторические события и личности открыт, объективен. Ощущаются его антипатии и симпатии к тем или иным героям. Симпатии иногда ведут к некоторой идеализации образов персонажей (Сафербия, Карбатыра и др.), антипатии — к негативизации героев (Магомет-Амина, Лапинского и др.). Такая точка зрения часто формируется на основе противопоставления «своего» и «чужого»; этническая и родовая принадлежность здесь играет важную роль.
В романе «Жернова» Магомет-Амин воспринимается многими адыгами Северо-Западного Кавказа (шапсугами, натухайцами и другими) как чужой, лишь среди абадзехов он стал своим. «В горной Абадзехии возвысился хитрый и лукавый Магомет-Амин. Сначала он обласкал князя Болотокова и внимательного Цея и, воспользовавшись доверчивостью адыгов, их искренней верой в Аллаха, “одчинил своей воле. Добившись этого подчинения, он отстранил от власти князя и родовитых, опираясь главным образом на зажиточных крестьян (по опыту Шамиля в Дагестане. — В. Б.). Правда, он всюду говорил, что у Аллаха нет богатых и бедных...», — так пишет И. Машбаш о наибе Шамиля. (Машбаш; 337—338). Вместе с тем, автор объективно описывает ту государственную систему, которую создал Магомет-Амин в Абадзехии. По сути была сформирована авторитарная власть во главе с верховным правителем, в одном лице воплощающем духовного и светского лидера. Наиб копировал Имамат (государство) Шамиля. Были созданы мехкеме — областные управления. Областные правители в аулах вершили государственные и судебные дела. Введены законы шариата. «Раньше в Абадзехии главной задачей суда была попытка примирить противные стороны, уговорить или пристыдить. Наказывали крайне редко. Теперь же все было наоборот: за неверность мужу, за несоблюдение законов шариата, за кровосмешение, за воровство и другие преступления приговаривали к расстрелу, к сидению в яме, отрубали руки, топили в реках. ...Это была — государственность, сильная власть... Соседи абадзехов внимательно присматривались к новшествам, веденным Магомет-Амином, многим начинала нравиться эта сильная власть». (Машбаш; 338). Повествователь отмечает, что наиб прекрасно разбирался в психологии людей, толпы и умело этим пользовался; был хорошим оратором. Он непримиримый противник царской России.
Писатель, создавая портрет Магомет-Амина, сочетает авторское повествование с диалогами, размышлениями других персонажей, которые выражают собственное отношение к наибу, «чужестранцу», как говорят некоторые герои. Это важно для того, чтобы отразить особенности восприятия адыгами наиба Шамиля и его деятельность. Например, один из персонажей Тим Некрас (русский по происхождению, но живет среди адыгов) при каждой встрече находил в
303
Магомет-Амине что-то новое, необычное. «Он (наиб. — В. Б.) в общем производит такое впечатление, будто владеет некой силой, с помощью которой подчиняет человека своей воле... Да и разговаривает Магомет-Амин с людьми так, будто ему не важно, что они скажут, главное, что скажет сам...». (Машбаш; 343). Любопытен и диалог Тима с женой Сафербия Бабурой, в котором четко просматривается отношение многих адыгов к Магомет-Амину и вновь затрагивается проблема единения разрозненных черкесских субэтносов, возвеличивается личность Сафербия.
«— Что поделаешь, Тим, — тяжело вздохнула Бабура, — видно, уж такова доля адыгов, не могут между собою договориться о единстве, больше того, грызутся, а пришлый человек этим самым и воспользовался. Как ни старался Сафербий, его не поддержали, и Хан-Гирея (77) покойного зря мы не послушались.
— Хан-Гирей... — Тим вздохнул тяжело. — Если ты не адыг, то не жди, чтобы тебя поддержали адыги, даже если ты им верно служишь...
— Не говори так, родственник (дочь Тима была невесткой в доме Сафербия. — В. Б.). По сравнению с этим дагестанцем (Магомет-Амином. — В. Б.), Хан-Гирей по всей своей жизни, по духу своему — истый адыг...
— Что касается наиба, то твоими устами, Бабура, истина глаголет,.. — согласился Тим. — Наиб этот очень жестокий человек: у него в одной руке коран, а в другой плетка. Ты посмотри, он этих упрямых абадзехов сделал прямо шелковыми. Бросит клич, и они пойдут войной на нас, на кого прикажет, на того и пойдут слепыми в своем гневе». (Машбаш; 348-349).
В одном письме из Турции к своему сыну Карбатыру (Карабатыру), написанном накануне Крымской войны, Сафербий (Сефербей) предостерегает его от ошибок в отношениях с Магомет-Амином, призывает к осторожности. По словам Сафербия, наиб хитер, коварен, неискренний, двуличный, его оружие: улыбка, обещания, показная доброта. «...Этот самый Магомет-Амин Асалаев намного хитрее и коварнее своих предшественников, — наставляет сына Сафербий. — Главное, не верь ему, что он якобы борется за единение адыгов. Он имеет в виду единое подчинение своей воле, свое возвышение. Если уж Крымское ханство и Турция не могли дать ладу адыгам, то, поверь, у Дагестана и вовсе ничего не получится. Это понял не только я, но и турки и русские. Газават Шамиля ничего хорошего не сулит адыгам... Уж лучше примириться с русскими, потому что они наши ближайшие соседи, могучая нация. Это первое. Во-вторых, ни Хаджемукова, ни Берзеджа, ни Цея, никого, кто зовет адыгов к единению, к созданию нашего собственного государства, не избегай, поддерживай, но опять же, не бросайся в их объятия... Джеймс Белл (а также и Джон Лонгворт, Теофил Лапинский и другие. — В. Б.) тоже не из тех, кому можно полностью доверять, ведь он слуга старой, доброй, удивительно хитрой Англии. Надо то же самое сказать... и о французах. Беда адыгов состоит в том, что их земли — лакомый кусок для каждого государства. И, в третьих, в ближайшее время в Крыму произойдут чрезвычайно важные события, не связанные напрямую с адыгскими делами,
304
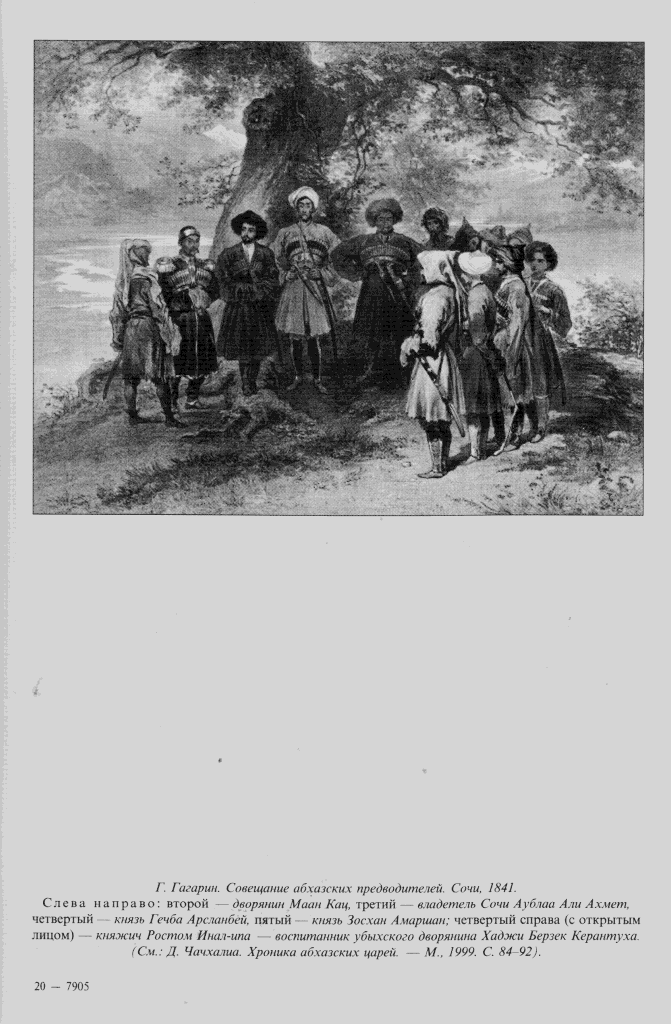
305
однако они могут оказать свое влияние и на нас (речь идет о Крымской войне 1853-1856 гг., о которой говорилось ранее в связи с образом Хамутбея Чачба. — В. Б.)». (Машбаш; 355-356). Как видим, Сафербий во многом напоминает владетельного князя Абхазии Хамутбея Чачба. И. Машбаш приводит и другое письмо Сафербия в Россию от 27 марта 1853 г., в котором он выражает свою лояльность к России и просит императора разрешить ему вернуться прямо на родину (а не в Керчь, как предлагали царские власти). Однако князь, как свидетельствует письмо, слишком высокого мнения о себе, о своем авторитете среди адыгов. «Если же... я отправлюсь прямо в мое отечество, то все наши 12 племен, если я им буду советовать присоединиться (к России. — В. Б.), то ни один из них не будет тому противиться». (Машбаш; 334). Конечно, это не так. А горькая правда заключалась в том, что ни одному из адыгских лидеров, в том числе и Магомет-Амину, не удалось объединить черкесов в одно государство.
Эти письма Сафербия, к которым прибегнул писатель, создают ясньщ портрет политической фигуры князя и утверждают позицию самого автора о герое, который считает Сафербия мудрым, выдающимся, дальновидным политиком. Аналогично мнение Б. Шинкуба о своем герое Хамутбее Чачба, хотя он показывает и его слабости, связанные с заботой о собственной судьбе, карьере и жизни.
Сравнительный анализ исторических фактов, исторических образов в романах «Последний из ушедших» и «Жернова» показывает, что и Б. Шинкуба, и И. Машбаш придерживаются определенной сходной философии личности и истории. Личность может сыграть ту или иную (положительную или отрицательную) роль в истории народа, целого региона и т. д. При этом поведение личности зависит от многих факторов, в том числе от социального, экономического и культурного развития народа, внешних воздействий, физических и психологических данных, этического воспитания и духовного уровня, ораторских способностей и т. д. Несовершенство хотя бы нескольких факторов обычно приводит к трагическим последствиям. Об этом в частности свидетельствуют исторические романы Б. Шинкуба и И. Машбаша. Это — урок на будущее. И в этом ценность исторического романа вообще, который устанавливает связь времен, дает возможность заглянуть в прошлое, чтобы лучше понять настоящее и видеть перспективы будущего.
Вторая часть повествования Зауркана Золака связана с жизнью убыхов в Турции; в условиях чужбины народ переносит неимоверные испытания. Основной удар пришелся на национальную культуру: родной язык, этику, обычаи и традиции. Кроме того, убыхи в Турции оказались на гребне истории: Османская империя разваливалась, горцы с Кавказа использовались в качестве пушечного мяса в войне с врагами империи, а в 20-х годах XX в. они вновь оказались между двумя огнями, т. е. противоборствующими силами за власть в Турции, между сторонниками Мустафы Кемаля (Ататюрка) и султанской власти. И те и другие искали поддержку среди многочисленной и воинственной горской диаспоры.
306
В итоге представители убыхов, абхазов, адыгов (черкесов) и других оказались на противоположных берегах. После победы кемалистской революции части горцев, в том числе убыхов, пришлось покинуть Турцию. Процесс выселения продолжался.
В чужой стране, в инонациональной среде под давлением насильственной ассимиляции происходит деформация этнического, национального самосознания. Рассказ Зауркана Золака показывает, как конфликт собственного «Я» героя (ищущего выгоду) с этническим «Я», преобладание рационализма и прагматизма над экзистенциальным мышлением, отказ от национально-этической основы, сущностного этнического бытия, невозможность и нежелание защиты и сохранения своего этнического «Я» многими персонажами романа (Мансоу сын Шардына, Золак Астан и др.) в результате рассеяния по чужой территории тоже привели к трагедии народа. Показательным примером служит образ Астаны Золака.
После десятилетнего заключения в турецкой тюрьме (Зауркан попал туда после того, как он убил Езмитского пашу, спасая честь своих сестер) и испытания рабской жизни в неволе, Зауркан Золак оказался в доме Сита, мужа его тети (сестры отца) Хымжаж. От нее он узнает, что из фамилии Золак остался единственный человек по имени Астан, внук известного в народе музыканта (аԥхьарцарҳәаҩы) слепого Сакута. Хымжаж, используя народную мудрость, дает меткую характеристику Астане: «Остался один, похожий на того мула, которого спросили: “Кто твой отец?” — а он ответил: “Моя мать лошадь, о каком отце вы говорите?”» (3; 354). Это говорит о том, что человек отказался от своей фамилии, происхождения, ибо продолжение фамилии, рода у убыхов шло, как у других народов Кавказа, по мужской линии. Впоследствии Зауркан сам убедился в справедливости слов тети. Он спешил увидеть Астана, ибо считал, что в мире только они двое (Астан и Зауркан) остались из фамилии Золак и должны держаться вместе. Астан был младше Зауркана, и, по обычаю, он первым лолжен был проведать Зауркана, но Зауркан так и не дождался его и посетил Астана. Астан не узнал Зауркана (ведь очень много времени прошло с тех пор, как они последний раз виделись) или сделал вид, что не узнает. Когда же тот убедил Астана, что является Заурканом, он даже не встал, а продолжал сидеть перед точильным камнем; он также не соизволил пригласить гостя домой. Когда Зауркан сказал: «Мы с тобой последние из фамилии Золак. Негоже, чтобы мы бросили друг друга», Астан ответил: «Я уже отказался от своей фамилии и взял фамилию одной из моих жен шаруалки (у него было две жены. — В. Б.) Казанджи-оглы». (3; 357). Это ошеломило Зауркана, воспитанного в рамках национальных традиций и этики, худшего позора он не встречал раньше. И далее Астан продолжил: «Ха-ха-ха! Все от гордыни. Помню характер моего деда... Если у кабачка отломилась пуповинка, он не ел его. Мясо, которое оставалось от вечернего пиршества, не давали гостям к завтраку: объедки, мол... Голодай хоть круглый год, а для гостя чтобы все на столе было. Мы, убыхи, на ладони Кавказа умещались, а спеси нашей конца не было. А чем все это обернулось?..»
307
(3; 357). Более того, Астан сказал, что он пасет гусей Хусейна-эфенди, а новая фамилия облегчает ему и его детям жизнь; он говорит только на турецком языке, забыл или стыдится родного языка, над которым, мол, турки смеются и называют «птичьим языком».
Удрученный всем услышанным, Зауркан покинул Астана. Такого падения человека он не ожидал. Обращаясь к Шараху Квадзба, Зауркан произнес: «Да, род Золаков, род лихих наездников и воинов, о котором по всей Убыхии ходила завидная молва, погиб,., а в лице Астана погиб бесславно и даже с позором. Говорят, что все зависит от обстоятельств. Если так, то глупо винить одного Астана. Он — жертва, а обстоятельства — топор над его шеей. С плахи не убежишь! А от меня какой прок? Кто я сам? Нет у меня ни семьи ни детей. Копчу небо, как замшелый дуб, в который угодила молния. Дотлею — и не останется ничего. Род Золаков исчезнет бесследно, как будто и не было его. Как же так, как же исчезает целое племя? Как же исчезает его язык, звучавший много веков? Язык, на котором люди славили и хулили друг друга, пели колыбельные песни, говорили о хлебе насущном, ...проклинали и молились! Предопределено ли это судьбой или является результатом чьей-то пагубной опрометчивости? И могло бы такое произойти с нашим народом, если бы все сыновья его были такими, как Тагир? Нет, если бы все были такими, как он, вряд ли бы обрушилась на нас наша погибель!..» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 250-251). В данном случае мы использовали эпизод из русского перевода романа. Однако сравнительный анализ текстов показывает, что в переводе К. Симонова и Я. Козловского эта часть (как и некоторые другие части) произведения намного сокращена (78). Из него исчезли художественно значимые детали образной системы романа, которые в абхазском оригинале составляют неотъемлемую часть речи Зауркана Золака и подчеркивают важные характерные черты главного героя и других персонажей. О них, думается, следует сказать. Остановимся на некоторых из них.
После встречи с Астаном Зауркан говорит о себе: «Конечно, я не опущусь, как Астан, не покачусь вниз, буду подниматься по крутому склону, не забывая и храня все то, что научили мои предки, но у моего пути нет будущего». (3; 362). И далее повествователь немного по-другому говорит о судьбе дерева (по сравнению с «дубом» переводчиков), которую сравнивает с судьбой рода: «Одно дерево в течение ста лет осеняло пустынную поляну. Однажды ураган (аурт) свалил его, вырвал корни. Люди, увидевшие это, распилили его на дрова и увезли, не оставив ни одной щепки. Со временем на поляне не осталось никакой раны, все выровнялось, заросло, как будто там никогда не стояло дерево». (3; 362). Зауркана также беспокоит мысль: «Может быть, и мы сами виноваты в нашей трагедии? Возможно, мы допустили послабления и где-то просчитались? Может быть, нам не хватило просвещенности?..» (3; 362). И вдруг вспоминает о Мансоу сыне Шардына, который учился вместе с Тахиром (Тахир; в русском переводе лучше было бы сохранить имя в транскрипции «Тахир»): «...Хотя, кто
308
скажет, что наш дворянин Мансоу не просвещенный? Он образованный человек, бывал во многих странах мира, многое видел, однако он мыслит по-иному (пo сравнению с Тахиром. — В. Б.). Он рад тому, что потерял национальное лицо, черты...». (3; 362). (Напомним, что все эти отрывки романа отсутствуют в русском переводе.)
Мансоу показан в романе конформистом и, в определенной степени, космополитом; ему безразлична судьба народа, он живет для себя. Для Мансоу этническое «Я» умерло, но вроде бы есть личное, индивидуальное «Я» (но он не индивидуалист), хотя оно безликое и подчинено власти денег и тщеславия. Его философский взгляд на жизнь вмещается в двух словах: «Человек должен жить только ради себя, остальное все не имеет смысла. При этом “цель оправдывает средства”». Однако у него собственная точка зрения об участи родного народа и лучших его представителей (типа Тахира). Мансоу относится к тем людям, которые считали, что такой народ, как убыхи, не имеет исторической перспективы, и в условиях Турции должен («обязан») раствориться среди турок. Зауркан подробно передает диалог, который состоялся между ним, Тахиром и Мансоу во лворце дворянина (Мансоу), куда они были приглашены. Мансоу не скрывает еаои мысли, он хладнокровно и открыто рассуждает о себе и о других (ведет разговор только на турецком языке). Он напоминает манкурта, космополитизм — неотъемлемая черта его характера. По типу человека он стоит в одном ряду с пиши персонажами, как Астан Золак. Кроме того, ощущается духовная близость героя с русскими западниками XIX-XX вв., хотя он не знаком с их философией. «Я не турок и не убых, я европеец, — говорит Мансоу. — Таков мой путь, и по нему я должен идти... С тех пор как помню себя, я не считал себя убыхом, не знаю и языка, не следую национальным обычаям и традициям. И это ие печалит меня, а только радует. Я принадлежу к великой нации с громадным историческим прошлым, пользуюсь ее плодами просвещения». (3; 374—375). (В русском переводе данный отрывок /кроме первого предложения/ отсутствует). Согласно его утверждению, «убыхи — отставший от истории народ, они застряли на первой ступени развития, с которой столетия тому назад далеко шагнули вперед другие народы по пути просвещения! Они застыли там, и у них нет никаких перспектив. Собственного просветительства (культуры, родного языка и т. д. — В. Б.) у них уже не будет, но физически убыхов может сохранить только наша сила — Султанская власть!» (3; 375). Мансоу считает, что судьба убыхов предрешена историей, и лучше будет для них быстрее слиться с турецкой нацией, забыть свой язык, и с оружием в руках защищать власть султана — «отца всех мусульман мира» (которая трещала по швам под ударами кемалистской революции). Отвечая на предложения Тахира не терять свой народ, способствовать открытию убыхских школ, изданию букваря и истории народа, Мансоу говорит, что он не видит в этом смысла и перспективы, хотя он мог решить эти проблемы, используя собственные материальные ресурсы и личные связи. Свою позицию он оправдывает странным образом, хотя в его словах есть доля правды:
309
«Скажу почему (нет смысла создавать школы, печатать книги и т. д. — В. Б.): когда жили на прекрасной родине, убыхи не создали ничего такого, чем можно было бы гордиться. Разобщенность, воровство, грабежи, убийства за ничего не значащее оскорбление и отсюда — кровомщение (месть) — уничтожение родов друг друга — вот чем занимались убыхи тогда и не отказались от них и сегодня... Если двое подружатся, то третий становится их врагом. И не думайте, что убыхи объединятся, они перегрызут друг друга и таким путем сойдут с исторической арены. Их судьба предрешена, и те, подобные Тахиру, заблуждаются, когда пытаются повернуть колесо истории...». (3; 375). В русском переводе эти мысли Мансоу сильно упрощены и сокращены; там даже встречается такая фраза, звучащая из уст Мансоу: «Знайте — судьба убыхов,мне не безразлична, вот почему я предостерег вас от опасности. — И обращаясь к Тагиру, отчеканил: — Помни, проповедник вчерашнего дня, швырнешь мой совет свинье под хвост — не взыщи!..» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 261). Очевидно, что переводчики допустили некорректное отношение к тексту, хотя, может быть, неточности были заложены в подстрочнике. Ибо такое высказывание Мансоу никак не соответствует духу оригинала и искажает образ персонажа Б. Шинкуба, т. е. Мансоу, сына Шардына. Возможно, в глубине души Мансоу чувствует свое убыхское происхождение, жалеет народ, но его поведение и мысли не подтверждают это, к тому же он не переносит трудностей: когда в Турции «запахло жареным» (кровопролитная борьба между кемалистами и сторонниками султанской власти), он уезжает в Европу, во Францию (его жена француженка). «Скоро уеду, не могу я более оставаться в этой пустыне (дыре)... Уеду во Францию, к братьям моей жены (сцоит сабхуараахь), и бокалами лучших французских вин буду поднимать тосты за упокой души убыхских героев, отдавших жизнь за Султана». (3; 376).
Оппонентами Мансоу выступают сам повествователь, Зауркан Золак, и Тахир. Зауркан с любовью и почтением рассказывает о Тахире, трагическая судьба которого усугубила положение убыхов, с надеждой смотревших на него. Он — образованный человек, первый убыхский просветитель и ученый, который пишет историю убыхов, создает алфавит и хочет открыть национальную школу у себя дома. Он даже добился открытия мектеба (школы) в сельской мечети для убыхских детей. Он бесплатно преподавал историю, затем постепенно начал учить детей родному языку на основе созданного им алфавита. Однако местный мулла весьма негативно отреагировал на это и подчеркнул: «где это было видано, чтобы учили на этом “птичьем” (убыхском. — В. Б.) языке. Турецкий язык это другое дело...». (3; 325). Мулла считал, что надо немедленно прекратить обучение на родном языке, которое «вселяет в души детей заразу», и не один донос на Тахира он написал в адрес правительства. Создавая образ Тахира, Б. Шинкуба безусловно учел опыт культурной деятельности абхазо-адыгской диаспоры в Турции, которая вопреки националистической и ассимиляторской политике «младотурков» пыталась способствовать просвещению народа, сохранению родного
310
языка, национальной этики. Тахир отчасти напоминает просветителей из горской диаспоры в Турции: Омара Бейгуаа (79) (1901 г. р.), Нури Цагова, Мыстафу Бутба (I860/?/г. р.) и других, о которых писатель знал. В частности М. Бутба окончил два университета — анкарский и парижский. Он был яростным сторонником «абхазофильства» в диаспоре. В 1919 г., в Стамбуле с большим трудом Бутба выпустил абхазский букварь на латинской графической основе. В конце 10-х годов он открыл абхазскую школу, которая, проработав восемь месяцев, была закрыта. М. Бутба хотел вернуться на родину предков, в Абхазию, но из-за «железного занавеса», который появился после установления советской власти на Кавказе, его мечте не суждено было сбыться.
Тахира воспитывали родители Зауркана Золака. У него никого не было кроме бабушки Хамиды, но она бросилась в реку и погибла во время неудачной попытки группы убыхов (Хамида была с ними) возвратиться на родину. Перед смертью она усыновила брата Зауркана Мату и передала ему маленького внука Тахира. Затем Тахир вместе с Мансоу учился в Стамбуле в мектебе (школе), какое-то время они росли вместе, однако, несмотря на это, их пути разошлись. Автор фактически противопоставляет Тахира Мансоу. Мансоу признает, что Тахир талантливая личность, но говорит ему: «Когда-то мы вместе учились в Стамбуле, и тогда чувствовалось, что ты способный, одаренный человек. Но какая польза от твоих знаний, если не можешь прокормить себя». (3; 371). Мансоу обвиняет Тахира в том, что он не доволен существующей системой, противопоставляет богатых и бедных, придерживается «революционных взглядов», и, обращаясь к Тахиру, говорит, что именно это отдалило их, росших вместе как братья, друг от друга. Однако Мансоу не глуп, он прекрасно понимает, что Тахира больше всего волнует не классовая борьба, не «революционные идеи», а судьба народа. Мансоу предупреждает: «Я знаю, что ты погубишь себя, Тахир, во из-за тебя может погибнуть целый народ!» (3; 372). В словах Мансоу явно просматривается цинизм, и вряд ли читатель поверит в его искренность. Ибо далее он, призывая Тахира и Зауркана, как уважаемых в народе людей, поднять убыхов на защиту власти султана, говорит: «Если ты (Тахир. — В. Б.) и Зауркан захотите, убыхи встанут с оружием в руках, а народ — это стадо баранов, куда его направишь, туда и пойдет». (3; 376). Тахир открыто говорит своему «побратиму»: «Как же так Мансоу?!.. Я и раньше знал, что ты отдалился от своего «арода, но не думал, что так превратишь себя в живой труп. Ты растоптал в грязи честь народа!.. Предпочел жить без рода, племени, кровного родства! Слава богу, что в твоих руках не сосредоточена государственная власть, за одну ночь ты уничтожил бы всех убыхов... Так знай, пока будет жив хоть один убых, тебя будут проклинать как гнусного предателя!» (3; 376). (К сожалению, опять приходится констатировать, что в русском переводе данный эпизод отсутствует.) Невольно вспоминаешь отрывок из документальной и биографической повести Г. Гулиа «Повесть о моем отце», в котором приводится любопытный диалог патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа с наркомом внутренних дел
311
Абхазии (30-е годы). Нарком, обращаясь к Дмитрию Иосифовичу, сказал: «Если ради интересов мировой революции пришлось бы стереть с лица земли весь абхазский народ, у меня не дрогнула бы рука» (80). Д. Гулиа иногда вспоминал разговор с наркомом и отмечал: «Когда мне слишком “левые” товарищи рисовали картину “мировой революции”, в которой Абхазия всего-навсего малозначащая капля, у меня — не скрою — невольно выпадало перо из рук. Стоит ли трудиться ради капли, которая все равно испарится?..» (81) Но, как известно, Д. Гулиа всю жизнь посвятил этой «капле». Культурный подвиг Д. Гулиа пытается повторить и Тахир. А Мансоу более похож на наркома, хотя «идейного»; его конформизм опаснее, ибо он готов пожертвовать целым народом ради собственного благополучия.
Зауркан Золак, размышляя о Тахире, иногда говорит: «Да, Тахир вышел из нашего народа, но откуда у него такое ностальгическое чувство к родине, если он ее совсем не видел, он еще был грудным ребенком, когда привезли в Турцию...». (3; 362). Однажды, как рассказал Зауркану садз Шоудыд (до своей смерти сидел в турецкой тюрьме вместе с Заурканом), Тахир, узнав, что убыхов выселили из Осман-Коя, не мешкая ушел с народом. Он поступил так же, как балкарский поэт Кайсын Кулиев, который в 1944 г. отправился с депортированным народом в Среднюю Азию, хотя он мог остаться в Москве и жить спокойно. Более того, Б. Шинкуба именно в его уста вложил народную пословицу «Потерявший родину, теряет все». Одно предложение, но в нем отражена величайшая трагедия; у края пропасти может оказаться весь народ или отдельная личность.
В романе встречается и другая поговорка (вероятнее всего, афоризм самого Б. Шинкуба), сказанная отцом Шоудыда как бы в наставление своему сыну: «Родина может потерять тебя, но самому ее терять нельзя» (3; 298), т. е. она должна жить в памяти, в культуре, этике, языке, традициях и обычаях, словесном искусстве (фольклоре) и т. д. За эту истину держится и Тахир: он физически не помнит родину, но, благодаря старшему поколению, он сохраняет ее образ в душе; она вдохновляет его и единственное спасение народа он видит в возвращении убыхов на Кавказ. Эта мысль с особой силой зазвучала на встрече группы уважаемых представителей убыхов, организованной Заурканом и Тахиром в доме старца Даута, после их пребывания во дворце Мансоу. (Эта часть романа в объеме 7 страниц, которая в оригинале называется «И снова вскрылись наши раны», полностью отсутствует в русском переводе.) На встрече Тахир проявил себя прекрасным оратором. Заметим, что повествование Зауркана Золака часто прерывается диалогами и весьма пространными и содержательными речами других персонажей, которые рассказывают об увиденном ими самими или излагают собственные субъективные размышления. Зауркан как бы дает возможность самим героям-очевидцам поведать о том, что они лично видели и перенесли. Писатель допускает такое разветвление повествования ради достижения главной цели: заставить читателя поверить в истинность событий, усилить художественно-эстетическую значимость произведения.
312
Речь Тахира убедительна, эмоциональна; она оказала сильное воздействие на участников встречи. Выразив, как полагается по этике, уважение к почетным представителям народа, Тахир начинает с вопросов, которые затрагивают жизненные интересы убыхов: «Вы сами видите, в какое время мы живем, что нам делать, кому верить? Положившись на Али Хазрет-пашу, встать с оружием в руках и пролить кровь за разваливающуюся власть Султана? Так знайте, если бы не французские и английские войска, находящиеся здесь, турки сами давно свергли бы Стамбульского государя. За кого же и против кого нам воевать? Против братьев армян и курдов, которые борются за свои национальные права? Или воевать с народом, ведущим освободительную борьбу против захватчиков?.. Скажите, разве они не наши братья?» (3; 380). Слово «братья» в устах Тахира многозначно, под ним он подразумевает всех тех, которые страдают и не имеют никаких прав.
Вопросы, поставленные Тахиром, взбудоражили участников встречи; он этого и хотел и дал им возможность порассуждать. Они активно включились в обсуждение волнующих всех проблем и фактически нашли ответ. Настроение присутствовавших яснее выразил старик Сит: «Что только мы, убыхи, не делали для султанов? Мы за них пролили море крови... Где только не погибали наши сыновья... Несмотря на это нас за людей не считают, мы бесправны... Кому же помешали наши фамилии, что требуют от нас забыть их (и заменить их турецкими фамилиями. — В. Б.). А для Мансоу фамилия ничего не значит, он и так отказался от нее. Нет, лучше мы умрем с нашими родовыми фамилиями, чем ради кого-то продадим себя». (3; 381).
Поняв позицию собравшихся, Тахир пошел дальше, он затронул сложную проблему, о которой убыхи вынуждены были забыть, не веря в ее решение. То есть Тахир сказал, что собирается поехать в Анкару и встретиться с консулом Советской России в Турции, который прибыл в страну согласно договору о дружбе и сотрудничестве, заключенному между правительством Мустафы Кемаля и Россией. От имени народа Тахир думал просить российского представителя об оказании содействия в возвращении убыхов на родину. Участники встречи не ожидали такого поворота речи Тахира; какое-то время они молча смотрели на него. Установившуюся тишину нарушил Сит, он заметил: «Ех, дад Тахир, нам сложно обсуждать этот вопрос, ибо для нас твои слова похожи на то, если бы ты сказал, что все умершие наши близкие воскресли и пришли сюда». (3; 383). Другие спрашивали: «Мы точно не знаем, что на Кавказе происходит. Может быть, наша земля, родина, уже заселена другими? У нас иная религия, а там есть мечети?» и т. д. (Последний вопрос, с нашей точки зрения, лишний и не имеет никаких оснований. — В. Б.) Видя замешательство, неуверенность старейшин, Тахир предоставляет слово Омару Дащан, который побывал в России и на Кавказе (он, видимо, служил в войсках Антанты, попал в плен к Красной Армии). Омар рассказал о своем пленении и как он оказался в Абхазии. Он был свидетелем свержения старой царской власти, виновной в выселении
313
горцев, установления новой власти в Абхазии и образования республики. По его словам, там землю раздали крестьянам, открыли школы с обучением на родном языке, бесплатные больницы. Когда в Абхазии узнали, что он убых, ему сказали: «Убыхский народ совершенно исчез с Кавказа, оставайся здесь, мы выделим тебе землю где ты пожелаешь!» Другого отношения к Омару в Абхазии не могло быть, хотя он участвовал в интервенции, ибо сами абхазы испытали ужас махаджирства. Ненависть горцев к царизму формировалась под воздействием исторических событий XIX столетия; она и стала определяющим фактором поведения народов Кавказа — участников освободительной борьбы в эпоху Кавказской войны во время революции и -гражданской войны. Эта ненависть порождала и месть самодержавию за покорение и выселение большей части горцев в Османскую империю. Однако Омар вернулся в Турцию, ибо он не мог бросить пожилых родителей. Завершая свою краткую речь, Омар подчеркнул: «Как несчастные наши предки покинули этот райский край!?. Уважаемые представители народа, ...я лично здесь не намерен оставаться, если даже купался бы в золоте; возвращаюсь на родину...». (3; 384). Конечно, слово очевидца не могло не подействовать на слушателей. (Еще раз подчеркнем: все события в романе излагаются их очевидцами и участниками. Это усиливает художественную значимость произведения и эстетическое воздействие на читателя.) И вновь слышим голос основного рассказчика Зауркана Золака, подтверждающий его постоянное присутствие в повествовательной структуре произведения. «Тахир внимательно вглядывался в наши лица... Он, видимо, чувствовал, как в наших сердцах запылало пламя надежды. Затем он спокойно продолжил свою речь». (3; 384). Именно эта часть речи Тахира обладает какой-то магической силой. Она направлена на создание, если так можно выразиться, виртуальной реальности будущего убыхов. Духовной основой, источником образа будущего является ностальгия по родине, смешанная с романтическими чувствами, вера и надежда, которые никогда не покидают человека. Эта речь необычна и тем, что Тахир не ведет привычный последовательный рассказ, а представляет импровизированную сцену (будущего) возвращения народа на землю предков, в которой звучат и другие голоса. Это оказывает колоссальное воздействие на старейшин, которые должны принять судьбоносное решение. Вот отрывок речи Тахира: «Уважаемые наши старики, женщины и мужчины, дети... Безобидный народ, единогласно решив, отправляется в путь, на родину. И кто может помешать возвращающемуся домой? Довольно, дадраа, нашим страданиям. Сколько нас обманывали, сколько погибло наших братьев и сестер?..
Если мы, убыхи, которых царь-убийца выселил и султан обманул, дойдем до границы страны рабочих и крестьян, нам обязательно откроют дорогу! Так мы все вместе ступим на родную землю, вернемся в прекрасную страну убыхов. И она с радостью примет нас!
Мы бросаемся и целуем землю, в которой захоронены наши предки. “Прости нас за то, что не ценили тебя и покинули!” — говорим мы... и снова целуем
314
родимую землю. А тех, кто никогда не видел родину предков, она удивит своей красотой...
“Идите, идите, дадраа, не чувствуйте себя гостями, вы хозяева этой земли!” — так вы, старейшины, говорите молодежи. Потом вы ведете нас и показываете земли, где фамилиями, родами будем жить.
И везде слышны разговоры: “Ты, дад, видишь старую пацху, в ней жили твои несчастные родители, деды и прадеды, и те, заросшие кустарниками, яблони посажены их руками... Живи здесь, возроди очаг!” “А твои, дад, предки жили в этом месте. Видишь, домов не осталось, но сохранился очаг... Вот здесь ты построй пацху и снова зажги очажный огонь!” Так каждый занимает усадьбы, покинутые предками. Проходит немного времени, то там, то здесь уже видны крыши домов, и в небо тянется дым от очажного огня; слышны и лай собак, и крик петухов...
... В Убыхии вновь звучат мелодии героических песен, забытые здесь (в Турции. — В. Б.)... Вы слышите, братья, это не сон, а будущая реальность!..» (3; 385).
По завершении речи Тахира Зауркан Золак, оценивая ее, отмечает: «Он говорил увлеченно, эмоционально, пламенно, даже мулла так не смог бы читать Коран». (3; 385). А старик Сит выразил свое впечатление так: «Дад, сейчас я мысленно разгуливал по двору моих родителей в Убыхии». (3; 385). У других слушателей слезы проступили на щеках. Слова Тахира воскресили давнюю боль махаджиров.
Однако произошла величайшая трагедия: убит Тахир, сожжен его дом с библиотекой и рукописями. И самое ужасное — убийство совершил убых, подкупленный врагами свободы народа. Умирая, Тахир вновь произнес: «Умирающий умрет, а кто держится на ногах, тот продолжает идти... Здесь вы погибнете, не жалейте себя. Придется — поднимите оружие! Идите! Идите на Кавказ! В страну убыхов! Проявите, как в старину, свой героизм!.. На границе с новой Россией вам откроют путь!.. Братья мои, для убыхов нет иной дороги!..» (3; 404). Народ потерял выдающегося сына, возможно, своего спасителя. Даже Мансоу прибыл на похороны, он сказал: «Сочувствую вам, вы потеряли прекрасного сына... Если он жил бы в хорошее время, мог сделать многое... Я неоднократно говорил ему, что он избрал опасный путь... Напрасно он погубил себя, погубил и свою семью... Он оказался похожим на человека, который пальцем хотел разрушить крепость!..» (3; 405). С одной стороны, конечно, трогает, что Мансоу пришел проститься с Тахиром и высоко оценил его талант. Но прислушаемся к его словам: он использует второе лицо, подчеркивает: «вы потеряли прекрасного сына», а не говорит: «мы потеряли...». Этим он снова утверждает, что стоит вне народа.
Образ Тахира дорисовывает плач (амыткума) тети Зауркана Золака Хымжаж. (Этот отрывок также отсутствует в русском переводе.) Плач Хымжаж дает сжатый, обобщающий образ Тахира, оценку персонажа. Она говорит:
315
...Ирбарҭам акумзар, иаӷацәа ҟyaҟyacoyп,
Иара дыҟоуп, дыҟаӡоуп, жәлар ргуы даласоуп!
Учкунцәа-маалықьцәа уԥс аҵкыс иуҭахыз,
Ужәлар гуакьа рынасыԥ, иауҭеит ԥсататәыс.
Уԥҳәыс дауҭеит агулшьап, ҳамԥын иқумларц,
Уҩны заҵә амца ацроуҵеит, ҳамҩа урлашарц!
Ишԥаҳаԥсыхуоу, нан, ацәа узалымҵыр?
Иага илашьцазаргь, уара уакун ацырцыр!
Рейҳа уанаҳҭахыз, аҽхьакра уаҭәаӡам,
Уара уеиԥш инаҳԥызо даҽаӡә дҳамаӡам!..
(3; 406-407).
...Его враги разбиты, только они уже этого не видят,
Он живой, остался навсегда, он в сердце народа навечно!
Своих детей-ангелов, которых ты безумно любил,
Принес ты в жертву во имя счастья народа.
Свою жену ты отдал агулшьапу (дракону), чтоб он не трогал нас,
Ты зажег свой дом, чтоб осветить нам дорогу.
Как же нам быть, нан, если ты не проснешься?
Несмотря на густую темноту, ты освещал все!
Ты не должен уйти, когда мы больше нуждаемся в тебе,
Вместо тебя нет человека, который встал бы во главе нас.
Эти строки из амыткумы Хымжаж передаются через Зауркана, он в целом запомнил их и прочел Шараху Квадзба.
Хымжаж подчеркивает, что Тахир пожертвовал собой и своей семьей ради спасения всего народа. Плач состоит из трех уровней: 1) мистификация реальности, неверие, недопущение в сознании смерти героя; 2) героизация, восхваление персонажа; 3) объяснение значения трагедии, потери героя для народа. При этом Б. Шинкуба использует не только жанр амыткумы, но и фольклорные образы, архетипы, углубляющие смысл строк; они обычно трансформируются в литературный образ и подчинены авторскому замыслу. «Свою жену ты отдал агулшьапу (дракону), чтоб он не трогал нас», — говорит в частности Хымжаж. Вся строка погружает нас в мифологические и сказочные сюжеты, где, например, дракон закрывает источник, не дает сельчанам воду; где люди постоянно через какое-то определенное время должны приводить жертву (часто девушку) дракону. Но появляется герой (типа Сасрыквы из Нартского эпоса), который побеждает дракона и спасает людей, девушку и т. д. (Так, например, в сказке «Как Мазлоу и Жакур стали сыновьями Каурбея» Мазлоу, убив дракона /агулшьап/, спасает жертвенную девушку — дочь сельского князья. В итоге благодарный князь выдает ее замуж за Мазлоуа82.) Дракон олицетворяет всеобщее зло, а в амыткуме Хымжаж — врагов убыхов, которые убили Тахира. Однако в фольк-
316
лорных произведениях часто превалирует оптимистический пафос, в них добро побеждает зло. Этого пафоса нет в плаче — неотъемлемой части «романа-трагедии», да и не могло быть, ибо он противоречил бы самому духу, внутреннему содержанию романа. Тахир, одинокий в борьбе, не в силах победить «дракона», он сам погибает. Его судьба похожа на судьбу главного героя повести А. Гогуа «Он настолько был близок, а ты его не заметил» Леуана (Леона) — патриота своего народа, страны, национальной культуры, который тоже один ведет борьбу со злом и несправедливостью и погибает от рук подонков («драконов»). Хотя заметим, что в произведении А. Гогуа звучит оптимистическая нота, ощущается луч света: у Леуана от любимой девушки Марии скоро родится сын — «спаситель народа», который отомстит за отца и продолжит его дело. Этого не скажешь
о романе «Последний из ушедших».
Вообще, как видим, роман Б. Шинкуба насыщен трагическими образами (Тахир, его бабушка Хамида, Баркаи-ипа Ноурыз, слепой музыкант Сакут, Шоудыд, умерший в тюрьме на руках Зауркана Золака, жрец убыхов Соулах, сестры Зауркана и многие другие); в нем масса смертей. И каждая смерть героя вызывает содрогание, ибо она больно бьет по народу, приближает конец, смерть самих убыхов.
* * *
Значительное место в поэтике романа «Последний из ушедших» занимает символика, которая позволила писателю раскрыть многие важные стороны исторической действительности, на которые мало внимания обращали даже историки или преподносили их в искаженном виде. С этой точки зрения, особую художественную и историко-этнографическую ценность представляет символический образ святыни (аныха) Бытха (Бытха). В связи с ним возникает важнейшая проблема религии эпохи Кавказской войны и выселения горцев, в том числе и убыхов. Образ языческой святыни опровергает существовавшее долгое время в исторической науке и публицистике мнение об исламе, как одной из главных причин выселения коренных жителей Северного Кавказа и Абхазии, а то и всей Кавказской войны. Официальная историография преследовала одну цель: всю вину в кавказской трагедии XIX в. возложить на самих горцев, которые якобы были одержимы религиозным фанатизмом, а также на «единоверную» Турцию. У кого-то может возникнуть вопрос: а ведь именно в мусульманскую Турцию выселялись горцы? Но куда же еще могли эмигрировать сотни тысяч кавказских беженцев, у которых насильственно отняли право жить на родной земле; в понимании горцев Турция выступала в качестве союзника. Хотя ясно было, что две крупнейшие империи вели ожесточенную борьбу за обладание стратегически важным регионом, а народы Кавказа расплачивались за удовлетворение имперских амбиций. Именно в этом главная причина траге-
317
дии горских народов. История Кавказа не знает ни одной религиозной войны, вера никогда не служила поводом для крупных столкновений между народами и даже причиной внутриродовых разбирательств. Горцы всегда отличались веротерпимостью, тем более что один и тот же народ и даже род могли быть полирелигиозными. Однако все без исключения должны были соблюдать неписаные правила горской этики (у адыгов/черкесов/ — Адыгэ хабзэ, у абхазов — Апсуара и т. д.), регламентировавшие взаимоотношения людей внутри общества и между соседними народами. Справедливы слова ученого, общественного и политического деятеля А. Цаликова (Цалыкаты), высказанные в начале XX в.: «...В этом переселении (т. е. выселении горцев в XIX в. — В. Б.) религиозный фанатизм, на который любят ссылаться некоторые историки, далеко не играл той роли, которую ему обыкновенно стараются приписать, дабы сложить всякую ответственность за судьбы многочисленного народа с тогдашних вершителей судеб на Кавказе» (83).
В данном вопросе и современное литературоведение под влиянием историографии о Кавказской войне XIX в. часто допускает ошибки, которые препятствуют правильному пониманию художественного мира романа Б. Шинкуба. Этого не избежал и В. Ацнариа. Касаясь религиозных мотивов и иных проблем истории Кавказской войны и трагической судьбы убыхов, он пишет: «Если большинству малочисленных народов (Кавказа. — В. Б.), в том числе и убыхам, сказали бы, что они раньше были христианами, они могли оскорбиться; вот насколько они забыли свою древнюю религию, несмотря на то что продолжали проводить некоторые христианские праздники (Пасху и т.д....). Мусульмане, объединив свои силы, распространяли среди воюющих против Российской империи, лозунг реакционного мюридизма — “Газават, священная война против неверных, христиан...”. Изначально героическая освободительная борьба Кавказских народов, поддавшихся исламской пропаганде, приобрела неверное, исторически неперспективное направление, ...борьба должна была иметь антиколониальный характер, но стала антирусской. Потому что война, которую развязал русский император, тоже была антикавказско-национальной...» (84). И далее В.Ацнариа утверждает, что по этим причинам борьба горцев не смогла слиться с революционно-демократическим движением в России против царизма; только в эпоху марксизма стало возможным участие представителей других народов в революционной борьбе русских рабочих и крестьян85. Вообще, возможно ли было говорить о двух совершенно разных исторических явлениях (борьба горцев за свободу и революционно-демократическое движение в России, которое не ставило вопроса разрушения Российской империи и кардинального изменения ее границ), которые не имели никакой связи? Тем более что в России не было никаких организаций, активно выступавших против войны на Кавказе, хотя в частном порядке высказывались мнения о трагедии народов Кавказа. Напомним, что религиозный фактор не занимал главенствующее место в русской классической литературе XIX в. (А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Бестужев-Марлин-
318
ский, Л. Толстой и др.); только в некоторых историко-публицистических работах он муссировался с определенной целью, о которой, как отмечалось выше, писал А. Цаликов. Однако были и другие материалы (записки путешественников, русских офицеров и др.), которые подтверждают нашу точку зрения. В частности, офицер Генерального штаба Российской империи Иоганн Бларамберг (86), служивший в Отдельном Кавказском корпусе, писал, что у черкесов (в т. ч. у убыхов, отчасти и у абхазов. — В. Б.) «существуют: магометанская религия, ...некоторые обряды христианской религии (праздники в честь Пресвятой девы, соблюдение православных постов, Пасха и т. д. — В. Б.), обряды культа Зороастры и, наконец, языческие обычаи (поклонение Солнцу, языческим божествам в священных рощах и т. д. — В. Б.)... В зависимости от времени и от обстоятельств следует ожидать, что либо ислам пустит там еще более глубокие корни, либо христианская религия вновь будет воспринята всеми этими народами» (87). Данные Бларамберга почти совпадают с этнографическими материалами, приводимыми немецким ученым К. Кохом, который путешествовал по Кавказу в 1836-1838 и 1843-1844 гг. Кох писал, что «среди черкесов распространена христианская религия, смешанная с различными, языческими верованиями» (88). Согласно его описанию, черкесы своеобразно празднуют некоторые христианские праздники (освящение /крещение/ ребенка, пасха, почитание Марии и т. д.), магометанские (Рамадан и Байрам), языческие, посвященные различным божествам и духам (божествам грома, огня, ветра, воды и лесов). «Основой всех религиозных взглядов черкесов является вера в высшее существо, ...в единого бога, в неотвратимость судьбы и в недолгую жизнь на этом свете...» (89). О смешанных религиозных верованиях писали также многие авторы XIX в., в том числе Н. Дубровин (90), П. Хицунов (91), П. Услар (92), И. Хазров (93), Л. Люлье (94) и другие.
Естественно, не было никакого религиозного фанатизма и у убыхов, предки которых столетия тому назад принимали и христианство (95), а затем и ислам, сохраняя при этом традиционные («языческие») религиозные верования. И навязывание им религии в качестве идеологии борьбы положительных результатов не давало, они обычно мало кому доверяли. Как пишет Г. Дзидзария, «горцы не доверяли не только туркам, но и англо-французским агентам. Сразу же после десанта в Крыму союзные дипломаты явились на восточный берег и предложили горцам “избавить” их навсегда от русских, если они примут покровительство Англии. Но горцы ответили," что если и французы, и англичане начнут занимать их земли, то они будут с ними драться также ожесточенно, как дрались с царскими войсками... Горцы стали воздерживаться и от повиновения Мухаммеду-Эмину. Например, в Шапсугии и Убыхии, где, по словам Т. Лапинского, “население всегда относилось неприязненно к религиозному рвению наиба и его страсти к обращению в новую религию, ничего больше не требовалось для того, чтобы поколебать и повергнуть его еще слабый авторитет. В самое короткое время была сброшена с таким трудом введенная административная система; здания мехкеме были сожжены, начальники изгнаны, кади и муртацики (или
319
муртазеки. — В. Б.) принуждены были разойтись по домам. Но на этом не остановились эти горные народы. Русские отступили, и пророк Магомет уже являлся лишним. Во многих местностях, в особенности в горах, жители сожгли мечети и воздвигли старые кресты”» (96). В Убыхии, по свидетельству того же Т. Лапинского, «магометанство также не сильно распространено”» (97).
Из уст героя-повествователя Зауркана Золака в романе «Последний из ушедших» узнаем, что турецкие власти отзывались об убыхах (когда они жили в Осман-Койе) пренебрежительно: «Они и не мусульмане и не христиане, и в мечеть не хотят, и в церковь не ходят, это дикари без веры» (3; 278).
Что-то подобное о горцах можно было часто встретить на страницах многих русских изданий XIX в. Но они (убыхи) не были «воинствующими атеистами», как и не преследовали христиан или мусульман. Их национальная этика объединяла в себе и языческие, и христианские, и исламские ценности; нормы поведения, их самосознание формировалось под воздействием этих религий, и никаких острых конфликтов между ними не могло быть, хотя в романе Б. Шинкуба и описано противостояние ислама и язычества (образы представителя мусульманского духовенства Сахаткери и жреца или хранителя Бытхи Соулаха). Думается, оно слишком выпячивается в «Последнем из ушедших» и может сбить с толку читателя, пытающегося извлечь правду о трагедии народа и ее причинах. Писатель хотел подчеркнуть значение символического образа общенациональной святыни Бытхи. По значимости образ Бытхи не уступает образу главного героя, столетнего старца Зауркана Золака, по которому прошло безжалостное колесо истории и уничтожило его народ. Он, как одинокое дерево в пустыне, единственный представитель рода, оставшийся в живых в полном смысле этого слова, т. е. сохранивший язык, этику, знание о судьбе убыхов, их традициях и обычаях и т. д. Судьба Зауркана Золака — это судьба самого народа. То же самое можно сказать и об образе святилища. История Бытхи символизирует трагическую историю убыхов. Кроме того, Бытха — это символ свободы, сохранения своего национального облика, собственного «Я» народа, символ родины во время жизни в турецких пустынях. Зауркан Золак рассказывает: «Когда мы из-под Самсуна переселились в Осман-Кой... убыхи собрались и во главе с жрецом Соулахом нашли для нашей святыни — частицы Бытхи небольшой холм с одиноким грабом. (У убыхов, как и у абхазов, в качестве священных деревьев почитались дуб, граб и др. — В. Б.) Мы с радостью приходили сюда и со слезами на глазах усердно молились Бытхе, после чего мы освобождались от болей и переживаний и успокаивались. Святыня была единственной, которая объединяла нас памятью о покинутой родине... Видение Убыхии являлось нам во время молитвенного поклонения Бытхе». (3; 198).
Забвение святыни молодежью, пренебрежительное отношение к ней предвещали деградацию и трансформацию национального самосознания, потерю культуры и языка, процесс манкуртизации и ассимиляции убыхского общества. Исчезновение Бытхи (ее выкрали; через управляющего Хусейна-эфенди она была
320
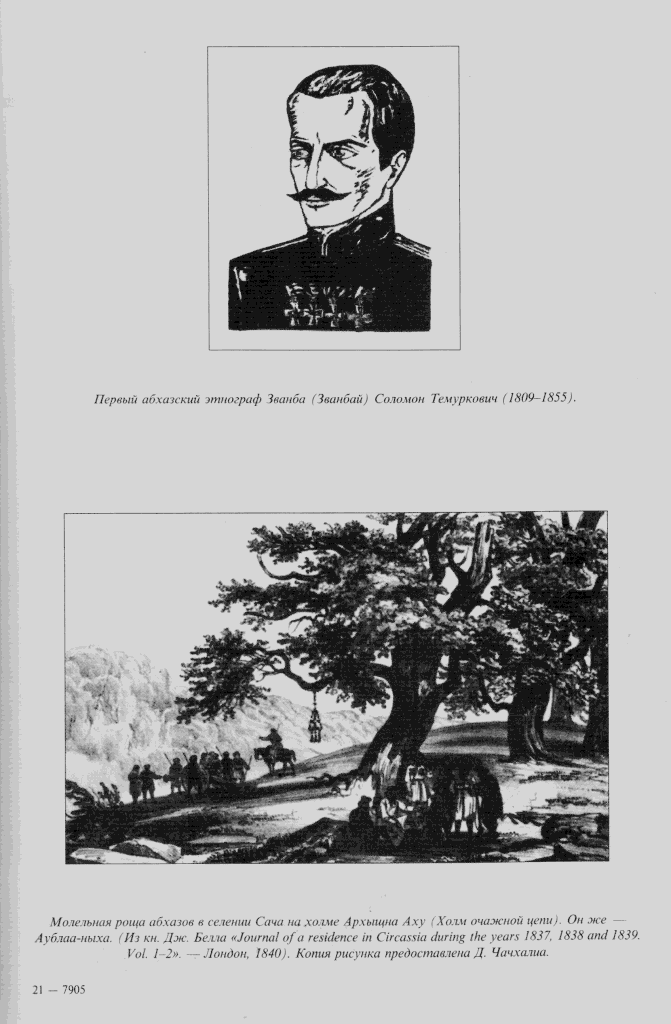
321
послана Али Хазрет-паше, у которого ее и выкупил Мансоу, сын Шардына. Мансоу заявил убыхам, что он от своего имени сдаст святыню в один из лучших музеев Парижа, чтобы «все видели ее и чтобы она напоминала о существовавшем некогда народе под названием убыхи» /3; 405/) — это завершение исторического трагического пути убыхов как народа, переход в мир мертвых этносов и языков. И роман ставит клеймо позора и варварства на лице цивилизации, которая допустила подобное величайшее преступление.
Но что же все-таки такое Бытха? Историко-этнографическая реальность или созданный фантазией писателя символический образ, который не имеет аналога в действительности? Вообще в романе Б. Шинкуба историческая и художественная правда так переплетены, перекликаются и .даже сливаются, что порой на него можно ссылаться как на историко-этнографическое исследование. В нем много исторических личностей, в их числе владетельный князь Абхазии Михаил (Хамутбей) Чачба — воспитанник дома Берзеков, предводители убыхов Хаджи Берзек, сын Адагвы и Хаджи Берзек Керантух, султаны и паши Турции и т. д. Даже Шарах Квадзба — второй главный рассказчик, «автор» рукописи, — не вымышленный герой, а имеет, по словам Б. Шинкуба (98), реального прототипа в лице лингвиста, ученика Н. Я. Марра, Виктора Кукба, который при содействии учителя посетил Турцию для собирания материалов по убыхскому языку. В. Кукба был репрессирован в конце 30-х годов (в романе Шарах погиб во время Второй мировой войны).
Роман насыщен этнографическими описаниями, они раскрывают характерные черты убыхов, их обычаи и традиции, этнопсихологию и т. д. Иногда встречаются и лингвистические «пристрастия» Шараха Квадзба, в которых просматриваются научные интересы самого Б. Шинкуба, пытающегося разгадать тайну термина «Бытха». Наличие научного подхода к тем или иным вопросам истории и культуры горцев вполне соответствует речи одного из повествователей — Шараха, ученого-лингвиста, рукопись которого якобы сохранилась. Все эти моменты усиливают доверие читателя к повествователю; роман приобретает, помимо художественной, историко-этнографическую ценность.
Представляет интерес описание убыхского святилища (аныха), образ которого проходит по всему произведению. В действительности Бытха существовала. Б. Шинкуба, до того как начать писать «Последнего из ушедших», посетил место расположения святилища в Сочинском районе. Поэтому он и смог создать образ Бытхи и описать связанные с ней обычаи и традиции. Но это не исключает вопросов. Зауркан Золак впервые подробно рассказывает о Бытхе тогда, когда убыхи готовятся к выселению. Благодаря его повествованию узнаем о силе и значимости главного святилища. Оно считалось всемогущим, и даже проклятие, произнесенное у Бытхи, обязательно исполнялось. В главе «С горстью родной земли» убыхи собрались у святыни и вместе с жрецом Соулахом молились ей, чтобы она не дала им погибнуть. Тогда же они произнесли страшное проклятие в адрес тех, которые не пойдут вместе со всеми в Турцию: «Если кто-нибудь из
322
нас не пойдет вместе со всеми, то пусть наша святыня обречет его на гибель, и вечное проклятие коснется его самого и всех его детей и родных». (3; 99). Затем Соулах говорит, что народ не может отправиться в путь без частицы всемогущей святыни. «Старейшины сперва не соглашались прикоснуться к ней, — говорит Зауркан, — считая это грехом, но потом, подумав, послушались Соулаха. Три столетних старика вместе с ним вынули Бытху из ее подземного обиталища, в котором никто никогда к ней не прикасался... Она была вырезана из камня и больше всего была похожа на орла. Глаза у нее были сделаны из золотых пластинок, а клюв, крылья и когти из серебра.
После молитвы мы положили ее обратно... Это была большая, или, как назвал ее Соулах, старшая Бытха. Но там же, вместе с ней, лежала еще и маленькая, младшая Бытха, тоже каменная, с золотом и серебром, но размером с голубя.
Старики вместе с Соулахом взяли ее, обернули несколько раз в облитый воском холст и положили в крепкую кожаную сумку. В день переселения Соулах привязал эту сумку к своему поясу; и по дороге к берегу, и на корабле, и когда... высадились в Турции, всюду, где бы мы ни были, какие бы страдания ни терпели, младшая Бытха была с нами...». А потом она исчезла и начинается трагедия...
Сейчас трудно сказать, насколько с историко-этнографической точки зрения точны описания Бытхи в образе орла (99), существование святыни «младшей» («маленькой») и «старшей» («большой»). Однако автору романа необходимо было придать образу конкретную форму, чтобы она к тому же представляла материальную ценность. Он расширяет символическое содержание образа и решает важную художественную задачу, усиливая эмоциональный накал и трагизм произведения. Ведь Соулах взял с собой в Турцию младшую Бытху, а старшую положил на место, ибо убыхи надеялись, что когда-нибудь они вновь воссоединятся с родиной и будут, как в былые времена, приходить к святилищу и молиться. Кроме того, если не было бы такой Бытхи, то невозможно было бы описать «трагическое путешествие» главной святыни убыхов, которую можно сравнить с той или иной значительной христианской иконой, а затем и ее исчезновение.
В действительности языческое святилище Бытха было неотъемлемой частью жизни убыхов. Но этнографические материалы говорят о том, что нельзя было передвигать святилище с ‘одного места на другое, ибо священным считалось и само место ее нахождения, и дерево. В Абхазии, к которой примыкала страна убыхов и в которую Убыхия входила когда-то (100), до сих пор существуют святилища (аныхақуа), которые своими функциональными и другими особенностями совпадают с убыхским; о многих из них писали Н. Джанашиа, Г. Чурсин, Ш. Инал-ипа и др. В августе—сентябре 1996 г. мне удалось собрать ряд полевых материалов о святилищах в Гагрском и Гудаутском районах. Их оказалось немало. И самое интересное то, что им по сей день поклоняется часть абхазов. В романе Б. Шинкуба Шарах Квадзба, как ученый-лингвист и этнограф, говорит о главных святилищах (Шарах, а, значит, и автор произведения, примени-
323
тельно к ним используют термин «божества» /языческие/) абхазов и сравнивает их с Бытхой. И у абхазов «тоже были... древнейшие божества, и имена их были связаны с названиями тех святых мест, где они обитали: Лдзаа, Лыхны, Дыдрыпщ, Инал-куба, Елыр, Лашкиндар» (3; 101). Обычно информаторы, говоря о святилищах, произносят эти названия (кроме Инал-куба, находившегося dопустевшем после Кавказской войны с. Псху) с добавлением специального религиозного термина «аныха», появившегося, вероятно, несколько тысячелетий тому назад в глубокой языческой древности: Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Дыдрыпщ-ныха, Елыр-ныха, Лашкиндар-ныха. Само понятие «аныха», представляющее большой научный интерес и часто встречающееся в романе, несет важную смысловую нагрузку и требует особого аналива в связи с образом Бытхи. Думается, что в русском переводе «Последнего из ушедших» К. Симонова и Я. Козловского необходимо было сохранить, или хотя бы дать в комментариях, емкий термин «аныха», определяющий смысл Бытхи. Он подчеркивает древность святыни, которая является неотъемлемой частью убыхской культуры и свидетельницей тысячелетней истории народа. С этой точки зрения образ Бытхи имеет также огромное значение для раскрытия трагической судьбы целого народа, прошедшего нелегкий и долгий жизненный путь, трагически завершившийся в XIX веке. Писатель хотел сказать: трагедия убыхов — это боль не только абхазо-адыгских народов, но и трагедия всей мировой цивилизации, которая потеряла еще один древнейший народ и еще одну самобытную многовековую культуру.
Убыхская святыня была близка к абхазским святилищам (аныхақуа). Возможно, что она была в числе семи главных святилищ исторической Абхазии, в которую в течение многих веков (в частности, в VIII — нач. XIX в.) входила и страна убыхов. И сегодня в Абхазии из уст стариков можно услышать любопытную фразу: «Аԥсны быжь-ԥааимбарк (некоторые говорят: “быжь-ныхак”) ахылаԥшуп» (Абхазии покровительствуют /охраняют/ семь архангелов /божеств или святынь/). В числе семи святынь информаторы называют: Елыр-ныха (в Очамчирском районе), Дыдрыпщ-ныха (в Гудаутском районе), Лдзаа-ныха (в Пицунде) (эти три святилища считаются самыми крупными и сильными), Лашкиндар-ныха (в зоне г. Ткварчал), Инал-куба (в горном селе Псху (101) ), Кбаа-ныха/ Кбаада-ныха (102) (от топонима Губаадәы — нынешняя Красная поляна). Седьмой святыней одни называли Лых-ныха (Лыхненская — в Гудаутском районе), другие — Киач-ныха (в Очамчирском районе). Однако никто не упомянул Бытху, вероятно, с исчезновением народа она стерлась из памяти людей, хотя вполне возможно, что она могла быть седьмой или девятой большой аныхой древней Абхазии, северо-западные границы которой доходили до Кубани. Есть более мелкие по значимости родовые и фамильные святилища (аныхақуа), их много, но материалы о них до сих пор недостаточно собраны и изучены. Вместе с тем, информаторы утверждали, что некоторые святыни передвигаются и общаются между собой (в частности, Лдзаа-ныха и Дыдрыпщ-ныха). Например, Куна Гицба
324
(1900-1998 гг.), мой отец Бигуаа Акакий (1919 г. р.) и другие говорили, что они видели, как общаются Лдзаа-ныха и Дыдрыпщ-ныха. Дыдрыпщ-ныха выходит из своего обиталища, раздается взрыв, и святыня в форме продолговатой корзины для сбора винограда с острым концом (амцышэ) (по описанию она похожа на ракету. — В. Б.), длиной более 30 метров, словно светящаяся ракета, летит в Лдзаа. По прибытии туда опять раздается взрыв. То же самое происходит, когда Лдзаа-ныха летит к Дыдрыпщ-ныха. Интересные материалы о святилищах приводятся в исследовании Г. Ф. Чурсина «Материалы по этнографии Абхазии». В нем, в частности, говорится и о перемещении святынь, например, Дыдрыпщ-ныха. «Святыня или “священная сила” Дыдрыпща называется Аныпсных... Аныпсных, как и всякая другая “святая сила”, иногда покидает место постоянного своего пребывания — вершину Дыдрыпщ и совершает путешествия по своим родственникам и приятелям. Она часто посещает Лдзаа-ных, Елыр-ных, Лашкендар, а иногда отправляется даже в далекие путешествия, в Турцию и Индию. В Турции абхазы-переселенцы нашли себе свой Дыдрыпщ в виде какой-то горы, молятся ему и, по их мнению, получают от него поддержку. Перелет “святой силы” с места на место сопровождается, по словам стариков-абхазов, некоторыми явлениями: в воздухе остается огненный след, а в том месте, куда спускается “святая сила”, появляется свет и раздается грохот, подобный пушечным выстрелам» (103).
Значительное количество этнографических материалов о святилищах Абхазии приводится в новом исследовании А. Б. Крылова «Постсоветская Абхазия. (Традиции. Религии. Люди)» (М., 1999). Автор описывает только часть крупных святилищ Западной Абхазии, а именно: Дыдрыпщ-ныха, Лдзаа-ныха, а также ряд более мелких святилищ. Для более четкого представления функциональной значимости убыхской Бытхи, остановимся, например, на Дыдрыпщ-ныхе (с. Ачандара Гудаутского района), жрецом которой сегодня является Заур Чичба. (Вообще жрецами этого святилища выбирают честных и порядочных мужчин из фамилии Чичба.) По сведениям А. Крылова, в селении Ачандара сохранилось всего девять дворов чичбовцев, они проживают также в Сухуми, Гудауте, Пицунде. Любопытна религиозная ориентация представителей этой фамилии (она типична для абхазов и некоторых горцев Северного Кавказа — адыгов /черкесов/, осетин и др.): 5-6 семей чичбовцев относят себя к христианам, остальные к — мусульманам, однако никакой разницы нет между ними (104); данная ситуация никак не влияет на избрание жреца на общем фамильном сходе. «В фамилии Чичба... все представления о Дыдрыпще, о правилах общения с высшими силами и порядке совершаемых при этом обрядов передаются из поколения в поколение при помощи устной традиции» (105). 3. Чичба утверждает, что Дыдрыпщ-ныха связана с именем ангела Дыдрыпщ, представляющего Бога. А гора Дыдрыпщ считается священной, ибо она является местом обитания этого ангела. 3. Чичба поведал А. Крылову, что апааимбар (ангел) Дыдрыпщ был обычным человеком, но выделялся своей красотой, ораторскими способностями, пра-
325
ведным образом жизни. В нем сочетались человеческое и божественное начала. Дыдрыпщ мог предсказать судьбу, лечить больных и т. д. Люди, поняв его сверхъестественные возможности, начали обращаться к нему по каждому поводу, даже по мелочам, что нельзя было делать. Тогда Дыдрыпщ обратился к Богу за помощью. Бог сделал Дыдрыпща невидимым, как и он сам; с тех пор он передвигается на крылатом коне Араш, бывает везде. А местом его постоянного обитания считается гора Дыдрыпщ, у подножия которой находится святилище (106). По словам жреца Заура Чичба, «апааимбара нельзя беспокоить по мелочам — это может только разгневать его. Обращаться к нему за помощью разрешается лишь в тех случаях, когда абхазскому народу угрожает реальная опасность, либо когда люди сами не в состоянии выяснить истину и решить важные для них проблемы... Жрец, к примеру, не может попросить Дыдрыпща помочь бездетной женщине, спасти умирающего человека, ... так как судьбы людей “предопределены Богом и тут ничего нельзя изменить”» (107). Дыдрыпщ-ныха, при посредничестве жреца, может исправить плохих людей, наказать преступника (наказание может последовать и через десять лет, и через сто /вина преступника может перейти на представителей фамилии, рода, которые могут пострадать из-за своего сородича/).
Святилище составляет единое целое, но оно состоит из двух частей: «Дыдрыпщ Ду» («Большой Дыдрыпщ») и «Дыдрыпщ Хучы» («Малый Дыдрыпщ»).
У Малого Дыдрыпща (у подножия горы) обычно проводятся очистительные клятвы, проклятия и т. д. А подниматься к Большому Дыдрыпщу дозволено только избранным (чаще безгрешным) представителям фамилии Чичба.
На месте расположения Малого Дыдрыпща есть небольшая роща старых грабов; рубить их запрещено. Например, при очистительных церемониях жрец дает пришедшему грабовую веточку, сорванную из этих деревьев. И с этой веточкой «подозреваемый» вслед за жрецом произносит очистительную клятву (108).
Обращаться к Дыдрыпщ-ныхе за помощью могут и представители других национальностей. Как вспоминает 3. Чичба, раньше к жрецу приходили и армяне из Адлера, и грузины из окрестных сел, и русские из Абхазии и Сочи и другие. При этом не существует никаких ограничений по половым и иным признакам, но необходимо соблюдать установленные порядки, они обязательны для всех.
По словам 3. Чичба, «когда он произносит молитву в святилище, то “чувствует божество”, у него “внутри все дрожит” и слова произносятся “под влиянием вроде бы самого Дыдрыпща”» (109).
Б. Шинкуба, внедряя образ Бытхи в художественную структуру романа «Последний из ушедших», естественно, учитывал фольклорные, этнографические и другие материалы об абхазских святилищах. Бытха — это примечательный пример трехуровневого восприятия и интерпретации этнографического факта (этнографический факт — фольклорный образ — литературный образ), о котором говорилось во введении.
326
Б. Шинкуба, опираясь на собранный историко-этнографический и фольклорный материал об абхазских святилищах, в том числе и о главной святыне убыхов, отмечает, что и Бытха летала, она общалась со святилищами Абхазии, именно Абхазии (писатель не назвал их (110) ). Все это говорит о том, что отнесение писателем Бытхи к числу аныха-куа исторически оправдано. В романе Шарах Квадзба — лингвист, он пытается расшифровать термин «аныха»: «Само божество по-абхазски связано со словом “аныха”, и некоторые языковеды расчленяют это слово на две части: аны-ха/“ан-хы” — “анцәа-хы”. В слове “ан-цәа” “ан” — мать, “цәа” — суффикс множественного числа». (3; 100). В слове “аныха” «“ан” — бог и “ха” — голова, то есть голова бога.
...“Аныха” обозначает языческое божество, но в понятии “голова бога” присутствуют элементы христианства. Очевидно, появившееся задолго до проникновения христианства, слово “аныха” приобрело христианские функции уже задним числом. Во всяком случае, по форме эти материальные символы веры не напоминают головы бога. В одних случаях это камни, похожие на горного орла, в других — на бараний череп, в третьих — на какое-то непонятное существо. Есть исторические данные, говорящие о том, что византийские миссионеры, распространяя еще в IV веке христианство в Абхазии, использовали в своих целях древние языческие святые места и именно там воздвигали христианские церкви: в Лдзаа, на Пицунде, в Лыхнах, в Елыр, — и в этих церквах, в своем позднейшем значении, слово “аныха” обозначало голову божьей матери, а в других местах оставалось по-старому, и слово “аныха”, как и встарь, было связано только с древними языческими обрядами. ...Очевидно, так это было и для убыхов». (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 80-81).
Такое объяснение важных для поэтики произведения Б. Шинкуба понятий Шарахом и, естественно, самим автором в целом приемлемо, но с оговорками. Нет, конечно, сомнения в том, что термин «аныха» сформировался в дохристианский период истории абхазов и родственных им народов, однако в средние века, с утверждением христианства в Абхазии (с IV в.), происходит некоторая трансформация содержания понятия. Оно начинает означать и «икону», при том, что сохраняется и первоначальное его значение — языческое божество, святилище или святыня. Г. Ф. Чурсин тоже переводил термин «аныха» как «икону». А трехсложное название «Аныпсных» (Аныгьсных), о которой говорилось выше, этнограф расщепляет по частям и переводит так: «... ан — “мать”, псы — “умершая”, (псы / ԥсы/ можно перевести и как “дух”, “душа”. — В. Б.), ныха — “икона”, следовательно, [Аныпсных] означает образ Успения Богоматери. Из этого заключают, что существовавшая на вершине Дыдрыпща церковь была посвящена Успению божьей матери» (111). Слово же «аныха», как правильно отмечает герой романа Шарах Квадзба, состоит из двух корней: «“ан” и “ха”. Нет сомнения, что “ан” связано с Анцәа — Бог, в котором “ан” — “мать”, “цәа” — суффикс множественного числа, или же корень от слов “ацәа”, “ацәеижь” в значении “кожа”, “плоть”. Анцәа по абхазским и абазинским мифологическим традици-
327
ям — верховный бог, творец природы, людей, мироздания, равных ему нет, он един. Анцэа переводится на русский язык только как Бог. Он пребывает на небе (в народе говорят: “хыхь иҟоу”, т. е. “находящийся наверху, выше”). “Когда он спускается с неба, гремит гром, когда поднимается, — сверкает молния. Гром и молния — его карающая сила... С одной стороны, существуют представления об Анцәа как о божестве, лишенном каких-либо конкретных внешних черт; с другой стороны, иногда его представляют либо молодым красивым мужчиной, либо седым старцем...» (112).
Любопытно, что в шумеро-аккадской мифологии Ан (шумер, «небо»), Ану(м), Ану (аккад.) — одно из главных божеств, бог неба. Списки богов XXVI в. до н. э. из Фары (как и все списки богов) начинаются с .имени верховного бога Ан (Ану). Кроме того, Ан — божество города Урука, его постоянный титул — «отец богов» (113). По своей значимости он близок абхазско-абазинскому Анцәа/Нчва и адыгскому Тха и Тхашхо. Вместе с тем, в аккадском пантеоне появляется Анту(м) как женское соответствие Ану. Во II в. до н. э. происходит возрождение культа Ану и Анту(м), об этом свидетельствует новый храм, возведенный обоим божествам в городе Уруке (один из шедевров поздней вавилонской архитектуры) (114).
Ан встречается в именах божеств ряда народов, например, Анахит, Анаит — в армянской мифологии богиня-мать, богиня плодородия и любви, возникшая под влиянием распространенного у многих народов Древнего Востока культа богини-матери (115). Возможно, и абхазское божество Ан-цәа, в котором ан — мать, изначально формировалось в русле национальных и древневосточных традиций; названию этого божества, по нашему мнению, не менее четырех тысяч лет. Во всяком случае хаттский период истории абхазо-адыгских народов (в т. ч. убыхов) непосредственно связан с созданием пантеона языческих божеств у абхазов-абазин и адыгов (черкесов). В III—I тысячелетиях до н. э. многочисленные предки этих народов обитали в Малой Азии и на Кавказе, они сталкивались с другими древнейшими племенами: шумерами, египтянами, хеттами, греками и др., и их культура не могла развиваться обособленно, она формировалась во взаимодействии с другими культурами (116). Результатами исторических, языковых, культурных и других контактов стали и названия верховных языческих божеств Анцәа, Ан, Ану(м), Анту(м) и т. д. Интересно, что в абхазском языке «Ан» в значении «Бог» встречается в двухкоренном слове «аныхэара» («ан» — бог, «а-ҳәара» — просить) — молить (просить) бога, моление. Термин, видимо, первоначально звучал как аниҳәара (ан-и-ҳәара), в котором «и» префикс от местоимения третьего лица «иара» (имеется в виду Ан). А в абхазском языке префиксы от местоимений (т. е. начальные буквы) встречаются вместе с глаголом. Есть и другой термин — «аныҳәа» (современное значение — «праздник»), который первоначально означал «моление» (ан + ҳәара); он также встречается в сочетании с другими словами, например, «гуарԥныҳәа» (дословно — «моление за двор»), ацуныҳәа (моление, посвященное вызыванию дождя при длительной засухе), аныҳәара (тост) и др.
328
В романе «Последний из ушедших» Б. Шинкуба называет Бытху аныхой. Возможно, что в народе (во всяком случае среди абхазов) главное убыхское святилище называли Быт-ныха (Быт-ныха), сокращенный вариант от Бытха-ныха (Бытха-ныха). Здесь Бытха топонимическое название. Например, в «Лоции Черного моря» (1851) отмечалось, что Бытх — горка, «от которой выдается мыс Соча-Бытх» (117).
Г. 3. Шакирбай, по данным архивных материалов и картам XIX — нач. XX в., составил таблицу топонимов от реки Ингур (Ингури) до Новороссийска. Среди этих топонимов встречаются: гора Аублаарных (дословно: гора-святилище Аубла. — В. Б.), горная река Битха или Бытха (118). По свидетельству языковеда В.А. Чирикба, побывавшего в Турции, в селении Чыуаа ркыта (по-турецки — Богазкёй) живут в основном обабхазившиеся (точнее осадзившиеся) убыхи и садзы (абхазский субэтнос). Старик-убых Беджьхи Омурхуа помнит, что убыхи вышли из Кавказа, из местности Бытха (119).
В работах Л. Люлье приводится и гидроним Батхь — название речки (120). Г. 3. Шакирбай, отмечая, что убыхи этнически и лингвистически занимали промежуточное звено между абхазами и адыгами и говорили как на родном, так и на абхазском и черкесском языках, название Бытха относил к абхазским топонимам. По его мнению, одно из названий местностей в Сочинском районе «Бытха, по-абхазски Быҭәхуа, можно этимологизировать как Быҭә — родовая абхазская фамилия Быҭәба и хуа — “холм”, “гора”, т. е. — холм Быҭәбовых» (121). В исследовании «Садзы» Ш. Д. Инал-ипа среди садзских святилищ перечисляет и Аублаа-рныха (святилище /рода/ Аублаа) на территории г. Сочи (гора Батарейка). Кроме того, ученый считал, что Аублаа — это абхазская, в частности, садзская фамилия. А по Д. Чачхалиа, Аубла — это титул, который присваивался выбранным правителям Соча (Сача; абх. Шәашаа, Шәачаа) (Соча — в прошлом абхазская «община» в центральной Сочи, в районе современного г. Сочи). В романе Б. Шинкуба Аублаа — этноним, он используется в качестве названия всего народа. В таком случае «Аублаа» и «Убых» имеют разные значения: первое — это фамилия или титул, второе — это название народа.
В XVII в., а точнее — в 1666 г. на Кавказе побывал турецкий путешественник и ученый Евлиа Челеби. Результатом этой поездки стала «Книга путешествий», в которой описано более двадцати народов и этнических групп, живших от границ Абхазии с Грузией (Ингури, по-абхазски — Егры) до Туапсе и Анапы. По его мнению, двадцать из описанных племен, в том числе и племя «соча» — это племена народа абаза (122). Причем многие из них говорят как на черкесском, так и на абхазском языке. Вероятно, что племя (вернее, община или общество) соча относится к абхазам и близка убыхам. Так или иначе, нет сомнения в исторической, этнической, языковой близости абхазов и убыхов. Поэтому необходимо рассматривать образ святилища Бытхи и этимологию понятия «Бытха» с точки зрения абхазской религиозной традиции и языка. Вместе с тем, убыхи также близки адыгам (черкесам). И, возможно, что вторая часть
329
понятия «Бы-тха» — «тха» связана с названием верховного божества Тха, встречающемся в адыгской мифологии. Генетически Тха связано с архаическим божеством солнца. Оно считалось демиургом, создателем мира. Однако постепенно функции Тха переходят к Тхашхо, хотя часто в качестве верховного божества встречаются оба названия. Кроме того, «тха» встречается в многосложных понятиях из адыгской мифологии: «Псатха» — бог души, «Тхагаледж» — бог плодородия и земледелия, Мезитха — бог лесов и охоты, покровитель диких зверей и т.д. (123) В абхазском и абазинском языках, как отмечалось, встречаются ахы/хы (голова, глава), ах/ха (владетель, царь, правитель), ахада (главный), выражение «Хыхь иҟоу» (в смысле «находящееся наверху, т. е. на небе», Бог); «хыхь» — всегда означает верхний. Здесь очевидны абхазо-адыгские языковые связи.
Таким образом, символический образ святилища Бытхи в романе «Последний из ушедших» многофункционален. Во-первых, он раскрывает особенности менталитета, быта и верований убыхов, говорит об ошибочности мнения многих историков, которые считали, что одной из главных причин борьбы горцев против Российской империи (особенно на Северо-Западном Кавказе и Абхазии), а также их выселения или переселения является религия (ислам). Во-вторых, образ святилища свидетельствует о том, что убыхи — древнейшие аборигены Кавказа, со своими обычаями и традициями, часть истории цивилизации. В-третьих, судьба святилища — это судьба самого народа.
Важнейшую роль в поэтической структуре произведения играют также образы трубы и пояса с кинжалом. Они отчасти выполняют те же функции, что и образ Бытхи, способствуют углубленному раскрытию авторского замысла, трагической судьбы целого народа. Зауркан Золак получил эти реликвии из рук старейшего убыха, жреца и хранителя Бытхи Соулаха. Зауркан Золак рассказывает Шараху о трубе и кинжале в самом начале своего горького повествования: «Соулах, самый старший из нас, оставшихся в этом краю убыхов, перед смертью отдал мне этот пояс с кинжалом и эту трубу. Пояс с кинжалом были его, а труба принадлежала нашему народу. Сегодня она у меня, а когда я умру, кто знает, чья она будет. Когда мы жили на Кавказе, у моего отца была почти такая же, и когда к нам приезжали из Цебельды (село находится в Восточной Абхазии. — В. Б.) братья моей матери, отец этой трубой собирал соседей и родственников. Услышав ее, все знали, что к Хамирзе приехали гости. Так пусть же она протрубит и в эту ночь, пусть все убыхи узнают, что у меня в гостях приехавший издалека близкий человек, мой дядя по матери! Пусть все узнают и придут на пир!» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 17). После этих слов старик Зауркан выходит из хижины и начинает трубить. Труба издает душераздирающий звук, приглашая к столу в честь высокого гостя124 тех, кого уже нет в живых. Первая глава «Последнего из ушедших» «Трапеза с мертвыми» играет важную роль в повествовательной структуре и оказывает сильное воздействие на читателя, который жаждет узнать о причинах странного поведения главного героя —
330
столетнего старика Зауркана, о тайнах истории гибели народа. Этому способствуют и символические образы трубы и кинжала.
Кинжал с поясом — личные вещи Соулаха, которые, как было принято у абхазов и других горцев, могли передаваться от отца к сыну, они являлись семейной реликвией. Перед смертью Соулах передает их Зауркану, ибо он верит в него, считает его достойнейшим представителем убыхов, способным сохранить родной язык, национальные обычаи и традиции. Именно ему же передает и трубу, превращенную писателем в обобщенный символический образ реликвии целого народа (а реально таких труб могло быть немало). «Братья, ...знайте, что это перешло ко мне от дедов и отцов моих. Знайте, что этот кинжал выкован еще тогда, когда край убыхов процветал в славе и доблести. Все владельцы его были настоящими мужчинами, и длань каждого из них была продолжением стального лезвия. А эта труба слыла глашатаем народа, вестницей его радостей и горевестницей. Даже горы вторили ей. Я стою у края могилы. Мой внук... человек больной и малоопытный... Сын мой, Зауркан Золак (обращается к Зауркану как к родному сыну. — В. Б.), ты моложе всех присутствующих, а страданий перенес больше, чем любой из нас. Слабых духом страдания разрушают, а сильных духом — закаляют. И потому только ты достоин унаследовать вещи, на которых лежит печать судьбы. (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 233-234).
Образы кинжала и трубы появляются и в конце романа, завершая трагическую эпопею народа. Зауркан чувствует, что смерть потихоньку подкрадывается к нему. Он переживал за будущую судьбу этих реликвий, когда-то переданных ему хранителем Бытхи Соулахом. Но тут, к счастью, появляется представитель близкого ему народа Шарах Квадзба, с которым он разговаривает на чистом абхазском языке — языке его матери. От Шараха Зауркан узнает, что Абхазия сохранилась и в ней еще живут абхазы. Передавая реликвии дорогому гостю, Золак сказал: «Дорогой Шарах, от убыхов, которые исчезли с лица земли, осталось только это. Возьми их с собой в Абхазию! Для Бирама (турок, приемный сын Зауркана. — В. Б.) они безмолвны, а с тобой будут говорить. Здесь, после моей смерти, они, наверное, попадут в чужие руки. А вместе с тобой окажутся в родных краях!..» (Перев. К. Симонова и Я. Козловского; 285).
Зауркан Золак до конца своей жизни остался убыхом. Несмотря на возраст и болезнь, он даже пытался соблюсти правила национального этикета. Покидая старика, Шарах приложил все усилия, чтобы удержать Зауркана Золака в постели, но тот все равно встал; надел архалук и черкеску, папаху, взял посох и, выйдя из дому, провел почетного гостя до калитки...
Таким образом, сравнительно-типологический анализ произведения Б. Шинкуба «Последний из ушедших» показывает, что мы имеем дело с историко-философским романом со сложной повествовательной структурой и в целом художественной системой, который стал крупным явлением не только в абхазской, но и в кавказских литературах.
331
В романе впервые открыто и масштабно поставлены важнейшие проблемы истории Кавказской войны XIX столетия. Творение свидетельствует о том, что художественная литература иногда может опережать историографию и философию (в частности философию истории, которая до сих пор отсутствует в кавказских культурах).
Неслучайно роман «Последний из ушедших» завоевал сердца миллионов читателей, особенно он стал родным на Северном Кавказе, народы которого пережили в XIX в. трагедию войны и махаджирства, ибо автор отразил не только судьбу исчезнувшего конкретного этноса, но и выразил общую боль многих народов, больших и малых. Смерть этноса писатель рассматривает как философскую (историософскую), общечеловеческую проблему, как урок, величайшую утрату для мировой цивилизации.
Роман утверждает: осмысление прошлого помогает лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Произведение также предупреждает: то, что случилось с убыхами, может произойти с каждым народом, и даже с цивилизацией; тому примеров много в мировой истории (судьбы хаттов, хеттов, латинян, инков, индейских племен Америки и т. д.).
Сквозь образную систему романа проходит и другая мысль: все войны, беды и трагедии в мире, уносящие миллионы человеческих жизней, уничтожающие целые народы, совершаются из-за глупостей, алчности, невежества и несовершенства человека, от недостатка духовности, культуры. Б. Шинкуба с сожалением подтверждает известную истину, выраженную И. Крыловым: «У сильного всегда бессильный виноват...»; и другое: миром правила и правит грубая сила.
Вместе с тем, роман ставит массу и других вопросов философского, историософского и этнософского характера. Среди них такие проблемы: война и человек, судьба этноса в контексте мирового исторического процесса, личность и народ, роль личности в истории народа, личность и свобода с точки зрения индивидуализма и коллективизма, личность и национальная этика, этническое и национальное сознание, язык и культура в условиях чужбины и т. д.
При этом произведение изнутри часто вступает в острую полемику с историографией и этнологией, иногда даже отвергает их лживую концепцию событий, художественным словом, тюэтачъсгами средствами, срывая чадру с лица жестокой реальной исторической действительности. Речь, конечно, не идет о таких фундаментальных исследованиях, как труд Г. А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» (125), который стал чуть ли не настольной книгой ученых и читателей, занимающихся изучением Кавказской войны XIX в.
Роман также полемизирует с самой трагической реальностью, которую он проклинает, отвергает, хотя и отражает ее. И в этом проявляется конфликт между художественной правдой и исторической правдой. Произведение дискутирует и с историческими личностями, которые могли не допустить трагедии,
332
направить народ по более спасительному пути. Хотя автор прекрасно понимал, что в той ситуации это было трудно сделать, ибо, по словам Л. Арутюнова, было очевидно, что «суть трагической ситуации — в роковой невозможности правильного, разумного решения...» (126).
Духовная сила романа «Последний из ушедших» заключается и в том, что та полемика, предложенная им, продолжается и сегодня, и, видимо, продолжится и в будущем. Об этом свидетельствуют события, происходящие на Кавказе в течение последних 10-15 лет. Опять происходит спор между Хаджи Берзеком и Хамутбеем Чачба, между Хаджи Берзеком и Ахметом, сыном Баракая; или между императором Александром II и Цейко, и между Цейко и Хаджемуко-Хадже. Говорят, что история рассудит правых и неправых, но сама история связана с человеком, она не может быть без него. Поэтому проблема заключается в самом человеке, обществе...
Многие из проблем, затронутых Б. Шинкуба, впоследствии нашли отражение в исторических повестях Д. Зантариа «Судьба Чыу Якупа» и «Князь хылцисов», исторических романах адыгских писателей — И. Машбаша «Жернова» и «Хан-Гирей», С. Мафедзева «Достойны гыбзы» («Достойны печальной песни») и др., посвященные той же эпохе Кавказской войны; в социально-психологических и философских повестях и романах А. Гогуа «Вкус воды», «Большой снег», А. Джениа «Анымирах — божество двоих», исторических романах Б. Тужба «Апсырт», В.Амаршана «Апсха — царь Абхазии» и т. д. Последние произведения не связаны с XIX веком, в них события разворачиваются в VI—VIII вв. и в XX столетии.
Примечания
1 Надъярных Н. С. Ритмы единения. Киев, 1986. С. 167.
2 Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. Ч. I. М., 1823. Глинка Ф. Поход ген. Б... [Бибикова] в закубанские горы против черкес и турецкой крепости Анапы // Военный журнал. Кн. 8, 9. 1818, Сын отечества. 1824. № 24. Колюбакин Н. П. Взгляд на жизнь общественную и нравственную племен черкесских. Извлечение из записок // Кавказ. 1846. № 11; Об Абхазии. Исторический очерк // Кавказ. 1853. №71. Данилевский Н.Я. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении. М., 1846. Пушкарев С. Абхазия и абхазцы // Кавказ. 1854. №№ 60, 61. ЛюльеЛ. Я. Общий взгляд на страны, занимаемые горскими народами, называемыми черкесами (адиге), абхазцами (азега) и другими смежными с ними // Записки Кавказского Отдела Русского Географического Общества. Кн. IV. Тифлис, 1857; Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказского Отдела Русского Географического Общества. Кн. V. Тифлис, 1862; Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухажцев // Записки Кавказского Отдела Русского Географического Общества. Кн. VII. Тифлис, 1866. С. 1-18; Черкесия: Историко-этнографические статьи. Краснодар, 1927; Черкесия. Киев, 1991. Селезнев М. Руководство к
333
познанию Кавказа. Кн. 1—3. СПб., 1847—1850. Швецов В. Очерк о кавказских горских племенах с их обрядами и обычаями в гражданском, воинском и домашнем духе. М., 1856. Романовский Д. И. Кавказ и Кавказская война. СПб., 1860. Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный берег Черного моря // Русский вестник. Т. 28. Кн. 2. № 16. 1860. Макаров Т. Племя Адыге // Кавказ. 1862. №№ 34, 36. Махвич-Мицкевич А. Абадзехи, их быт, нравы и обычаи // Народная беседа. 1864. № 3. Духовский С. Материалы для описания войны (1864 г.) на Западном Кавказе // Военный сборник. 1864. №№11, 12. Отдельное издание — СПб., 1864. Шопен И. Новые заметки по древней истории Кавказа и его обитателей. СПб., 1866. Рождовский А. Эпизод из жизни шапсугов в 1780 г. // Кавказ. 1867. 70. Ильин Д. Свадьба у православных черкесов // Кавказ. 1868. № 111. Вишняков. Очерки Кавказской войны. СПб., 1872. Дроздов И. Обзор военных действий на Западном Кавказе, с 1848 по 1856 год // Кавказский сборник. Т. X. Тифлис, 1876. Иоакимов А. Абхазцы // Кавказ. 1874. № 39. Кавецкий А. Первоначальное физическое воспитание детей у абадзехов, темиргоевцев и других племен горцев, населяющих Майкопский уезд Кубанской области // Кубанские областные ведомости. Екатеринодар, 1879. №27, 14 июля. Верещагин А. В. Исторический обзор колонизации Черноморского побережья Кавказа и его результат. СПб., 1885. Альбов Н. М. Этнографические наблюдения в Абхазии // Живая старина. Вып. 3. СПб., 1883. С. 297—329. Леонид [Кавелин], архимандрит. Абхазия и ее христианские древности. 2-е издание. М., 1887. Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Максимов Е., Вертепов Г. Туземцы Северного Кавказа. Вып. I. Осетины. Ингуши. Кабардинцы. Владикавказ, 1892. Уварова П. Кавказ, Абхазия, Аджария, Шавшетия, Псховский участок. Путевые заметки. М., 1891; Христианские памятники Кавказа // Материалы по археологии Кавказа. Вып. IV. М., 1894. Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 гг.: В 2-х ч. [СПб.], 1894; Записки о Кавказской войне с 1854 по 1866 г. // Русская старина. 1895, октябрь. Погго В. А. Кавказская война: В 5-ти тт. Ставрополь, 1994. Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860; Очерки покорения Кавказа. СПб., 1901. ФелицынЕ. Д. О переселении горцев в Турцию // Кавказ. 1877. №147, 16 декабря; Численность горцев и других мусульманских народов Кубанской области с распределением их по месту жительства и с показанием племенного состава жителей каждого аула // Сборник сведений о Кавказе. Т. IX. Тифлис, 1868; Описание восточного берега Черного моря, составленное в 1839 году генералом Н. Н. Раевским. Материалы для истории Кубанской области // Кубанские областные ведомости. 1890. №№ 48—52; О контрабанде и ее прекращении на Черноморской береговой линии в 1838—1842 годах. Документальные материалы для истории Северного Кавказа // Кубанские областные ведомости. 1890. №№ 10, 12; Князь Сефер-бей Зан // Кубанский сборник. Т. X. 1904. Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Тт. 1-6. СПб, 1871-1888; Черкесы (адыге). Краснодар, 1927; Черкесы (Адыге) //Черкесы (Адыге) [Сборникработ]. Нальчик, 1991. Филипсон Г. И. Воспоминания. М., 1885. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Вып. 1—2. Одесса, 1882—1883. БержеА. Краткий обзор горских племен на Кавказе // Кавказский календарь на 1858 год. Тифлис, 1857. Отдел III (отдельное издание — Тифлис, 1858; переиздание — Нальчик, 1992); Выселение горцев с Кавказа в 1858-1865 гг. //
334
Русская старина. Т. 33. 1882. Савинов В. Три месяца в плену у горцев // Современник. 1848. № 11; Достоверные рассказы об Абхазии. (Воспоминания офицера, бывшего в плену у абхазов) // Пантеон. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1850. С. 1-19; Два года в плену у горцев. СПб., 1851; Кубегаля. Рассказ из абхазских нравов // Пантеон. Т. 12. СПб., 1853. С. 1— 15; Англичане-контрабандисты на Сухумских берегах // Сын отечества. 1858. № 22. Ковалевский Е. Очерки этнографии Кавказа // Вестник Европы. Т. 3. 1867. Торнау Ф. Ф. Горские племена, живущие за Кубанью и по берегу Черного моря от устья Кубани до Ингура // Кавказ. 1850. №№ 94-96, 98; Записки русского офицера, бывшего в плену у горцев // Кавказ. 1852. №№ 1—2; Воспоминания кавказского офицера. М., 1864. Кондаков Н. П. Древняя архитектура Грузии. М., 1875. Вейденбаум Е. Г. Священные рощи и деревья у кавказских народов // Известия Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Т. V. № 3. Тифлис, 1878; Кавказские этюды (исследования и заметки). Тифлис, 1901. Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. Тт. 1-2. М., 1890; Поземельные и сословные отношения у горцев Северного Кавказа // Русская мысль. 1883. № 12; Поклонение предкам у кавказских народов // Вестник всемирной истории. 1902. № 3. Миллер В. Ф., Ковалевский М. М. В горских обществах Кабарды // Вестник Европы. Кн. 4. 1884. Абрамов Я. Кавказские горцы // Дело. 1884. № 1. (Опубликовано также в сборнике «Черкесы /Адыге/». Нальчик, 1991). Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тифлис, 1887. Пантюхов И. И. Заметки по антропологии Кавказа. Сванеты. Абхазцы...// Протоколы Русского Антропологического Общества. 1890. Рыбинский Г. А. Абхазия в этнографическом и сельскохозяйственном отношении. Тифлис, 1894. Сталь К. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т. XXI. Тифлис, 1900. Кулаковский Ю. А. Где был построен императором Юстинианом храм для авазгов? // Археологические изыскания и заметки. Т. V. № 2. М., 1897; История Византии: В 3-х тт. СПб., 1996; Избранные труды по истории аланов и Сарматии. СПб., 2000. Александров Н. Степи и горы. Кавказ. Черкесы и кабардинцы. М., 1901. Дьячков-Тарасов А. Н. Абадзехи. (Историко-этнографический очерк) // Записки Кавказского Отдела Русского Географического Общества. Кн. XII. Вып. 4. Тифлис, 1902. Державин Н. С. Абхазия в этнографическом отношении // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXXVII. Тифлис, 1907; Свадьба в Абхазии // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXXVI. Тифлис, 1906. Короленко П. Записки о черкесах // Кубанский сборник. Т. XIV. Екатеринодар, 1909. Кох К. Черкесы [Отрывок книги XIX в.] // Адыги. Нальчик, 1992. № 4. Миллер А. А. Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 1907 году // Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 33. СПб., 1909. С. 81-82; Из поездки по Абхазии в 1907 году // Материалы по этнографии России. Т. I. СПб., 1910. С. 61—80; Черкесские постройки // Материалы по этнографии России. Т. II. СПб., 1914. Васильков В. В. Очерк быта темиргоевцев // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXIX. Тифлис, 1901. Ган К. Ф. Поездка в Мигрелию, Самурзакань и Абхазию (летом 1900 г.) // Кавказский вестник. 1902. №4. С. 20—24. Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Тт. I, II. Екатеринодар, 1910, 1913; Очерки борьбы русских с черкесами. Екатеринодар, 1917. Латышев В. В. К истории христианства на Кавказе. Греческие надписи из
335
Ново-Афонского монастыря // Сборник археологических статей, поднесенный графу А. Бобринскому. СПб., 1911. С. 169-198. КаргановН. А. О горских словесных судах на Северном Кавказе. СПб., 1914. Солодун М. С. Из прошлого Северного Кавказа. Ставрополь, 1914. Башенев Н. 50-летие покорения Западного Кавказа и окончания Кавказской войны. Тифлис, 1914. Ковалевский П. И. Народы Кавказа. История завоевания Кавказа. Т. I—II. Петроград, 1915. Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913; Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957. Олонецкий А. А. Колонизация Абхазии во второй половине XIX столетия. Сухуми, 1934. Пожидаев В. П. Горцы Северного Кавказа: Ингуши, чеченцы, хевсуры, осетины, кабардинцы. Краткий историко-этнографический очерк. М.—JI., 1926. Ладыженский А. М. Обычное семейное право черкес // Новый Восток. М., 1928. № 22. Генко А. Н. Свидетельство Геродота о колхах // Абхазское научное общество. Бюллетень № 3 Распорядительного комитета Первого съезда деятелей по краеведению Черноморского побережья и Западного Кавказа. Сухум, 1924. Марр Н. Я. Крещение армян, грузин, абхазов и алан св. Георгием. СПб., 1905; О языке и истории абхазов. М.—Л., 1938. Шиллинге. М. В Гудаутской Абхазии // Этнография. 1926. № 1—2. С. 61—82; Черкесы // Религиозные верования народов СССР. Т. 2. М.—Л., 1931; Абхазы // Религиозные верования народов СССР. Т. 2. М.—Л., 1931. Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 1926. Замятнин С. Н. Палеолит Абхазии. Сухуми, 1937. Бушуев С. К. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. М.—Л., 1939; Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России (20—70-е годы XIX в.). М., 1955; Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956. Голенко К. О монетах, приписываемых Савмаку // Вестник древней истории. 1951. № 4. С. 199—203; Денежное обращение Колхиды в римское время. Л., 1964. Косвен М. О. Аталычество // Советская этнография. 1935. № 2; Этнография и история Кавказа. Тбилиси, 1952. (Переиздание — М., 1961); Архивные материалы по географии и этнографии Кабарды (1808—1834) // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Т. 13. Нальчик, 1957; Семейная община и патронимия. М., 1963. Анфимов Н. В. Древнейшие поселения Прикубанья. Краснодар, 1953; Древняя история Кубани. Краснодар, 1956; Из прошлого Кубани. Краснодар, 1958; Новый памятник древнемеотской культуры // Скифский мир. Киев, 1975; Протомеотский могильник у с. Николаевского // Сборник материалов по археологии Адыгеи. Т. 2. Майкоп, 1961; Курганы рассказывают. Краснодар, 1982; Племена Прикубанья в сарматское время // Советская археология. Т. 28. 1958; Сельское хозяйство у синдов // История и культура античного мира. М., 1977; К вопросу о населении Прикубанья в скифскую эпоху // Советская археология. 1949. № 11. Фадеев А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 1960; К вопросу о феодализме в Абхазии. Сухум, 1931; Русский царизм и крестьянская реформа в Абхазии. Сухум, 1932; Очерки истории Абхазии. Сухум, 1932; Крестьянское восстание 1866 года в Абхазии // Труды Абхазского НИИ краеведения. Вып. III. Сухум, 1934; Убыхи в освободительном движении на Западном Кавказе // Исторический сборник. Вып. 4. М.-Л., 1935; Кавказ в системе международных отношений 20—50 гг. XIX в. М., 1956. Куфтин Б. А. Материалы к археологии Колхиды. Тт. I—II. Тбилиси, 1949-1950. Коробков И. И. Итоги пятилетних исследований яштухского палеолитического местонахождения // Советская археология.
336
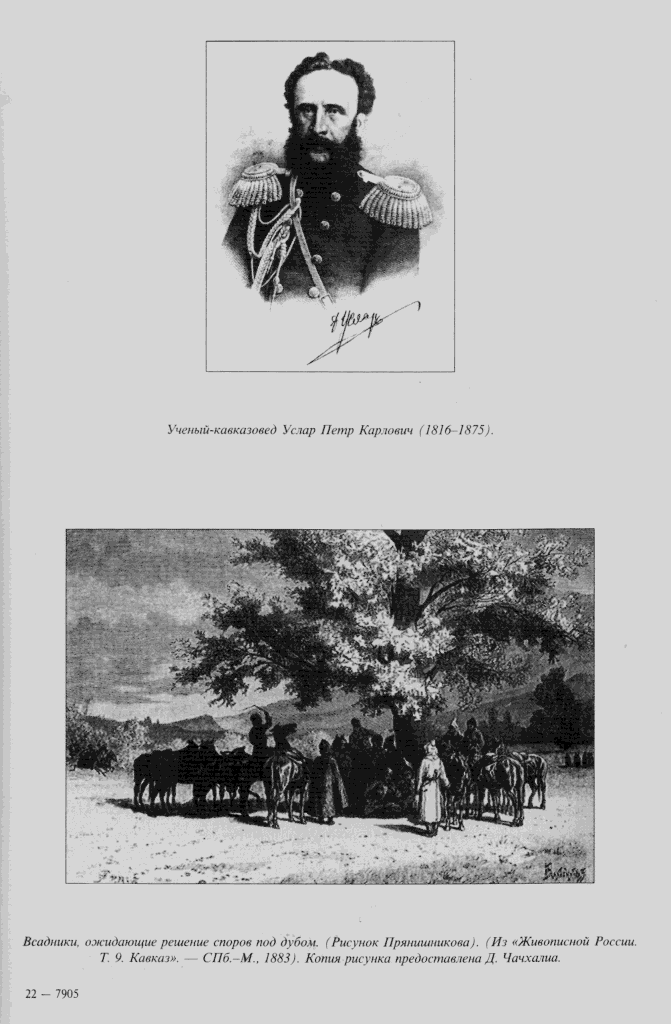
337
1967. № 4. С. 194—206; К проблеме изучения нижнепалеолитических поселений открытого типа с разрушенным культурным слоем // Материалы и исследования по археологии СССР. 1971. № 173. С. 61-99; Новые палеолитические находки на Яштухе // Советская археология. 1965. № 3. С. 91-99; Яштухская палеолитическая стоянка (вопросы геологии и условий залегания палеолитических индустрий): Тезисы докладов по плановой теме
20 апреля 1992 г. // Археологические вести. СПб., 1995. № 4. С. 313-315. Иващенко М. М. Великая Абхазская стена // Известия Абхазского научного общества. Вып. IV. Сухуми, 1926. Лавров Л. И. Из поездки в черноморскую Шапсугию // Советская этнография. 1936. № 4-5; «Обезы» русских летописей // Советская этнография. 1946. № 4; Классовое расслоение и племенное деление абазин в XVIII и XIX вв. // Советская этнография. М., 1948. № 4; Абазины. Историко-этнографический очерк,// Кавказский этнографический сборник. Вып. 1. М., 1955. С. 5-47; Адыги в раннем средневековье // Сборник статей по истории Кабарды. Вып. 4. Нальчик, 1955; Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959; Дольмены Северо-Западного Кавказа // Труды Абхазского Института языка, литературы и истории. Т. XXXI. Сухуми, 1960; К истории бжедугов и жаннеевцев // Ученые записки Адыгейского НИИ. Т. 4. Майкоп, 1965; Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Чч. 1, 2, 3. М., 1966, 1968, 1980; Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978; О происхождении абазин // Археология и этнография Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979; Этнография Кавказа: (По полевым материалам 1924-1978 гг.). Л., 1982. Яковлев Н. Ф. Культура кабардинцев и черкес по данным словаря // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Т. 2. Нальчик, 1947. Трубачев О. Н. О синдах и их языке // Вопросы языкознания. М.,
1976. № 4; Таврские и синдомеотские этимологии // Этимология. 1977. М., 1979. Покровский М. В. Иностранные агенты на Западном Кавказе в первой половине XIX века // Кубань. 1952. № 11; Социальная борьба внутри адыгейских племен в конце XVIII — первой половине XIX в. и ее отражение в общем ходе Кавказской войны. М., 1956; О характере движения горцев Западного Кавказа в 40-60-х годах XIX века // Вопросы истории. 1957. № 2. С. 62-74; Русско-адыгейские торговые связи. Майкоп, 1957; Адыгейские племена в конце XVIII — первой половине XIX в. // Кавказский этнографический сборник. Вып. 2. М., 1958. Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. Л., 1991. Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. Смирнов Н. А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях XVI-XVIII вв. Нальчик, 1948; Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. М., 1958; Мюридизм на Кавказе. М., 1963. СмирновА. П. К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим данным // Труды Кабардинского НИИ. Т. IV. Нальчик, 1948. Крупнов Е. И. Краткий очерк археологии Кабардинской АССР. Нальчик, 1946; Древняя история и культура Кабарды. М., 1957; Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. Алексеева Е. П. Средневековая история народов Северо-Западного Кавказа. Л., 1969. Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI-30-е годы XVII века). Марковин В. И. Дольменная культура и вопросы этногенеза адыго-абхазов. Нальчик, 1974; Дольмены Западного Кавказа. М., 1978; Испун — дома карликов. (Заметки о доль-
338
менах Западного Кавказа). Краснодар, 1985. Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962. Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967. С. 166-176. Соловьев Л.Н. Первобытное общество на территории Абхазии. Природа и человек нижнего и среднего палеолита Абхазии. Сухуми, 1971. Данилова Е. Н. Абазины. Историко-этнографическое исследование хозяйства и общинной организации. XIX в. М., 1984. Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. Кобычев В. П. Современное адыгейское жилище и его история // Труды Адыгейского НИИ. Т. 4. Майкоп, 1965; Типы жилища у народов Северо-Западного Кавказа в середине XIX в. // Кавказский этнографический сборник. Вып. 5. М., 1972; Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., 1982. Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973; Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. М., 1974. Федоров Я. А. Топонимика Западного Кавказа и некоторые вопросы его этнической истории // Из истории Карачаево-Черкесии. Труды Карачаево-Черкесского НИИ. Черкесск, 1974; Место майкопцев в этнической истории Западного Кавказа // Вестник МГУ. Серия 9. История. 1975. № 5; Историческая этнография Северного Кавказа. М., 1983. ГадлоА. В. Этническая история Северного Кавказа. IV—X вв. Л., 1979; Этническая история Северного Кавказа. X-XIII вв. СПб., 1994. Смирнова Я. С. Аталычество и усыновление у абхазов в XIX—XX вв. // Советская этнография. М., 1951. № 2. С. 105-114; Семейный быт и общественное положение абхазской женщины (XIX-XX вв.) // Кавказский этнографический сборник. Вып. 1. М., 1955.
С. 113-181; Обычаи избегания у адыгейцев и их изживание в советскую эпоху // Советская этнография. 1961. № 2. С. 41-52; Воспитание ребенка у абхазов // Краткие сообщения Института этнографии. Т. 36. М., 1962. С. 36-43; О некоторых религиозных пережитках у причерноморских адыгейцев // Советская этнография. 1963. № 6; Воспитание ребенка в адыгейском ауле в прошлом и настоящем // Ученые записки Адыгейского НИИ литературы, языка и истории. Т. 8. Майкоп, 1968. С. 109—178; Традиции и инновации в развитии семейной обрядности (по материалам Северного Кавказа). М., 1973; Детский и свадебный циклы обычаев и обрядов у народов Северного Кавказа // Кавказский этнографический сборник. Вып. VI. М., 1976. С. 47-98; Некоторые количественные показатели отхода от обычаев избегания у кабардинцев и балкарцев // Советская этнография. 1977. № 2. С. 77-83; Культурное взаимодействие и семья. По материалам Северного Кавказа // Советская этнография. М., 1977. № 5. С. 81-92; Избегание и процесс его отмирания у народов Северного Кавказа // Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М., 1979. С. 118-163; Роли и статусы старших в абхазской семье (к проблеме геронтофильных факторов долгожительства) // Советская этнография. М., 1982. № 6. С. 40— 51; Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. Вторая половина XIX—XX вв. М., 1983; Роль старших возрастных групп в абхазской фамильно-патронимической организации // Феномен долгожительства. М., 1982; Абазины // Народы мира. Историкоэтнографический справочник. М., 1988. С. 35; Абхазы // Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 35-36. Иванов Вяч. Вс. Разыскания в области анатолийского языкознания//Этимология. М., 1971. Воронов Ю. Н. Археологическая карта Абхазии. Сухуми, 1969; Краткий очерк археологии Клухорского перевального пути.
339
Сухуми, 1969; Тайна Цебельдинской долины. М., 1975; Древности Военно-Сухумской дороги. Сухуми, 1977; В мире архитектурных памятников Абхазии. М., 1978; Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979; Диоскуриада — Себастополис — Цхум. М., 1980; Колхида на рубеже средневековья. Сухум, 1998; Древняя Апсилия. Сухум, 1998. Воронов Ю. Н., Бгажба О. X. Главная Крепость Апсилии. Сухуми, 1986. Воронов Ю. Н., Бгажба О. X. Материалы по археологии Цебельды. Тбилиси, 1985. Турчанинов Г. Ф. Летописный Редедя и черкесские «редада» // Ученые записки Кабардинского НИИ. Т. II. Нальчик, 1947; Древнейшая III в. н. э. адыгская (меото-синдская) надпись на гемме Краснодарского историко-краеведческого музея // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Т. 19. Серия экономическая и историческая. Нальчик, 1963; Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы. М.»-Л., 1971.; Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. М., 1999. ХрушковаЛ. Г. Древняя печать из Нового Афона // Советская Абхазия. 1976, 22 октября; Скульптура раннесредневековой Абхазии V—X века. Тбилиси, 1980; Новые данные о распространении христианства у ^псилов // Известия Абхазского Института языка, литературы и истории. Т. IX. Тбилиси, 1980; Цандрипш. Материалы по раннехристианскому строительству в Абхазии. Сухуми, 1985; Новая октогональная церковь в Севастополисе в Абхазии и ее литургическое устройство // Труды XVIII конгресса византинистов и другие материалы, посвященные памяти Иоанна Мейендорфа. СПб., 1995; Лыхны. Средневековый дворцовый комплекс в Абхазии. М., 1998. Невская В. П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические последствия. Черкесск, 1956; Земельная реформа и отмена крепостного права в Черкесии // Труды Карачаево-Черкесского НИИ. (Серия историческая). Вып. 3. 1959; Карачай в XIX в. Черкесск, 1966; Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. Черкесск, 1972; Алексеева Е. П. Очерки по экономике и культуре Черкесии в XVI—XVII вв. Черкесск, 1957; Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. М., 1971; Этнические связи сарматов и ранних алан с местным населением Северо-Западного Кавказа. Черкесск, 1976; Археологические памятники Карачаево-Черкесии. М., 1992; Из истории политических взаимоотношений черкесов и абазин с Россией в XVI веке // Вестник Карачаево-Черкесского Института гуманитарных исследований. Вып. I. Черкесск—Ставрополь, 1999. С. 21—26; Крушкол Ю. С. К вопросу об этногенезе синдов // Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности. М., 1967; Античные авторы о древней Синдике. Будапешт, 1968; Древняя Синдика. М., 1971; Клад бронзовых монет времен Митридата XV из селения Сукко Анапского района // Вестник древней истории. 1978. № 4. Бабич И. Л. Народные традиции в общественном быту кабардинцев. М., 1995; Эволюция правовой культуры адыгов. М., 1999. Некрасов А. М. Международные отношения и народы Западного Кавказа. Последняя четверть XV — первая половина XVI в. М., 1990.
3 «Кавказский календарь» (Тифлис, 1845-1916; 72 тома), «Сборник сведений о кавказских горцах» (Тифлис, 1868—1881), «Сборник сведений о Кавказе» (Тифлис, 1871— 1885; 9 томов), «Кавказские епархиальные ведомости» (Ставрополь, 1873-1882), «Кавказская старина. (Исторический, археологический, этнографический и библиографический журнал)» (Тифлис, 1872—1873), «Кавказский сборник» (Тифлис, 1876-1912; 32 выпуска),
340
«Записки Императорского Русского Географического Общества» (СПб., 1846—1859; 13 книг), «Записки Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества» (Тифлис, 1852-1919; 30 книг), «Вестник Европы. (Журнал науки—политики—литературы)» (СПб., 1866—1918), «Военный сборник» (СПб., 1858—1917), «Донские войсковые ведомости» (Новочеркасск, 1849-1916; с 1872 г. — «Донские областные ведомости»), «Терские ведомости» (Владикавказ, 1868-1916), «Ставропольские губернские ведомости» (Ставрополь, 1850-1916), «Русский инвалид» (СПб., 1813-1916), «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (Тифлис, 1881-1929; 46 выпусков), «Северный Кавказ» (газета; Ставрополь, 1884—1906), «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею» (Тифлис, 1868-1904; 12 томов), «Русский художественный листок» (XIX в.), «Сборник сведений о Северном Кавказе» (Ставрополь, 1906-1914; 11 томов), «Византийский временник» (М., начал выходить в 1894 г.), «Сухумский листок» (газета; Сухум, 1911-1916), «Сухумский вестник» (газета; Сухум, 1912-1913), «Вестник древней истории» (начал выходить с 1937 г.), Вестники, Труды, Ученые записки Абхазского, Адыгейского, Кабардино-Балкарского, Карачаево-Черкесского и других научно-исследовательских институтов языка, литературы и истории, журналы «Советская археология», «Советская этнография» и т. д., в которых публиковались исследования как национальных, так и русских ученых о народах Кавказа, и многие другие издания.
4 Wackerbarth. Die Tscherkassier. Dresden, 1708. Peyssonnel de. Observations historiques et geografiques sur les peuples barbares qui ount habite les bords du Danube et du Pont-Euxin. Paris, 1765; Traite sur le commerce de la mer Noire. Paris, 1784; Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire. Paris, 1805. Potocki J. Memoire sur un nouveau peryple du Pont Euxin ainsi que sur la plus ancienne histoire des peuples du Taurus, du Caucase et de la Scythie. Par le comte Jean Potocki. 1796; Voyage dans les steppes d’Astrakhan et du Caucase. Histoire primitive des peuples qui ount habit-anciennement ces contrees. Nouveau periple de Pont Euxin. Par le comte Jean Potocki. 2 Bde. Paris, 1798, 1829. Pallas P. S. Bemerkungen auf eine Reise in siidlichen Staathaltershaften des Russischen Reiches in den Jahren 1793 und 1794. Bd. 2. Leipzig, 1803. Klaproth H. J. Geographisch-Historische Beschreibung des dstlichen Kaukasus. Weimar, 1814; Travels in the Caucasus and Georgia performedien the years 1807 and 1808. London, 1814; Beschreibung der russischen Provinzen am Kaspischen und Schwarzen-Meere. Berlin, 1814; Commentaire sur la description des pays Caucasiens de Strabon// Journal Asiatique. I. 1828; Kaukasische Sprachen. Halle und Berlin, 1814; Memoire dans lequel l’identite des Ossetes, peuplade 'du Caucase, avec les Alains du moyene age // Extrait des Annales de Voyages. Т. XVI. Paris, 1822; Voyage au mont Caucase et Gcorgie. 2 Volumes. Paris, 1823; Tableau historique geographique et ethnographique et politique des peoples du Caucase. Paris—Leipzig, 1827; Asia polyglotta. Paris, 1831; Beschreibung der Kaukasischen Lander. Berlin, 1834. Taitbout-de-Marigny E. Voyage en Circassie fait en 1818. Bruxelles, 1821. Puttmann H. Tscherkessenlieder. Wild und Frei. Hamburg, 1841. Urquhart D. (Davud Bey). The Flag of Circassia Speech. Glasgow, May 23, 1823; How Russia tries to got into her hands the supply of com of the whole of Europe. The English-Turkish Treaty of 1838. London, 1859; The Secret of Russia in the Caspian and Euxine: the Circassian war as affecting the insurrection in Poland. German introduction to the visit of the Circassian Deputies to England. London, 1863.
341
Neumann К. F. Russland und Tsherkessen. Stuttgart und Tubingen, 1840. Rommel C. Die Volker des Caucasus nach den Beruchter der Reisedeschrieben. Weimar, 1808. Spencer E. Travels in Circassia, Krim, Tartary etc. in 1836. 2 vol. London, 1837; Turkey, Russia, the Black sea and Circassia. London, 1854. Id. ib., 1855. MordanJ. Mission scientifique au Caucase. Etudes Archeologiques. Т. II. Recherches sur les origines des peuples du Caucase. Paris, 1889. Clowin Ivan von. The Caucasus. Geographique, historiques, ethnographique. London, 1854; Cassel, 1854. Hell Xavier Hommaire de. Les Steppes de la mer Caspienne, la Caucase, la Crimee et la Russie. Meridionale voyage pittoresque historique et scientifique. Bd. 1—3. Paris— Strasbourg, 1843—1845. Haxthausen Baron August von. The tribes of the Caucasus with an Account of Schamyl and the Murids. London, 1855. Ditson G.L. Circassians: A tour to the Caucasus. New-York—London, 1850. Mackie J.M. Life of Schamil and Narrative of the Circassian War of Independence against Russia. Boston, 1856. Wagner F. Schamyl and Circassia. London, 1854. Wagner M. Reise nach Kolchis und nach den deutschen Kolonien jenseits des Kaukasus. Leipzig, 1850; Der Kaukasus und das Land der Kosaken in den Jahren 1843—46. 2 Bde. Leipzig, 1850; Travels in Persia, Georgia and Kordistan: with sketches of the Cossack and the Caucasus. 3 Volumes. London, 1856. Dubois de Montpereux Frederic. Voyage autor du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie, en Armenie et en Crimee. 6 Tt. Paris, 1839—1843; Reise um den Kaukasus zu den Tscherkessen und Abchasen, nach Kolchis, Georgien und in die Krim. 3 Bd. Darmstadt, 1842—1846. Bodenstedt F. Les peuples du Caucase et leur guerre d’independence contre la Russie Traduit par le prince E. de Salm-Kyrburg. Paris, 1859. Kanitz F. Donau Bulgarien und der Balkan. Leipzig, 1875. Hodges J. The Tcherkess and his Victim: sketches illustrative of the moral, social and political aspects of life in Constantinople. London, 1880. Friedenthal A. Das Weib im Leben der Volker. Berlin, 1910; Das Weib als Mittelpunkt einer ethnographischen Darstellung. 2 Bde. Berlin, 1922. Baddeley J.F. The Rugged Flanks of Caucasus. 2 Vol. London, 1940; Russian in the Eighties. London, 1921. Dumezil G. La langue des Oubykhs. Paris, 1931; Recherches comparatives sur le verbe Caucasien. I. Les suffixes de temps dans les langues Caucasiennes. II. Les elements preradicaux du verbe autres que les preverbes et les indices de personnes ou de classes. Paris, 1933; Textes Chapsoug// Journal Asiatique. 1954. № 242. P. 1—48; Etudes Oubykhs. Esquisse grammatical. Textes de Haci Osman Koyu, Manyas-Balikesir (1955—1957). Paris, 1959; La fille intelligente, recit Oubykh// Tphil Soc. 1961. P. 56—67; Documents Anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. Tt. I—II. Paris, 1960—1962; Le livre des Heros legendes sur les Nartes. Paris, 1965. Widerszal L. The British policy in the Western Caucasus 1833—1842. Warszawa, 1933; Caucasian Affairs in European Politics. Warszawa, 1935; Die Kaukasischen Probleme in der europaischen Politik von 1831—1864. Warszawa, 1935. Popper W. Egypt and Syria under the Circassian Sultans, 1382—1469 A. D. Systematic Notes to Ibn Taghri Birdi’s Chronicles of Egypt//University of California publications in Semitic philology. Vol. XV. Berkeley—Los-Angeles, 1955. Farson N. The lost World of the Caucasus. London, New York, 1958. KollautzA. Abasgen—Abasgia// Reallexikon der Bisantinistik. Band 1. Heft 2. Amsterdam, 1959; Abasgia. Abhazya Tarihi’nin Bizans Donemine Ait En Onemli Belgeleri / Ceviren B. Qelebi. Istambul, 2000. Seton-Watson H. The Russian Empire. 1801—1917. Oxford, 1967. Canale M. Les estoues de Venise Florence. 1972. Pinson M. Ottoman Colonization of the Circassians in Rumili after the Crimean War.
342
Sofia, 1972. Toumanoff С. Chronology of the Kings of Abasgia and other Problems // Le Museon. 69. [1956]. P. 73—90. Karpat K. The Eviction of the Circassian from The Caucasus and The Balcans, and their settlement in Syria. Amman, 1980; The Religious and ethnic distribution of the Ottoman Population. Wisconsin, 1985; Ottoman population, 1830—1914: Demographic and social characteristics. Madison: Univ. of Wisconsin press, 1985 и др.
5 БакрадзеД. Очерк Мингрелии, Самурзакани и Абхазии//Кавказ. 1860. №№48, 49. Эсадзе С. С. Исторический очерк распространения русской власти на Кавказе. Тифлис, 1913; Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис, 1914; Волнения в Абхазии в 1866 году//Кавказский край. Тифлис, 1905. № 1. Жордания Ф. Хроника абхазских царей//Духовный вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1902. №№ 13, 14; Абхазские каталикосы. (Краткий очерк из истории Абхазской церкви). Ставрополь, 1893. Джанашвили М. Абхазия и абхазцы. (Этнографический очерк)//Записки Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Книга 16. Тифлис, 1894. Мачавариани К. Д. Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение женщины в Абхазии // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 4. Тифлис, 1884; Религиозное состояние Абхазии // Кутаисские губернские ведомости. 1889. №№ 11—14, 16, 20—22, 24, 26—29; Очерки Абхазии // Черноморский вестник. 1899. № 254, 1900. №№ 13, 17, 31, 34; Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии. Сухум, 1913; Светлой памяти павшего на войне героя корнета К. Ш. Лакербай. Батум, 1917. Такайшвили Е. Диван абхазских царей//Искусство и литература. (Ежегодник). Тифлис, 1918. №2—3. Джавахишвили И. А. История грузинского народа. Кн. 1—2. Тифлис, 1913; Экономическая история Грузии. Тт. 1—2. Тбилиси, 1930-1934; Основные историко-этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока//Вестник древней истории. 1939; Древнегрузинская историческая литература // И. А. Джавахишвили. Соч. Т. VIII. Тбилиси, 1977. — На груз. яз. Джанашиа Н. С. Религиозные верования абхазов // Христианский Восток. Т. IV. Вып. 1. Петербург, 1915; Абхазский культ и быт//Христианский Восток. Т. V. Вып. 3. Петербург, 1916; Статьи по этнографии Абхазии. Сухуми, 1960. Джанашиа С. О времени и условиях возникновения Абхазского царства // Сообщения ИЯИМК. Вып. VIII. 1940; О времени и условиях образования Абхазского царства//С. Н. Джанашиа. Труды. Т. 2. Тбилиси, 1952. — На груз. яз. Георгика (Georgica). Сведения византийских писателей о Грузии. (Греческие тексты параллельно с грузинским переводом). Тт. 1— 4. Тбилиси, 1936—1952. Каухчишвили С. Племя мисимиан // Труды Тбилисского государственного университета.,Вып. I. Тбилиси, 1936; Греческая надпись на сухумском светильнике // Труды Абхазского Института языка, литературы и истории. Вып. XXVIII. Сухуми, 1957. КаландадзеА. Археологические памятники Сухумской горы. Сухуми, 1953. Леквинадзе В. А. Вислая печать Константина Абхазского // Сообщения АН Грузинской ССР. Т. XVI. №5. Тбилиси, 1955; О древнейшей базилике Питиунта и ее мозаиках// Вестник древней истории. 1969. №2; О постройках Юстиниана в Западной Грузии// Византийский временник. Вып. 34. 1973; О Драндском храме // Кавказ и Византия. Вып. 6. Ереван, 1988. Квезерели-Копадзе Н. И. Дорожные сооружения древней Абхазии. Сухуми, 1956. АпакидзеА. М. Об итогах новых археологических раскопок в Грузии. М., 1960.
343
Апакидзе А. М., Микеладзе Т. К., Лордкипанидзе О. Д., Рамишвили Р. М. Итоги археологических исследований Причерноморской археологической экспедиции АН ГССР летом 1960 г. Тбилиси, 1962. Апакидзе А. М. и др. Великий Питиунт. Тт. I—III. Тбилиси, 1975—1978. Меликишвили Г. А. О происхождении грузинского народа. Тбилиси, 1952; К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959; Кулха // Древний мир. Сб. ст. М., 1962; Основные этапы этносоциального развития грузинского народа в древности и средневековье. М., 1964; Политическое объединение феодальной Грузии и некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии. Тбилиси, 1973. — На груз, яз.; К вопросу о характере древних закавказских и средневековых горских северокавказских классовых обществ // История СССР. 1975. Какабадзе С. С. Грузинские документы Института народов Азии АН СССР. М., 1967. Бердзенишвили Н. А.. Вопросы истории Грузии. Тт. 1—9. Тбилиси, 1964—1979. Инадзе М. П. Причерноморские города древней Колхиды. Тбилиси, 1968. Ломтатидзе К. О некоторых вопросах происхождения и расселения абхазов // Мнатоби. 1956. № 12. Антелава И. Г. Очерки по истории Абхазии XVII—XVIII веков.. Сухуми, 1949. Гамрекели В. Н. Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVTII в. Тбилиси, 1968. Рехвиашвили С. Из истории дружбы грузинских и северокавказских горцев. Тбилиси, 1977. Лордкипанидзе Г. А. Колхида VI—II вв. до н. э. Тбилиси, 1978; К истории древней Колхиды. Тбилиси, 1976. Лордкипанидзе Г. А., Кигурадзе Н. Ш., ТодуаТ. Т. Раннехристианская стела из Пицунды//Вестник древней истории. 1990. № 3. Лордкипанидзе О. Д. Древняя Колхида. Тбилиси, 1979. Мегрелидзе Ш. В. Грузия и русско-турецкая война 1877—1878 гг. Батуми, 1955; Закавказье в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Тбилиси, 1972. БоцвадзеТ. Социально-экономические отношения в Кабарде в первой половине XIX века. Тбилиси, 1965; Народы Северного Кавказа во взаимоотношениях с Грузией. Тбилиси, 1974. Бадридзе Ш. А. О времени и условиях возникновения Абхазского царства//Труды Тбилисского государственного университета. Вып. 4 (143). Тбилиси, 1972. Лежава Г. П. Изменение классово-национальной структуры населения Абхазии (конец XIX в. — 70-е гг. XX в. Сухуми, 1989. Рчеулишвили Л. Д. Купольная архитектура VIII—X веков в Абхазии. Тбилиси, 1988. Цулая Г. В. Описание Колхиды и сведения об абхазах в армянской «Географии» VII в. // Ономастика Кавказа. 2. Орджоникидзе, 1980; Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии. Домонгольский период. М., 1995 и т.д.
6 Званба С. Т. Зимние походы убыхов на Абхазию // Кавказ. 1852, № 33; Этнографические этюды. Сухуми, 1955. (Переиздание — Сухуми, 1982). Тарнава М. И. Краткий очерк истории Абхазской церкви. Сухум, 1917. Басария С. Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении. Сухум-Кале, 1923. Ашхацава С. М. Пути развития абхазской истории. Сухум, 1925. Гулиа Д. История Абхазии. Тбилиси, 1925. (Переиздание — Сухуми, 1986). Biiyiika Omer /Beygua/) (Беигуаа Омар). Abhaz Mitolojisi — Ana? mi? (Древнейшая ли абхазская мифология?). Стамбул, 1971; Kafkas Kaynaklarina Gore Ilk Yaratili§lar — Ilk Insanlik — Kafkas Gerfekleri. (Кавказские источники о первоначальном периоде зарождения человеческой цивилизации). Тт. 1-2. Стамбул, 1985-1986. Butbay Mustafa (Бутба Мустафа). Kafkasya hatiralan. (Воспоминания о путешествии по Кавказу [Февраль-август 1920 г.]). Анкара, 1990. Инал-ипа Ш. Д. Очерки по истории брака и
344
семьи у абхазов. Сухуми, 1954; Абхазы. Историко-этнографические очерки. Сухуми, 1960. (2-е доп. издание — Сухуми, 1965); Об этногенезе древнеабхазских племен. М., 1964; Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми, 1971; К вопросу о древних этнокультурных связях Западного Кавказа и Малой Азии. М., 1973; Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухуми, 1976; Очерки об абхазском этикете. Сухуми, 1984; Зарубежные абхазы. (Историко-этнографические этюды). Сухуми, 1990; Ступени к исторической действительности. (Об этнической ситуации в Абхазии XV — нач. XX вв.). Сухуми, 1992; Садзы. Историко-этнографические очерки. (Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XXVIII. Народы Кавказа. Кн. 2). М., 1995. Трапш М. М. Труды. Тт. 1-4. Сухуми, 1969—1975; Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР. Сухуми, 1962; Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии. Сухуми, 1971. Дзидзария Г. А. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке. Сухуми, 1958; Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. Сухуми, 1960; Декабристы в Абхазии. Сухуми, 1970; Участники польского национально-освободительного движения 20—40-х гг. XIX в. в Абхазии // Известия Абхазского Института языка, литературы и истории. Вып. II. Тбилиси, 1973; Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1975. (2-е доп. издание — Сухуми, 1982); Торнау Ф. Ф. и его кавказские материалы XIX в. М., 1976; Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; Труды. Тт. 1—2. Сухуми, 1988—1990. Анчабадзе 3. В. Социальное положение тльфокотлей и их классовая борьба в адыгейском обществе первой половины XIX в. //Труды Института истории АН ГССР. Т. 2. Тбилиси, 1956; Из истории средневековой Абхазии. (VI—XVII вв.). Сухуми, 1959; История и культура древней Абхазии. М., 1964; Очерк этнической истории абхазского народа. Сухуми, 1976; Проблемы истории горских народов в трудах И. Джавахишвили. Тбилиси, 1976. Анчабадзе 3., Дзидзария Г. Дружба извечная и нерушимая. (Очерки из истории грузино-абхазских отношений). Сухуми, 1972. Анчабадзе 3. В., Боцвадзе Т. Дж., Тогошвили Г. Д., Винцадзе М. В. Очерки истории народов Северного Кавказа. Вып. 1, 2. Тбилиси, 1969, 1978. Бжания Ц. Н. Из истории хозяйства абхазов. Этнографические очерки. Сухуми, 1962; Из истории хозяйства и культуры абхазов. Исследования и материалы. Сухуми, 1973. Гунба М. М. Западная Грузия и Византия. Сухуми, 1962; К вопросу о локализации крепости Трахеи// Труды Абхазского Института языка, литературы и истории. Вып. XXXIII—XXXIV. Сухуми, 1963; К вопросу о времени образования Абхазского царства//Известия Абхазского Института языка, литературы и, истории. Вып. II. Сухуми, 1973; Новые памятники цебельдинской культуры. Тбилиси, 1978; Аԥсны аҭоурых аочеркқуа. [Очерки истории Абхазии]. Аҟуа, 1982; Атарские гончарные печи. Тбилиси, 1985; Абхазия в I тысячелетии н. э. (Социально-экономические и политические отношения). Сухуми, 1989; Абхазия во II тысячелетии нашей эры (XI—XIII вв.). Сухум, 1999. Хонелия P. X. Некоторые вопросы политической истории Абхазии VI—VIII вв. по данным армянских источников // Сборник научных работ аспирантов. Сухуми, 1967; Некоторые вопросы историографии создания Абхазского царства // Труды Абхазского государственного университета. Т. 3. Сухуми, 1983. Амичба Г. А. Сведения средневековых грузинских нарративных источников об Абхазском царстве и Абхазском княжестве. Тбилиси, 1969; Политическое положение ран-
345
несредневековой Абхазии (VI—X вв.). Сухуми, 1983; Восстание миссимиан в середине VI века // Известия Абхазского Института языка, литературы и истории. Вып. XIII. Тбилиси, 1985; Абхазия и абхазы в средневековых грузинских повествовательных источниках. Тбилиси, 1988; Культура и идеология раннесредневековой Абхазии (V—X вв.). Сухум, 1999. Амичба Г. А., Папуашвили Т. Г. Из истории совместной борьбы грузин и абхазов против иноземных завоевателей. (VI—VIII вв.). Тбилиси, 1985. Шамба Г. К. Ахаччараху — древний могильник нагорной Абхазии. Сухуми, 1970; Эшерские кромлехи. Сухуми, 1974; Эшерское городище. Тбилиси, 1980; Очерки по археологии Абхазии. Сухуми, 1981; Раскопки древних памятников Абхазии. Сухуми, 1984. Акаба JI.X. У истоков религии абхазов. Сухуми, 1979; Исторические корни архаических ритуалов абхазов. Сухуми, 1984. Бгажба О. X. Очерки по ремеслу средневековой Абхазии (VIII—XIV вв.). Сухуми, 1977; По следам кузнеца Айнара. Из истории кузнечного ремесла древней и средневековой Абхазии (VII в. до н. э. — XV в. н. э.). Сухуми, 1982; Черная металлургия и металлообработка в древней и средневековой Абхазии (VIII в. до н. э. — XV в. н. э.). Тбилиси, 1983. Цвинария И. И. Поселение Гвандра. Тбилиси, 1978; Культура энеолита и ранней бронзы в Абхазии. Сухуми, 1978; Новые памятники дольменной культуры Абхазии. Тбилиси, 1990. Шамба С. М. О чем говорят монеты. Сухуми, 1982; Монетное обращение на территории Абхазии (V в. до н.э. — XIII в. н.э.). Тбилиси, 1987; Гюэнос—I. Тбилиси, 1988. Бжания В. В. Древнейшая культура Абхазии. (Эпоха неолита и ранней бронзы). М., 1966. Аджинджал И. А. Из этнографии Абхазии. Сухуми, 1969. Ардзинба В. Г. Хаттские истоки социальной организации древнехеттского общества. М., 1971; Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982. Аджинджал Е. К. К вопросу проникновения христианства в Абхазию//Труды Абхазского государственного музея. Вып. V. Сухуми, 1980; Об одном аспекте ранневизантийской дипломатии на Кавказе// Вестник древней истории. 1987. № 3; К истории абхазской автокефальной церкви//XVIII Международный конгресс византинистов. Резюме сообщений. Т. I. М., 1991; Из истории абхазской государственности. Сухум, 1996; Из истории христианства Абхазии. Сухум, 2000. Шервашидзе Л. А. Археологические раскопки в крепости Абаанта. Полевые археологические исследования в 1976 г. Тбилиси, 1979; Некоторые средневековые стенные росписи на территории Абхазии. Тбилиси, 1971; Средневековая монументальная живопись в Абхазии. Тбилиси, 1980. Малия Е. М. Народное изобразительное искусство абхазов. Тбилиси, 1970; Одежда и жилище абхазов. Тбилиси, 1982; Украшение одежды у абхазов. Сухуми, 1985. Анчабадзе Ю. Д. Традиционные развлечения абхазского крестьянства в конце XIX — начале XX века // Советская этнография. 1981. № 4; Общественный быт абхазов во второй половине XIX — начале
XX веков. Дисс. канд. ист. наук. М., 1981; Абаза. (К этно-культурной истории Северо-Западного Кавказа) // Кавказский этнографический сборник. VIII. М., 1984. Лакоба С. 3. Боевики Абхазии в революции 1905-1907 годов. Сухуми, 1984; «Крылились дни в Сухум-Кале...». (Историко-культурный очерк). Сухуми, 1988; Новые источники по истории революционного движения 1905—1907 гг. в Абхазии // Источниковедческие разыскания 1985 г. Тбилиси, 1988; Очерки политической истории Абхазии. Сухуми, 1990; Абхазия — де-факто или Грузия де-юре? (О политике России в Абхазии в постсоветский период. /1991—2000 гг./). Саппоро, 2001. Лакоба С. 3., Шамба С. М. Кто же такие абхазы // Совет-
346
ская Абхазия. 1989, 8 июля. Бигвава Валерий. Образ жизни абхазских долгожителей. Тбилиси, 1988. Бигуаа Валери. Ац,сны атоурых. Акуа, 1992. BeyguaV. Abhazya tarihi / Ceviren Papapha Mahinur Tuna. Istambul, 2000. Чачхалиа Д. К. Абхазская Православная церковь. Хроника. Прибавления. М., 1997; Хроника абхазских царей. Статьи. Заметки. М., 1999. Тхайцухов М. С. Этнокультурная общность абхазов и абазин поданным ономастики // Актуальные проблемы истории народов Кавказа. (Материалы научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения 3. В. Анчабадзе). Сухум, 1996. Дбар Д. Из истории абхазского католикосата. М., 1997. Гуажба Р. Убыхи: наша общая история // Республика Абхазия. 1998. №№ 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148; 1999. №№ 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 49, 52. Дбар С. А. Обычаи и обряды детского цикла у абхазов (вторая половина XIX — начало XX вв.). Сухум, 2000. Бутба В. Ф. Племена Западного Кавказа по «Ашхарацуйцу». Сравнительный анализ. Сухум, 2001. ЦвижбаЛ. И. Этно-демографические процессы в Абхазии в XIX веке. Сухум, 2001 и др.
7 Адыль-Гирей Кешев. Избранные произведения. Нальчик, 1976. Хан-Гирей [Султан]. Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов // Русский вестник. Т. V. СПб, 1842; Избранные произведения. Нальчик, 1974; Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. (Переиздания — Нальчик, 1988; 1992). Ногмов Ш. Б. Предания атыхейцев, небесполезные для истории России... // Кавказ. 1849. № 45, 5 ноября; О Кабарде // Закавказский вестник. Тифлис, 1847. №№ 4-20; О быте, нравах и обычаях древних атыхейских или черкесских племен... // Кавказ. 1849. №№ 36, 39; История адыхейского народа... Тифлис, 1861; История адыгейского народа. Нальчик, 1956. (Переиздания — Нальчик, 1958; 1983; 1994). Кудашев [Кудашов] В. Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. Ечерух М. Роль кавказских горцев в политической и общественной жизни Турции // Moussoulmanine (Мусульманин). Париж, 1910. №6. Izzet Met Cunatako. Kafkas Tarihi. Istanbul, 1330 (1912); Evrikalarim. (Hattiler). Istanbul, 1331 (1915); Hattiler ve kadim Yunanistan Cerkesleri. Istanbul, 1331 (1915); Kadim Trakya’da Cerkesler ve kadim Kafkasya. Istanbul, 1334 (1918). Namitok A. Origines des Circassiens. Paris, 1939. Намиток А. Происхождение черкесов. Ч. 1-2. Париж, 1939 // Архив Кабардино-Балкарского НИИ. Berkok Ismail. Tarihte Kafkasya. Istanbul, 1958. Тхамоков H. X. Социально-экономический и политический строй кабардинцев в XVIII веке. Нальчик, 1961. Shauket Mufti (Habjoko). Heroes and Emperors in Circassian History. Beirut, 1975. Хавжоко III. М. Герои и императоры в черкесской истории. Нальчик, J994. Сакуров В. Н. Из истории взаимоотношений Кабарды и Крыма в конце XVII — нач. XVIII в. // Сборник статей по истории Кабарды и Балкарии. Вып. 10. Нальчик, 1976; О характере русско-кабардинских политических связей в 70-х годах XVII в. // Сборник статей по истории Кабарды и Балкарии. Вып. 10. Нальчик, 1976. Haghandoqa М.К. The Circassians: origin, history, customs, traditions, immigration to Jordan. Amman, 1985. Панеш Э. X. О социальном значении этнонима «касог» // Взаимосвязь социальных и этнических факторов в современной и традиционной культуре. М., 1983; О трансформации некоторых религиозных представлений адыгов в период христианизации Кавказа // Этническая культура: динамика основных элементов. М., 1984; Этнокультурные компоненты и особенности традиционной военной организации адыгов
347
в конце XVIII — начале XX в. // Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и Средней Азии. Вып. I. М., 1990. Туганов Р. У. Страницы прошлого. Нальчик, 1989; История общественной мысли кабардинского народа в первой половине XIX века. Нальчик, 1998. Налоев 3. М. Из истории культуры адыгов. Нальчик, 1978; Этюды по истории культуры адыгов. Нальчик, 1985; Корни и ветви. Нальчик, 1991. Мамбетов Г. X. Крестьянские промыслы в Кабарде и Балкарии во второй половине XIX — начале XX в. Нальчик, 1962; Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии: Вторая половина XIX — 60-е годы XX в. Нальчик, 1971. Карданов Ч. Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (конец XIX — начало XX в.). Нальчик, 1963; Страницы революционного прошлого Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1976; У истоков дружбы. Нальчик, 1982. ДумановХ. М. Обычное имущественное право кабардинцев во второй половине XIX— начале XX в. Нальчик, 1976; Социальная структура и обычное право кабардинцев в нормах адата. Нальчик, 1990; Территория и расселение кабардинцев и балкарцев в XVIII — начале XX века. Нальчик, 1992. Джимов Б. М. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в XIX в. Майкоп, 1966. Аутлев М., Зевакин Е., ХоретлевА. Адыги. Историко-этнографический очерк. Майкоп, 1957. Мафедзев С. X. Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX — начале XX в. Нальчик, 1979; О народных играх адыгов (XIX— начало XX в.). Нальчик, 1986; Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов в XIX — начале XX в. Нальчик, 1991. Меретуков М. А. Хозяйство у адыгов (XIX — начало XX в.) // Культура и быт адыгов. (Этнографические исследования). Вып. 3. Майкоп, 1980; Семья и брак у адыгских народов. Майкоп, 1987. Кумыков Т. X. Совместная борьба русского и кабардинского народов против иностранных захватчиков в XVI-XVIII вв. // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Нальчик, 1955; Присоединение Кабарды к России и его прогрессивное значение. Нальчик, 1957; Социально-экономические отношения и отмена крепостного права в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1959; Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок в XIX в. Нальчик, 1962; Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX веке. Нальчик, 1965; Хан-Гирей: (Жизнь и деятельность). Нальчик, 1968; Кази Атажукин. Нальчик, 1969; Казы-Гирей. Нальчик, 1978; Дмитрий Кодзоков. Нальчик, 1985; Культура и общественно-политическая мысль Кабарды первой половины XIX века. Нальчик, 1991; Выселение адыгов в Турцию — последствие Кавказской войны. Нальчик, 1994. Кумыков 3. Т. Вопрос о выселении адыгов в Турцию в 50-60-х годах XIX века в историческом кавказоведении. Нальчик, 1998. Бгажноков Б. X. Адыгский этикет. Нальчик, 1978; Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983; С. Сиюхов о встрече Александра II с абадзехами // Мир культуры. Вып. 1. Нальчик, 1990; Адыгская этика. Нальчик, 1999. Бейтуганов С. Н. Кабарда и Ермолов. Очерки истории. Нальчик, 1993; Кабарда в фамилиях. Нальчик, 1998. БижевА. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в. Майкоп, 1994. Гугов P. X. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. Нальчик, 1999. Нагоев А. X. Материальная культура кабардинцев в эпоху позднего средневековья (XIV—XVII вв.). Нальчик, 1981. Quandour М. I. Muridism. A Study of The Caucasian wars 1819-1859. London, 1996. Кандур М. Мюридизм. История кавказских войн. 1819-1859 гг. Нальчик, 1996. Berzeg Sefer Е., Yedip Haluk.
348
Kafkas Hasreti. Ankara, 1966. Berzeg Sefer E. Vatan du§iincesi. Ankara, 1967; Muhacerette Kuzey Kafkasya’li yazarlar. Ankara, 1968; Adige-Cerkes alfabesinin tarihfesi. Ankara, 1969; Gurbetteki Kafkasya’dan Belgeler. I—III. Ankara, 1985—1989. Berzeg Sefer E., Ozbay Ozdemir. Kuzey Kafkasya Gogmenlerinde Besteciler, Ressamlar, Hattatlar. Ankara, 1971. Калмыков И. X. Черкесы: Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1974. (Переиздание — Черкесск, 1978). Керашев А. Г., Чирг А. Ю. История Адыгеи с древних времен до конца XIX века. Майкоп, 1991. Кажаров В. X. Адыгская Хаса. (Из истории сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии). Нальчик, 1992; Адыгская вотчина. К проблеме основной социальной единицы адыгского феодального общества. Нальчик, 1993; Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII — первой половине XIX века. Нальчик, 1994. Бетрозов Р. Ж. К древней истории племен Центрального Кавказа. Нальчик, 1982; Этническая история адыгов. Нальчик, 1996. Касумов А. X. Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах и международные отношения XIX в. Ростов-на-Дону, 1989; Касумов А. X., Касумов X. А. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за независимость в XIX в. Нальчик, 1992; Борьба адыгов Закубанья за независимость. (30-40 годы XIX в.) // Адыги. Нальчик, 1992. № 4. Эьмесов А. М. Из истории Русско-Кавказской войны. Нальчик, 1991. Трахо Р. Черкесы. Нальчик, 1992. Мамхегова Р. А. Очерки об адыгском этикете. Нальчик, 1993. Хатко С. X. Черкесские мамлюки. Майкоп, 1993; Генезис черкесских элит в султанате мамлюков Османской империи. Майкоп, 1999. Мальбахов Б., Эльмесов А. Средневековая Кабарда. (Внутренние и внешние аспекты истории). Нальчик, 1994. Ловпаче Н. Г. Этническая история Западной Черкесии. Майкоп, 1997. Хашхожева P. X. Черкешенки в истории. Нальчик, 1997. Унежев К. Феномен адыгской (черкесской) культуры. Нальчик, 1997. Кудаева С. Г. Огнем и железом. Igni et Ferro. — Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю (20-70 гг. XIX в.). Майкоп, 1998. КушхабиевА. В. К истории переселения черкесов в Сирию и Иорданию. (Документы и материалы) // Живая старина. 1991. № 1; Черкесы в Сирии. Нальчик, 1993; Черкесская диаспора в арабских странах (XIX—XX вв.). Нальчик, 1997 и другие.
8 Беседа (на абх. яз.) записана 3 сентября 1996 г. в г. Сухум. Запись хранится в личном архиве автора работы.
9 См.: Абхазия в советскую эпоху. Абхазские письма (1947—1989). Сб. документов. Т. 1. Сухум, 1994. С. 81-86.
10 Там же. С. 94.
11 Так назвал Г. Н. Джибладзе роман “Последний из ушедших”. (Џьиблаӡе Г. “Ацынҵәарах” мамзаргьы аублаақуа родиссеиа / Ақырҭшәахьтэ еитеигеит Р. Капба. Аҟуа, 1987. Ад. 11).
12 Шьынкуба Б. Иҩымҭақуа реизга. 3-томкны. 3-тәи ат. Аҟуа, 1979. Ад. 509—510.
13 В абхазском оригинале романа вместо этнонима «убых-убыхи» встречается «аубла-аублаа»: именно так, как считают многие, часто называют их абхазы. Однако, по некоторым сведениям, убыхи сами себя называли «пех». Вместе с тем, есть материалы, свидетельствующие о наличии (в прошлом) фамилии Аублаа в Сочинском районе. Например, А. Ф. Рукевич отмечал: «В этом ауле (на реке Сочи-пста) жил убыхский князь Аубла
349
Ахмат, слывший по всему побережью как отчаяннейший пират, грабивший... крымские и анатолийские берега... Горцы, населяющие эту часть побережья, принадлежали к племени убыхов, находившегося под властью князя Берзекова...». (Рукевич А. Ф. Из воспоминаний старого эриванца /1832—1839 гг./ // Исторический вестник. 1914, декабрь. С. 771. См. также: «Литературная Абхазия». 1991. № 2. С. 159). Думается, что в данном случае Аубла подчеркивает родовую принадлежность Ахмата. И в исследовании Ш. Д. Инал-ипа «Садзы» в числе общеабхазских и садзских (садзы /или джигеты/ — абхазская этническая группа, соседствовавшая с убыхами) фамилий приводится фамилия Аублаа. (Инал-ипа Ш. Д. Садзы. Историко-этнографические очерки. М., 1995. С. 142). В этом же труде ученый говорит о новоафонском старожиле У. С. Куруа, знавшем «предание, согласно которому абхазы произошли от представительницы рода Аублаа (Аԥсуаа зхылҵыз Аублаа иԥҳа лоуп)». (Там же. С. 152). Таким образом, многие исторические и лингвистические материалы свидетельствуют о том, что «убыхи» и «аублаа» не oдно и то же. А этноним «убыхи», встречающийся в русских, немецких, французских и других источниках, происходит от самоназвания убыхов «пёх». Хотя этот вопрос требует более всестороннего исследования.
14 Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1975. С. 189.
15 Там же.
16 Вейденбаум Е. Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888. С. 207.
17 История народов Северного Кавказа. (Конец XVIII в. — 1917 г.). М., 1988. С. 207.
18 Там же.
19 Есть материалы, свидетельствующие о том, что на Кавказе осталось лишь 13 семейств (80 душ) в разных черкесских аулах Кубанской области и 40 дворов на Черноморском побережье от с. Головинского. (Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XII. 1891. С. 1. См. также: Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 211.).
20 Аҵнариа В. Ареквием ашьамҩазы // В. Аҵнариа. Аамҭеи арҿиамҭеи. Алитературатә-критикатә статиақуа. Аҟуа, 1989. Ад. 205—206, 229.
21 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 17.
22 Джопуа Т. Ш. Формы повествования в современной абхазской прозе. (Автор-повествователь — герой). Дисс. канд. филологических наук. М., 1987. С. 126-127.
23 Шинкуба Б. Последний из ушедших. Роман / Перев. [К. Симонова и Я. Козловского] // Б. Шинкуба. Последний из ушедших. Роман и повести. Нальчик, 1994. С. 8. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием переводчиков и страницы. Если перевод вызывает сомнение, то дается подстрочный перевод оригинала из 3-его тома собр. соч. Б. Шинкуба на абхазском языке /смотрим сноску № 12/; ссылки в тексте с указанием тома и страницы.)
24 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 81.
25 Машбаш И. Жернова. Исторический роман / Авторизованный перев. с адыгейского Е. Карпова. Майкоп, 1993. С. 288. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием автора и страницы.)
26 Элиаде М. Аспекты мифа / Перев. с французского. М., 2000.
350
27 Званба С. Т. Этнографические этюды. Сухуми, 1955. Переиздание — Сухуми, 1982.
28 Званба С. Зимние походы убыхов на Абхазию // Кавказ. 1852. № 33.
29 Лакербай Ю. Избранное. Стихи. М., 2000. С. 38.
30 В исторической и художественной литературе это имя встречается в разных вариантах, в том числе: Берзедж Джирандук, Хаджи-Курандук, Хаджи-Керандук, Хаджи-Керантух-Берзек (иногда Берзег) и т. д.
Первая часть имени «Хаджи» (в каком бы сочетании она не встречалась) означает, что герой совершил хадж, т. е. паломничество в Мекку.
31 Рукевич А. Ф. «Из воспоминаний старого эриванца» (1832—1839 гг.) // Исторический вестник. 1914. С. 771—772. См. также: Литературная Абхазия. 1991. № 2. С. 159—160.
32 А. Фонвиль — французский разведчик на Западном Кавказе в 1863—1864 гг., публицист. Он — свидетель выселения черкесов в 1864 г. Его сочинение «Последний год войны Черкесии за независимость. 1863—1864 гг.» вполне можно отнести к мемуарной литературе, имеющей историческую, этнографическую и отчасти художественную ценность. Сочинение впервые на русском языке было опубликовано в «Ежедневных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» за 1865 год (№№ 21, 22 и 25), отдельной книгой издано в Краснодаре в 1927 г., переиздано Северо-Кавказским филиалом традиционной культуры МЦТК «Возрождение» в 1990 г.
33 Фонвиль А. Последний год войны Черкесии за независимость. 1863—1864 гг. (Из записок участника-иностранца). Б. м., 1990. С. 11.
34 За год до выселения убыхов, т. е. в марте 1863 г., действительно состоялась встреча делегации убыхов из почетных представителей народа во главе с Хаджи Берзек Керантухом с владетельным князем Абхазии Хамутбеем (Михаилом) Чачба (Шервашидзе). Но она проходила в Абхазии. Убыхи ездили к нему за советом. А «тот рекомендовал сложить оружие, считая сопротивление бесполезным, которое может только разорить их землю». (Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 189).
35 Т. Лапинский, например, несколько другого мнения о Хаджи Берзек Керантухе (Хаджи-Керандуке). Он считал, что ему особо доверять нельзя. Лапинский даже приводит один печальный факт, связанный с убийством капитана Гордона. (Речь идет о польском офицере Казимире Гордоне, который был послан эмиссаром на Кавказ в июне 1846 г. князем А. Е. Чарторыйским. Ему поручалось достичь договоренности с Шамилем, убедить других предводителей северокавказских народов в необходимости сплотиться вокруг имама для более эффективного противостояния царским войскам, усилить контакты с завербованными в царскую армию поляками и т.д.) Гордон был убит в 1847 г. (или 1849 г.). Лапинский, прибыв к черкесам, попытался узнать подробности преступления. В Анапе, Шапсугии и Абадзехии он услышал, что за голову Гордона Хаджи-Керандук получил от царского начальника в Сухум-Кале 400 серебряных рублей. (См.: Теофил /Теффик-бей/ Лапинский. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских / Перев. с немецкого В. К. Гарданова. Нальчик, 1995.)
36 Арутюнов Л. Н. Развитие эпических традиций в современной советской литературе // Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. М., 1981. С. 227-228.
351
37 Раевский Николай Николаевич (1801—1843) — генерал-лейтенант; в 1839—1841 гг. начальник Черноморской береговой линии. Он осуждал жестокую политику царизма на Кавказе.
38 Торнау Ф. Ф. Воспоминания Кавказского офицера. 1835 год. Часть I. М., 1864. С. 5-6.
39 Лермонтов М. Ю. Измаил-бей // М. Ю. Лермонтов. Собр. соч.: В 4-х тт. Т. II. М., 1976. С. 232-233.
40 См.: Тхагазитов Ю. М. Духовно-культурные основы кабардинской литературы. Нальчик., 1994. С. 51. (Перевод отрывка с кабардинского — Ю. Тхагазитова).
41 Там же. С. 51—52.
42 См.: Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. С. 87.
43 Там же. С. 168.
44 Потто В. История 44-го Драгунского Его Императорского Величества государя наследника цесаревича полка. Т. 8. СПб., 1895.
45 Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис, 1914.
46 Тхагазитов Ю. М. Указ. соч. С. 45—50.
47 См.: Бгажноков Б. X. С. Сиюхов о встрече Александра II с абадзехами // Мир культуры. Выпуск 1. Нальчик, 1990. С. 149—153.
48 Осман-бей. Воспоминания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе // Кавказский сборник. Т. II. Тифлис, 1877. С. 169.
49 См.: Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. С. 189.
50 Цаликов А. Последний из убыхов. Кавказская быль // Кавказские курорты. Пятигорск, 1913. № 18. С. 4—5. Рассказ вновь напечатан в книге «Абхазские сказки и легенды» / Составитель И. Хварцкия. М., 1994. С. 250—254. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страницы.)
51 Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // М. Ю. Лермонтов. Собр. соч.: В 4-х тт. Т. IV. М., 1976. С. 19. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страницы.)
52 Смирнов И. П. Порождение интертекста. (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака). 2-е издание. СПб., 1995.
53 Веселовский Н. И. О погребениях с конем на Северном Кавказе и в Крыму. Доклад в заседании Императорского Русского Археологического Общества // Исторический вестник. 1896. № 3.
54 Инал-ипа Ш. Д. Очерки об абхазском этикете. Сухуми, 1984. С. 148-149.
55 См.: Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Т. XII. Ч. II. Тифлис, 1904. С. 796. (№ 666).
56 Всеподданейший Отчет Главнокомандующего Кавказскою Армиею по военно-народному управлению за 1863—1869 гг. СПб., 1870. С. 75.
57 Там же. С. 75—76.
58 Русский архив. Кн. III. 1889. С. 287—288. См. также: Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. С. 247.
352
59 Кожинов В. О творчестве Б. Шинкуба // Б. Шинкуба. Последний из ушедших. Нальчик, 1994. С. 667.
60 Нан — труднопереводимое выражение, обычно его употребляют пожилые женщины, обращаясь к кому-либо, как правило, младшему мужчине или женщине.
61 В исторической, художественной и публицистической литературе встречаются несколько вариантов имени этой личности, в том числе: Сефер-бей, Сефир-бей Заноко, Сафарбей, Сефер, Сафербий Зан, Зан-Уко (Зан-оглу, Зан-ико, Хан-оглу), Сефер-паша Зан-оглы, Сафир-паша, Ахан-ипа и т. д.
В тексте в основном используется имя «Сефербей», а при анализе того или иного произведения — вариант имени, который дает писатель.
62 Осман-бей. Указ. соч. С. 201.
63 Там же. С. 201-202.
64 Там же. С. 202.
65 В исторической и художественной литературе встречается несколько вариантов имени наиба: Магомет Амин Асалаев (Асиялав), Мухаммед-Эмин, Мухаммед Амин, Магомет-Амин, Магомет Эмин, Мохамед Амин, Магомед Амин, Эмин-бей, Наиб-паша. «Амин» по-арабски означает «верный». Так на Северо-Западном Кавказе (главным образом в среде абадзехов) наиб стал Магометом-Амином.
В тексте в основном используется имя «Магомет-Амин», а при анализе художественного текста — вариант имени, который дает писатель.
66 Керашев А. Т. Политическая деятельность князя Сефер-бея Заноко в годы Кавказской войны // Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства. (Сб. статей). Нальчик, 1994. С. 229.
67 Там же. С. 229.
68 Это, кстати, подтверждает Теофил Лапинский в своем сочинении «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» (перевод с немецкого В. К. Гарданова. — Нальчик, 1995. С. 221, 231, 255, 357, 400).
69 Р[...]. Магомет-Амин // Русский художественный листок. 1860. № 16, 1 июня. С. 56.
70 ХавжокоЖ. Магомед-Амин // Тарих. 1996. № 2—3. С. 85.
71 Осман-бей. Указ. соч. С. 171.
72 Т. Лапинский отмечал, что «Абазия — страна адыгов». Под «абазами», или «адыгами», он, видимо, имел в виду адыгов (кабардинцев, шапсугов, натухайцев, абадзехов и других), а также убыхов, абазин и абхазов.
73 Лапинский Теофил (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских / Перев. с немецкого В. К. Гарданова. Нальчик, 1995. С. 392.
74 Там же. С. 222-223.
75 Там же. С. 291.
76 Панеш А. Магомет-Амин на Северо-Западном Кавказе (1848-1859 гг.) // Россия и Черкесия (вторая половина XVIII в. — XIX в.). Майкоп, 1995. С. 135.
77 Хан-Гирей — адыгский историк, просветитель, командир царского конвоя, флигель-адъютант императора Николая I (первая половина XIX в.). Ему посвящен другой исторический роман И. Машбаша «Хан-Гирей» (Майкоп, 1998).
353
78 К сожалению, в XX в. сложилась порочная традиция художественного перевода через подстрочник. Если, например, никому в голову не приходило английскую, испанскую, немецкую, французскую, арабскую или иную национальную классику переводить через подстрочник, то эта практика распространилась при переводе произведений с языков народов (особенно малочисленных) бывшего СССР. Негативные последствия такого подхода ощущаются и в переводе романа Б. Шинкуба «Последний из ушедших». И самое неприятное то, что именно с более доступного русского перевода осуществлялись и другие переводы на языки народов мира. При этом, естественно, страдает художественный уровень произведения.
79 См. о нем: Бигуаа В. А. Литература абхазской диаспоры в Турции. Творчество Омара Бейгуаа // Литературное зарубежье: Проблема национальной идентичности. Вып. I. М., 2000. С. 140—163. Он же. Абхазская литература в историко-культурном контексте. Исследования и размышления. М., 1999. С. 77—101.
80 Гулиа Г. Жили поэты. Сухуми, 1990. С. 338—339.
81 Там же. С. 339.
82 Аԥсуа лакуқуа / Еиқуиршәеит С. Зыхуба. Аҟуа, 1997. Ад. 66-71.
83 ЦаликовА. Кавказ и Поволжье. М., 1913. С. 14.
84 Аҵнариа В. Иарбоу иусумҭа. Ад. 211-212.
85 Там же. С. 212.
86 Результаты своих исследований и наблюдений И. Бларамберг изложил в трехтомной рукописи «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа» (1834), написанной на французском языке. К сожалению, она более ста лет не была доступна читателям, ибо это сочинение по распоряжению императора Николая I было сдано в архив с грифом «совершенно секретно». Лишь в 1992 г. рукопись была переведена на русский язык И. М. Назаровой и А. И. Петровым и под названием «Кавказская рукопись» опубликована в Ставропольском книжном издательстве.
87 Бларамберг И. Кавказская рукопись. Ставрополь, 1992. С. 79.
88 Кох К. Черкесы // Адыги. Нальчик, 1992. № 4. С. 72.
89 Там же. С. 72-73.
90 Дубровин Н. Черкесы (Адыге) // Черкесы (Адыге). Материалы для истории черкесского народа. Вып. 1. Нальчик, 1991. С. 50—78.
91 Хицунов П. Остатки некогда бывшего христианства на Кавказе // Кавказ. 1846. № 35.
92 П. У. [П. К. Услар]. Начало христианства в Закавказье и на Кавказе // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. II. Тифлис, 1869. I. С. 1—24.
93 Хазров И. Остатки христианства между закубанскими народами // Кавказ. 1846. №42.
94 Люлье Л. Я. Черкесия. Историко-этнографические статьи. Перемышляны, 1990. С. 25-36.
95 Удивительно, что на рисунке древнего святилища в долине реки Саше (Соча), помещенного в книге Белла (Bell J. S. Journal of a residence in Circassia during the years 1837, 1838 and 1839. Vol. II. London, 1840), на дереве (видимо, священное, похожее на дуб)
354
подвешено изделие (вероятно из металла), внутри которого виден крест. Вполне возможно, что жители этого региона, в частности убыхи и садзы по традиции, сформировавшейся тысячелетия тому назад, почитали христианские культовые сооружения и символику.
96 Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 131.
97 См.: там же. С. 93.
98 Указ. беседа с Б. Шинкуба.
99 Возможно, автор использовал предание об Елыр-ныхе, записанное самим Б. Шинкуба в 1948 г. Согласно преданию, какой-то пастух, идя через лес, заметил необычный предмет в образе орла. Он объявил народу о находке. Люди были удивлены... О нем услышал и Адиан (видимо, князь. — В. Б.) и сказал, что «орел» принадлежит ему. Он попытался взять его, но не смог поднять; только на двенадцати арбах смогли привести «орла» во дворец князя. Однако там он начал творить невероятные вещи: Адиан над ним поставил крышу, а он сломал ее. Почувствовав, что предмет обладает какой-то сверхъестественной силой, князь пригласил знахаря. А тот, посмотрев на орла, сказал: «Ты принес его для украшения дворца, но “орел” —святилище, он не может принадлежать тебе, ты должен вернуть его на место». (Б. Шьынқуба. Ахьырҵәаҵәа. /Аԥсуа жәлар р ҿаԥыцтә ҳәамҭақуеи ретнографиатә бзазара иадҳәалоу аматериалқуеи/. Аҟуа, 1999. Ад. 390). Адиан согласился вернуть «орла», теперь его смог понести один человек. Поставили там же, где он раньше «сидел», и люди начали молиться ему. Это место стало святилищем.
100 В частности, И. А. Гюльденштедт, путешествовавший по Кавказу в 1770—1773 гг., отмечал, что «округ Убух» входил в Северо-Западную Абхазию, известную по многим другим источникам под названием Малая Абхазия. (И. А. Гюльденштедт. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. СПб, 1809. С. 143).
101 В Псху до окончания Кавказской войны жило воинственное абхазское вольное общество псхувцев (ԥсҳәаа), до полного выселения воевавшее, как и убыхи, с царскими войсками.
102 Информаторы говорили, что это святилище было у ахчипсувцев (ахчыԥсаа — абхазская этническая группа).
103 Чурсин Г. Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957. С. 42.
104 КрыловА. Б. Постсоветская Абхазия. (Традиции. Религии. Люди). М., 1999. С. 133.
105 Там же. С. 136.
106 Там же. С. 137.
107 Там же.
108 Там же. С. 141.
109 Там же. С. 151.
110 Указ. беседа с Б. Шинкуба.
111 Чурсин Г. Ф. Указ. соч. С. 42.
112 Мифы народов мира: В 2-х тг. Т. 1. М., 1980. С. 90.
113 Там же. С. 75.
114 Там же.
115 Там же. С. 76.
355
116 См. об этом: В. А. Бигуаа. Мифы об аргонавтах. Исторические и культурные связи древней Абхазии и Греции // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Вып. II. М., 1996. С. 246—275.
117 См.: Шакирбай Г. 3. Абхазские топонимы Большого Сочи. Сухуми, 1978. С. 38.
118 Там же. С. 43-44.
119 Чирикба В. А. Расселение абхазов в Турции // Инал-ипа Ш. Д. Садзы. Историкоэтнографические очерки. Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XXVIII. Народы Кавказа. Кн. 2. М., 1995. С. 271.
120 ЛюльеЛ. Я. Черкесия. Историко-этнографические статьи // Черкесы (Адыге). Нальчик, 1991. С. 307.
121 Шакирбай Г. 3. Указ. соч. С. 16.
122 Евлиа Челеби. Книга путешествий. Ч. 2. М., 1972. С. 50—51.
123 См.: Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 132, 344, 534—535.
124 В данной ситуации Шарах был именно таким гостем, поскольку мать Зауркана была абхазкой, а Шарах был представителем ее рода, народа. Вообще, по абхазским, убыхским, горским обычаям, родственники по материнской линии считались самыми близкими людьми.
125 О значимости исследования Г. А. Дзидзария для кавказоведения пишет, например, кабардинский ученый Г. X. Мамбетов. (См.: Г. X. Мамбетов. Некоторые вопросы адыгского мухаджирства в буржуазной историографии // Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции 24—26 октября 1990 г. Нальчик, 1994. С. 39).
126 Арутюнов Л. Н. Развитие эпических традиций в современной советской литературе // Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. М., 1981. С. 229.
356
